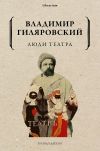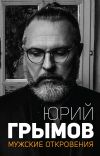Текст книги "Изобретение театра"

Автор книги: Марк Розовский
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Здесь была также художественно-промышленная школа И. М. Галкина и Н. С. Богданова – обучали резьбе, чеканке, керамике, а в другой части дома композитор С. И. Танеев обучал хоровому пению в классах народной консерватории. Это проникновение культуры в дом завершилось тем, что в 1913 году здесь все переоборудовали под синематеатр «Унион», чья популярность в советские годы еще более возросла с присвоением зданию профиля и звания Кинотеатра Повторного фильма.
Тут уж появился я – прогульщик уроков в школе – десятки раз я смотрел здесь любимые фильмы, и не я один: «Повторка» была и остается священным московским местом, вызывающим ностальгические ретрослезы при первом воспоминании.
Мы получили «Повторку» в момент, когда там уже несколько лет НИЧЕГО не было, вернее, ВСЕ, что было, – было разрушено.
Создать заново новый кинотеатр, отвечающий современным требованиям («мультиплекс»), стало невозможно, поэтому пустующее и разрушенное полностью изнутри помещение Решением Правительства Москвы было передано нам.
Отныне на 2-м и 3-м этаже здания плюс вестибюль 1-го этажа – располагается Московский Государственный театр «У Никитских ворот», с чем вас и поздравляем.
Р.S. Я бы добавил к истории дома еще и историю Немецкой слободы, располагавшейся, как известно, у Никитских ворот. Откройте «Повести Белкина» и прочтите начало пушкинского «Гробовщика». Действие «Гробовщика» – вы обнаружите это сразу – происходило вот здесь, рядом, прямо под нашими окнами.
Напротив нашего здания – здание ТАСС. Или ИТАР-ТАСС, как сейчас.
Вспоминаются путчи. Во время первого – около нашего дома (пристройка со стороны бульвара), прямо у входа в театр стоял танк – жаль, никто его не сфотографировал. Во время второго – у дерева на бульваре стоял десантник с автоматом Калашникова наперевес, а в те вечерние часы у нас как раз шел спектакль по моей пьесе «Концерт Высоцкого в НИИ». На сцене, помнится, идет действие, зал валяется от хохота, а за кулисы приходит оперативник и – шепотом мне на ухо:
– Значит так. Кончится спектакль – зрителей будете выводить лично вы. Налево, пятерками, через минутные паузы, ясно?.. В сторону ТАССа – запрещено. Ни одного не пускать. Только в сторону Арбата. У ТАССа стреляют, там снайперы, ясно?.. Только налево!
– Что-то случилось? – глупо спросил я.
– Случилось, – усмехнулся оперативник. Ясно?.. Выполняйте.
Так что наш дом действительно имеет большую историю.
Принцип сукон стар как мир. Но если его применять с умом и фантазией, он обеспечит чудеса.
Надо говорить себе: «Эпоху делает бестолочь. А отвечать буду я».
Буффонность драк, переодеваний, путаниц из-за нескончаемых переодеваний, беготни, палочных наказаний, дурашливости хозяев и сметливой искусности поведения слуг, сплетничества, интриганства и конечного наказания порока с торжеством благонравия и любовного соединения сердец – вот старая, но всегда свежая – на все времена! – пьеса, изобилующая радостью и всепобеждающим весельем. Обожаю этот резвый всечеловечный театр-праздник, театр-дионисийство, раблезианство, вольтерьянство, гольдонийство, гогольянство и гоцци-вахтанговское пиршество фантазии и игры.
Театр-храм или ТЗП. Нам внушают, что не «или», а «и». Однако вспомним, что некий Богочеловек выгнал торгующих их храма.
– Ну, да, – сказали мне. – И чем это все закончилось?!
Мы уже не читающая страна. Мы – почитывающая.
Крикливый Чехов. Какой-то непохожий на себя Чехов у вас.
Внутри каждой театральной идеи должно скрываться ИЗОБРЕТЕНИЕ ТЕАТРА, СОЧИНЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ. Режиссер сначала нащупывает тайну будущей видимости, затем с известными издержками пытается претворить видимость в явь.
Изобретением «Вишневого сада» является тема надвигающейся продажи и внешнего игнорирования угрозы. «Вся Россия – наш сад» – основополагающая сентенция, превращающая продажу в многообъемный символ.
Изобретением «Ромео и Джульетты» является безмерная любовь на фоне кровавой борьбы кланов Монтекки и Капулетти, а также игра с временно действующим ядом Джульетты, приведшая к смерти Ромео.
Изобретением, простите, «Истории лошади» является не столько то, что человек играет лошадь, поющую и думающую, как человек, сколько постоянное перетекание одного образа в другой – животное и человек то разделены, то сливаются.
А есть множество пьес (их большинство), где ИЗОБРЕТЕНИЯ не содержится. Там говорильня вместо действия. Там театральность отсутствует, вместо нее поток жизнеподобия.
Драма желательна в совмещении текстового массива с некой визуальной зрелищностью, спрятанной, затаившейся в тексте. Тогда только театр побеждает, когда текст готовит игру, понуждает к преображению.
Враг искусства – банальность. Это понимают все. Поэтому приходит искушение – повыпендриваться.
Образ реальности мы познаем, отсоединившись от реальности, – кто-то недалеко, кто-то подальше, – и начинается вот этот самый выпендреж – из тщеславия, во-первых, и от того, что нечего сказать, во-вторых.
Как это «нечего сказать»?!
Я ведь о Боге – небанально. Об истине – небанально. О человеке – э, тут сложнее.
Кажущаяся «сделанной» структура означена как жизнеподобная, дефлорирующая, дразнящая – ну, поверь мне, поверь в меня. Якобы небанальное на поверку оказывается сверхбанальным, чудовищно претенциозным, просто безвкусным.
Потому что Бог – банален. Истина – банальна.
Единственно, человек – не банален. Да ведь тот, кто «выпендривается», менее всего интересуется человеком. Его неповторимость как раз несовместима со знаком, с сужением ради обобщения. Мастер-художник, творящий свой мир, не думает о банальности-небанальности того, что делает, а свою уникальность утверждает в авторском созидании как таковом – служа Высшему, стараясь распознать низкое. Тут и открытия.
Три зануды. Театр – зануда. Спектакль – зануда. А режиссер – большая зануда.
Фотограф Валерий Плотников. «.и я решил бороться с забвением». Молодец, Валера. Хоть ты!
Принцип «единой пластической среды», может быть, и надоел, но принцип «неединой пластической среды» просто отвратен.
Ах, как хочется поработать с молодыми сволочами!
Россия в «переходном периоде». И театр в «переходе».
Вот построимся – и что?! Надо иметь СРАЗУ убойный репертуар на ближайшие пять – семь сезонов. Этот репертуар должен невероятно возвысить нас, вывести на новый уровень общения со зрителем.
Думать, что ПЕРЕНОС спектаклей на большую сцену, еще не обжитую, еще чужую, нас спасет – глупость и близорукость.
Следует немедленно приступить к составлению со всех сторон обдуманного старта, чтобы всем – и зрителям, и критикам, и нам самим – был ясен размер шага, недвусмысленно намекающий на новый масштаб дела. Конечно, следует начать со спектакля-праздника. А дальше – выше, еще мощнее – и так держать.
Конечно, нужна мысль. Но еще важнее то, что НАД мыслью, то, что угадывается или остается в тайне, то, что находится в области не схваченного, не обретенного в житейском опыте, то, что называется высокой поэзией. «Езда в незнакомое» – и есть театр. Под названием скромным – «У Никитских ворот».
Эра фовизма, начавшись в 905 году, то есть сразу по смерти Чехова, сделала цвет свободным: раскраска вне всякой логики и связи с действительностью предваряла радость появления кубизма – и совершенно неожидаемо стала оперировать пространством, лишая его традиционной перспективы и сознательно сдвинув и перемешав все пропорции, пришла и в Театр. Объектом искусства стало все подряд, любое что бы то ни было. «Адище города» вобрало одинокость космического переживания и патетизм всякой чепухи – от вывесок и трамваев до мусорного ведра и надписей на заборах. Язык вкусил допинги поэтов-языкотворцев Серебряного века. Театром провозглашалась сама жизнь (Шекспир), а жизнь – театром (Евреинов). Фовизм – от слова «дикий» – приобрел атакующую энергетику, которая по прошествии ста лет приобрела еще большую агрессивность. «Дерзать» началось с «дерзить», а закончилось, точнее, продолжается в «хамить».
Неумелость выстроить – всегда оборачивается примитивом. Понятие «длинноты» то и дело всплывает при просмотре спектаклей, в последнее время я не видел ни одного опуса, который в той или иной мере не страдал бы от длиннот. Это не значит, что все подряд надо превращать в комикс.
Но длиннота есть длиннота, и делает все сразу неинтересным.
Огромное внимание следует уделять темпоритмам – действие в хорошем театре то замедляется, то вспыхивает, часто мы не замечаем этих смен, принимая за единую прямую линию любой зигзаг.
Играть надо легко, стремительно – даже искусственное торможение осуществляется без напряжения, в естественном ключе. Выполнение мизансцены в ритмическом рисунке – одна из грандиозных слабостей нашего – российского – театра. Мы не умеем жить на сцене в определенном, нажитом и освоенном, то есть абсолютно точно формально зафиксированном темпо-ритмическом образе, движение которого скорее определяется актерским нутром, чем требованиями спектакля как структуры. Иногда это приносит победу, чаще делает твою вещь небезупречной с точки зрения восприятия живой картинки.
Театру стоит слышать себя, стуки своего сердца. Более того, он обязан уметь во время убыстрять и замедлять эти стуки. Наподобие сверхчеловека, умеющего делать с собой все.
Нон-стоп репертуара – без расхолаживающих пауз, без роздыха, от сезона к сезону.
Временами хочется спрятаться, да так, чтоб и могилу твою не нашли. Уйти от всего-всего, даже из театра. Но. Бросить дело не удастся. Я прикован к этой галере, вырваться к письменному столу театр запретит, будешь до конца дней своих заниматься мимолетным. Такова твоя судьба, участь твоя такова. Смирись. Ты уже не напишешь романа, не создашь еще и десятка пьес, не издашь то, что валяется годами в твоем столе. Времени на все это нет и уже не будет. И силы на исходе.
Ты будешь по-прежнему только ставить и ставить. Еще воевать с нарушениями актерской дисциплины, подписывать бумажки, составлять репертуар на каждый новый сезон, ругаться с монтировщиками, кричать на световиков, выписывать расписание, забегать в бухгалтерию с вопросами, получать в кассе ответы, читать с усмешкой рецензии на свои и чужие опусы, узнавать, почему не висит задник, почему не горит левый фонарь, а дежурный свет не включен, когда кончатся «больные дни» у артистки N где можно купить гвозди, откуда капает вода и счищена ли крыша театра от снега, кто вчера допустил на спектакле «отсебятину», кто не убрал легнин по окончании представления, кто звонил, когда я был на репетиции, и кому мне надо звонить, чтобы дело шло, откуда можно достать деньги на костюмы и где их, будущие костюмы, придется хранить, для чего в туалете сменили полотенца на бумагу и как совместить 4 репетиции на одной сцене, ведь репетиционного зала у нас нет вот уже 23 года. Если театр – храм, то зрители – прихожане, а мы – священники. И наше дело – священнодействие, но уже не в храме, а в бардаке.
Самое трудное – театрализация убийства. Почти всегда «вампука». Сцены убийства должны быть оригинальны, как ничто другое.
У нас что ни демократия, то диктатура.
Галогенный свет – мертвенный, без теней. Применять в случае крайней необходимости.
Проблема места действия в современном театре существует лишь как проблема обозначения места действия. Соблюдение ремарки еще Мейерхольдом подвергалось сомнению и осмеянию – режиссер с фантазией не терпел регламентирующей воли Автора и отвечал ему необязательностью ее выполнения. Считается важным другое: а вдруг зритель не поймет, ГДЕ происходит действие. Тут два варианта. Первый: ну, и черт с ним, не поймет – так не поймет!.. Второй: давайте все-таки как-то намекнем зрителю (хотя бы!), куда нас занесло. Полное пренебрежение местом действия на практике встречается все чаще и чаще. Неполное – почти всегда. Зритель верит – значит, проблема решена.
Более того, нередко театр настаивает на отторжении действия от конкретного места – в этом случае есть надежда на обогащение смысла за счет поэтизма ситуации, ее многозначности. Где действие?.. В доме? В школе? В учреждении? На берегу? На небе? На улице? В поле?..
В Театре!.. Вот такой самый правильный ответ.
Когда ретивый критик Эм. Бескин написал статью «Пожар „Вишневого сада“, в которой говорилось, что „в огне „Лизистраты“ горели „Вишневые сады“ сценического реализма“, Немирович сказал: „Сад сгореть может, но почва никогда“.
Сегодня жгут почву.
Не всякая недосказанность сути – признак поэзии. Бывает недосказанность и от того, что нечего сказать.
Тут лукавство: автор замолкает не потому, что мысль его имеет продолжение в намеке, а потому что – обрыв, движения нет никакого, только лишь сигнал от знака «стоп», и ничего другого.
Это ж надо – наигрывает ногами!
Лицом – это кривлянье. А ногами – как назвать?!
Покартинно изменяемая декорация – нафталин на сцене. Место действия навязано театру автором, забывающим, что пространство вбирает в себя любое место действия.
Театр – дом. Театр – гнездо. Театр – ансамбль. Звучит как заклинание. Нарушение обета, отход от принципа – и ты будешь разорван на куски за предательство.
Драматург как производитель текстов. Без любви к театру, этакая самописка на компьютере, фабрика словесного поноса. Здравствуйте, я пришел. А уйдет очень скоро и не попрощавшись.
Освоить семь (минимум) творческих состояний – задача актерам, умения которых расширятся за счет тренажа психофизики:
Жизнь во снах. Жизнь в болезнях.
Жизнь в медитациях.
Жизнь в праздничном раскрепощении.
Жизнь в тепле.
Жизнь в холоде.
Жизнь в противодействии.
Практическое освоение – через этюды, то есть развернутые в сюжеты упражнения. Разработка тем – на каждый раздел, и – подробное, с разбором, выполнение тренажных заданий. Психофизическая окаменелость будет преодолена именно этим циклом, результат появится не сразу, но будет поразительным.
Новый язык не может появиться сам собой, только в практике создания новых спектаклей. Его коммуникативность со зрителем возникнет после учебного освоения всех разделов – предстоит сделать то, что мы никогда раньше не делали.
Мы террористы нового типа. Мы убиваем людей сериалами.
О характере. Вот тайна тайн.
Откуда берется? почему сохраняется в течение жизни как постоянная величина?
Есть штамп: «Ярко выраженный характер». Но разве не ярко выраженный характер не есть, по-своему, «ярко выраженный»?.. Тем он и яркий, что неяркий. И из чего этот самый характер состоит? Из каких частиц?.. Из какого вещества? Где расположен в человеке Центр Управления характером?
Иногда говорим: «Характер этого человека изменился. Он стал другим».
А что за этими словами?
Кто, какой конкретно орган подготовил и осуществил эти изменения?
Да, изменения заметны. Но совершенно незаметен тот работающий с изумительным постоянством РУКОВОДИТЕЛЬ характера, который отвечает в человеческом организме за его проявления.
Вот перед нами человек, которого мы все считаем, допустим, жадным.
А он действительно жаден, и это не что иное как свойство его характера.
Более того, мы узнали, что он с детства был жадным. Мы даже уверены, что этот человек жадный, как говорят, от рождения.
Но что такое «жадность» с точки зрения медицины?.. Где скрыты первопричины «жадности»? Может быть, в генах?
Наверное, в генах.
Да вот беда, гены у этого человека как гены.
Наука генетика уж на что рванула вперед, а технологические объяснения явления «жадности» мы от нее пока всерьез не получили.
Ну, кое-что, конечно, ученые нам могут сказать. К примеру, заявят, что секрет хранится где-то ТАМ. И этот вполне научный вывод нас, конечно, немного успокоит. И все же хотелось бы иметь подробности.
А еще лучше ЗАКОН, по которому природа снабдила данную человеческую единицу именно тем характером, который он, простите, возымел от Бога.
Ой ли?.. От Бога ли?..
Давайте изучим десять поколений предков нашего дорогого «жадного» человека.
Вдруг выяснится, что жадные среди них, конечно, попадались, но большинство безусловно «добрые».
Тогда зададимся, в свою очередь, вопросом: откуда эта «доброта»?.. Где, в каком месте человеческой психофизики прячется?..
В общем, песенка про белого бычка.
Не можем мы никак ПОСТИЧЬ тайну характера, эту великую тайну тайн.
Весь вопрос в психологии! – сказал мне мой друг, и я подивился его уверенности. Потому как считаю.
Психология психологией, а нужно все МАТЕМАТИЧЕСКИ просчитать. Дайте, пожалуйста, «формулу жадности», «формулу доброты».
Пусть знающие люди мне научно ответят: в чем секрет человеческого проявления, и с цифрами в руках докажут, что вот этот, к примеру, человек имеет столько-то единиц жадности, а этот столько-то доброты. Пусть мне покажут доказательства непреложные, а не какие-то там предположения.
А то, говорят, открыли какой-то там геном человека. А зачем открыли?..
Чтобы, наверное, разобраться в человеке.
Что к чему. Почему и отчего. Откуда и как.
В театральном деле мы постоянно имеем дело с теми или иными характерами.
Вся мировая драматургия стоит на том, что без характеров пьеса безжизненна, никуда не годится.
Импульсы и сигналы, которые подает человеческий организм с таинственным постоянством, и составляют некий феномен, который означает каждого человека как неповторимую личность, индивидуальность.
Каждое утро человек встает с постели и начинает воспроизводить только ему присущие черты. Окружающие УДИВЛЯЮТСЯ, если он вдруг выражает себя НЕ ТАК, как от него ожидают.
– Сам на себя не похож! – говорят о таком. И правда.
Подобные нарушения лишь подтверждают константу – человек с его внешним обликом, меняющимся с возрастом, еще как-то воспринимается как цельное существо, но именно эта цельность всякий раз подвергается пробам и испытаниям на верность себе, своему внутреннему «я».
Да и само это «внутреннее „я“ живет ровно столько, сколько живет человек, со смертью его характер вместе с плотью уходит в небытие.
Характер есть средоточие повторов в поведении, отслеживаемое окружающими с большой долей проверочного скепсиса, – психологическая форма самовыражения индивида ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ выстраивается в линию, а линия обеспечивает вполне читаемый рисунок, который то и дело нарушается «первоисточником».
В Театре характер – все, наряду с конфликтом. Есть конфликт характеров – есть пьеса, нет – нет. Вернее, пьеса без характеров (в последнее время таких расплодилось великое множество) производит впечатление убогой, малоинтересной. Да, иногда бывает хорошо, когда вместо характеров – знаки, персонажи «не индивидуализированы», их внутренняя жизнь незаметна, мотивировки поведения отсутствуют напрочь.
Это приводит к беде. Театр в этом случае оказывается во власти игры без сопереживания, без взаимной со зрителем энергетики. Пьеса пуста – спектакль пустой.
И зал будет пуст, если так.
Блестяще выписывали характеры классики.
Они это умели, потому что черпали из жизни, отталкиваясь от конкретных лиц и людей, в коих им виделись ТИПЫ, то есть возникали потрясающие обобщения.
Кто такой Молчалин?
Кто такой Репетилов?
И кто такой Скалозуб?
Характеры-типы, приходящие всякий раз на сцену со своими, только им присущими манерами и поступками. Грибоедов соткал из слов-лоскутов единое живое существо, которое угадывается и распознается так, как повелел их автор. Так и не иначе.
Таким образом, характер живет как постоянная величина столь же необъяснимо, сколь убедительно. Начав дышать, он делает это всегда по-своему, с разными оттенками и ответвлениями в разных предлагаемых обстоятельствах, но стержень характера остается прежним – эта сила – сила природы, и она непобедима.
Ставя пьесу, мы ИЗУЧАЕМ характеры. Мы пытаемся сформулировать или почувствовать их корень, их стержень. Нам интересно все – повадки, ужимки, манеры, голос (внешнее), и, конечно, действенное отношение к жизни, скрытое или явное.
И вот тут начинается самое интересное – наше желание распознать причины и секреты поведения данного лица, нам становится важнее важного понять, ПОЧЕМУ этот персонаж поступил так, а не иначе. Нам мало созерцать поступки индивида, слушать его реплики – нам надо раскопать, ЧТО явилось обоснованием именно этих слов, именно этих поступков. Для этого нам надо владеть, так сказать, материалом, то есть проникнуть во внутренние миры человека, попытавшись влезть в его шкуру, сделать его «я» своим.
Это самое трудное, что только есть в искусстве.
Психологический театр – настоящий, проработанный – есть высший пик нашего дела, абсолютное достижение которого недостижимо. Да, тут нужна профессия – знание и умение «КАК добиться того, что хочешь», но в еще большей степени необходимо чутье и анализ – куда и зачем ведет нас автор, какие смысловые глыбы стоят (если стоят) за психологическими мотивировками.
Вот этого как раз сегодня никто не умеет делать. Или – почти никто.
Психологический театр гибнет не из-за отсутствия интереса к нему (что бы ни говорили об этом «кризисе» вокруг), а лишь по причине – простой, как мычание – режиссура увлеклась другим – собственно, зрелищем, собственно, обеспечением визуального массива, в ущерб человеку, его удивительному признаку, называемому характером.
Как восстановить психологический театр?
Как придать ему устойчивость в новых условиях XXI века, который сделал мелькание главным качеством жизни?
Во-первых, нужны пьесы, обеспечивающие репертуар театров человеческими историями, воспроизводящие реальность – гнусную и прекрасную, горестную и смешную, зыбкую и прозрачную.
Нужен ЖИВОЙ театр, где актеры играют с достоинством, не кривляясь и вытрачивая себя с полной самоотдачей.
Во-вторых, нужна режиссура, которая пользуется серьезнейшим добавлением к системе К. С. Станиславского – научной методикой психиатрии с ее терминологической волной.
Фрейд, Фрейд и еще раз Фрейд.
Каждый режиссер не хуже этого доктора обязан разбираться в неврозах и их последствиях, в сновидениях и их влияниях, в желаниях и цензуре желаний.
Любая пьеса Чехова, скажем с уверенностью, будет прочтена в новой постановке еще более глубоко, если понятие душевной слабости как результата навязчивой депрессии будет раскрываться по мере развития действия. А уж если мы разберемся в клинических диагнозах нервнобольных людей, причислив к ним практически всех чеховских героев, наш спектакль станет несомненной удачей, покрывающей своим уровнем все прочие чеховские постановки. Говорят о провале фрейдизма в наше время – какая чепуха!.. Фрейдизм плюс Станиславский – золото нашей профессии.
Инстинкты (не разум) управляют человеком, погрязшим в сексуальных влечениях, и противоборствующим им, – как это происходит внутри той или иной личности, как происходят замещения этих инстинктов фантазиями и неврозами – это современный режиссер обязан знать. Этим он должен уметь пользоваться, как доктор психоанализом. Стержень характера определяем. Непознанный человек познаваем.
Но хороший (для театра, для игры) характер – это ртутный характер. Он переливается, перепрыгивает и переползает в неведомые стороны, его не ухватишь, не сформулируешь с полной ясностью – от этого чисто театральный кайф: непредсказуемое оказывается глубоко замотивированным, ртутность, выходит, тоже имеет свой стержень. Как это ни парадоксально звучит.
Характер есть плод определенной психофизической конституции, законы которой недоисследованы. Мы берем пьесу и обычно начинаем ее изучать как бы с белого листа, до нас будто ничего и не было. Ошибка!.. наше исследование будет полезным лишь в случае, если мы сумеем вобрать в роль множество накопленных наблюдений, возбудим свою память ассоциациями, сходными с тем, что происходит в пьесе, найдем с ее помощью УЗНАВАЕМОСТЬ характера, видение и ощущение которого сойдутся с нашим житейским и духовным опытом.
Ничто так не радует в театре зрителя, как эта УЗНАВАЕМОСТЬ.
Смотрим на Хлестакова и видим в нем своего знакомого!
Видим Гамлета и понимаем, что это я.
На сцене Мольер, а мы угадываем в нем самого Булгакова.
Впечатление, производимое цельным характером, действует оглушающе.
Мы ВЕРИМ актеру, присвоившему и выразившему чужую личность.
Чудо театра зиждется на этой поначалу зыбкой, потом усилившейся вере – один человек играет в другого человека, и этот другой на время спектакля оказывается, может быть, гораздо более яркой, фантомной личностью, чем производитель фантома.
Мы сопереживаем не актеру-исполнителю, а тому костюмному, нередко загримированному персонажу, чья личность насквозь пронизана и пропитана театром, имя которого – игра.
Жизнь, скомпонованная в историю с ее началом и концом, становится пьесой, пьеса – спектаклем, а характеры, сыгранные и показанные на сцене, схлестнулись меж собой, да так, что до самого конца никто не мог понять, что же все-таки ТАМ произошло.
Радость УЗНАВАНИЯ сменяется на восторг ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Характеры будут убедительны, если они заразительны.
Приходилось видеть незаразительного Хлестакова. Ну, Городничий – еще куда ни шло. Но незаразительный Хлестаков – это атомная бомба, набитая тряпьем. Это – разочарование.
Театр очаровывающий – кузница характеров, огромное скопище самых разнообразных людей – царей и их подданных, интриганов и героев, насильников и тихонь-подлецов, красавцев и наглецов, умников и дураков, злобных и добрых, нежных и черствых, хладнокровных и горячих, убийц и их жертв, творцов и посредственностей, легкомысленных и мудрых, трезвых и пьяных, хитрых и простодушных – каких угодно, каких много и каких мало.
Важно одно – чтобы все они, вышедшие на сцену, были ЖИВЫЕ.
Живые, и только.
Назвать: «Джойс, или Старая сладкая песня любви». Пьеса Марка Розовского.
Есть две сценографии. Одна – зависимая от авторского мира, желающая его воспроизвести в своем впрямую неадекватном (иллюстративном) представлении о нем, в НОВОМ ЕГО ОБРАЗЕ – это изменчивая школа театральной культуры, чья суть в построении покартинной декорации, корреспондирующей ассоциативно и поэтически с каноническим текстом литературного первоисточника.
Другая – взрывающая первоисточник, отодвигающая его от себя куда подальше, существующая САМА ПО СЕБЕ, играющая по своим ошеломляющим алогизмами правилам (или вообще без правил), или взывающая к любой неконтролируемой смыслом игре, – это детский сад изъявления, чье кредо в полнейшей отсоединенности от авторского мира, в желании тотального, взбесившегося самоутверждения без всякой ответственности за восприятие театральной структуры.
Эти сценографии отнюдь не борются друг с другом. Они просто не видят друг друга в упор.
Сегодня проблема в другом – театр двинулся в сторону новых технологий, компьютерных изофантазий, видеоэксцентрики, внепонятийного декора. Это требует множества экранов, мониторов и всяких якобы случайных плоскостей для неведомо откуда поступающих проекций.
Такой театр поражает, но.
Поражатьто он поражает, но вся беда в том, что он, как правило, приводит к ЗАМЕНЕ живого потока ежесекундно изменяющихся картинок на визуальный холод смонтированных на электронных чудовищах графических построений.
Компьютер и живая рука художника вступили в неоконфликт, сцепились в эстетическом противостоянии.
Сегодня освоивший компьютер сценограф мыслит в других объемах, цветах и линиях, нежели прежде. Ранее сценография рождалась благодаря мышлению художника, созидающего собственной рукой нерукотворное. Сегодня, собственно, научившись соединять несоединимое, двигая мышку по экрану и нажимая на всякие кнопочки, человек, не умеющий рисовать и в принципе не державший в руке кисточку, может дать театру массу сценографических предложений и вариаций.
Мы входим в эпоху обыдиотивания всех и всяких эстетик, в зону вседозволенности – причем не мы сами творим, а за нас творит машина, непредсказуемая и работоспособная.
Проблема вкуса снимается как таковая, поскольку вкус может быть у человека, у компьютера по определению другая стилеобразующая функция: делать НЕЧТО. А это нечто может быть каким угодно.
Нечто!.. И все. Это и есть Театр. Хочешь верь, хочешь не верь.
Сценограф создает уже не столько единую пластическую среду, сколько некий потусторонний «четверг» – вне всякого жизнеподобия (отсутствует сама идея связи с жизнью и традицией) и какой бы то ни было логики, «пластики» и тем более единства (с чем и зачем?).
Становится важным напичкать, нашпиговать пространство эффектами, череда которых должна быть бесконечно длинной – от примитива до самого изощренного изъявления – экраны и мониторы всосут взгляды зрителей и застрекочет монтаж технологически выполненных на самом высоком уровне «экшн». Это не кино, которое должно было еще в прошлом веке вытеснить театр. Это пародия на кино, со своим заведомым рационализмом и «клиповым мышлением», полезет в театральное пространство, чтобы заполнить его «жвачкой для глаз».
Влияние телевидения?
Может быть.
Но почему тогда так интересен по-прежнему человек, точнее, актер, вышедший на пустую сцену в образе этого человека и разорвавший нам сердце?..
Регулярно проводятся «Пражские квадриеннале», «Итоги сезона» и – правда, не слишком часто, – персональные и групповые выставки современных художников-сценографов. Они демонстрируют, с одной стороны, чье-то индивидуальное мастерство, личностные выплески, а с другой информируют, куда движется мировой театр, где лежат пути и тенденции развития нового, руководствуясь старым испытанным принципом: если нового нет, его следует выдумать.
Вот и выдумывают.
«Так, на Квадриеннале-99 в павильоне Нидерландов многоэтажная ажурная конструкция состояла из огромного количества кастрюль. Под днищем каждой из них находился боек, который управлялся компьютерной программой. Получался оглушительный кастрюльный перезвон, причем звук был довольно противный, но это-то и привлекало публику. Никакого отношения к скромным ученическим макетам, находившимся внутри павильона, эта шутка не имела. Швеция тогда же выставила электронный пресс, который опускался каждые сутки на несколько сантиметров и сплющивал горку театральных макетов, помещенных под ним. К концу выставки от этих макетов оставалось, что называется, мокрое место. Это хотя бы можно было истолковать как метафору разрушения культуры.» – сие описание дает в журнале «Театр» (№ 5, 2003 г.) Алла Михайлова – замечательный искусствовед, специалист, много сделавший для осознания роли сценографии и в театральной нашей истории, и в современном процессе, мимолетность которого ощутима уже в самом многозначительном названии статьи – «Пауза ожидания».
Ожидания – чего?..
Конечно же, легче всего провозгласить – всплеск новых театральных идей, базируемых на совершенно новых сценографических решениях.
Боюсь, что этого не будет. Ибо «все уже было, а то, чего не было, уже никогда не произойдет». Это не пессимизм. Это чувство реальности, которая сама по себе превосходит любое искусство, в том числе сценографическое.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.