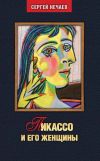Текст книги "О возлюблении ближних и дальних"

Автор книги: Наталья Волнистая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
О мрачном
Я вижу земной рай так: слева в соседях тихая интеллигентная семья, справа незлобивая старушка. Сверху и снизу – аналогично. Тремя этажами выше молчаливая воспитанная собака средних размеров.
Изредка (подчеркиваю – изредка) слева доносится скрипичный ре-мажорный концерт Брамса. Справа вообще ничего не доносится, так, прошаркал кто-то тапками в коридоре. И только скрипка всплакнула нежно. Вдалеке.
И чтоб не просыпаться в первом часу ночи и на рассвете, когда наш трудолюбивый сосед-алкоголик возвращается с добычей. Иногда ползком. Но независимо от способа его передвижения пустые бутылки бодро звякают, наводя на человеконенавистнические мысли.
– Он отчего пьет? Оттого что у него жизнь не задалась. Жалко человека, – вздыхает сердобольная тетка из второго подъезда.
Даже мне, бездушному мизантропу, знакомо чувство жалости. Я проникаюсь сочувствием и готова отдать соседу свою печень, но тут появляется запах, а следом сам сосед. Хочется предложить тетке поменяться квартирами, ей будет ближе жалеть.
Нет, нету рая на земле. Зато я знаю, кто выживет при удачном запуске церновского коллайдера.
Опоздавшие с прибытием представители развитой инопланетной цивилизации обнаружат лишь черную дыру да парочку простейших бактерий, у которых хватило ума вовремя закапсулироваться и сбежать за горизонт событий.
Слезы покатятся по чешуйчатым щекам пришельцев, горестно взмахнут они щупальцами, прощаясь с безвозвратно утерянным разумом, но тут же возрадуются, ибо из-за этой самой черной дыры выплывет по синусоиде наш сосед, весело позвякивая спасенной пустой тарой.
Вот по нем и будет судить о нас Галактика.
О берлинской лазури
Давным-давно в мой почтовый ящик почтальон опустил чужое письмо. Ошибся домом, а номер квартиры был размыт – вода, что ли, капнула.
Яков Павлович, имя-отчество осели, фамилия стерлась, совсем простая фамилия, обычная.
Вечером, после работы, пошла отдавать адресату – благо недалеко, обшарпанная хрущевка во дворах. У теток на скамейке спросила, не знают ли такого.
– Так это ж наш Айвазовский, – сказали тетки, – вон окно на первом этаже, голое, без шторы, шестнадцатая квартира.
Бросить письмо в раскуроченный ящик не решилась, позвонила.
За дверью что-то бодро простучало, и мне открыл небритый дядька на костылях; из квартиры пахнуло химией.
– Проходи, – сказал дядька, – очки возьму, гляну – может, и не мне, кто мне писать будет.
В комнате стало понятно, откуда запах.
На стульях у стен стояли картины, не холсты – картон, фанера. На каждой очень много неба, и каждая сбоку подписана.
Сон Рыбака. На берегу круглого озерца сгорбленная фигура с удочкой, а по синему небу плывут серебряные рыбы.
Конь Митя Смотрит На Звезды. Рыжий конь задрал голову, и сверху на него глядят нездешние созвездия.
Тимофеева Ждет. На лавке под деревом сидит пышная красногубая красавица, в ночном небе парит усатый тип в кепке-аэродроме, а с облаков Тимофеевой машут розовые кудрявые младенцы.
Там еще много чего было, уже не вспомнить.
– Нравится? – спросил дядька. – Не врешь? И мне нравится. Ишь ты, нас таких уже двое. Ну и погода, ночь почти, а духота как в бане. Пить хочешь? Нет? И я не хочу, разве что водочки. Водочку будешь? Как знаешь. Не то, все не то – разве это цвет? Краски хорошие не укупишь, дорогие, тут берлинская лазурь надобна, вот с берлинской лазурью – это да, это по-настоящему.
Через пару дней я улетела в отпуск, сразу же после отпуска услали в командировку.
Ждала на Арбате подругу, подгреб какой-то алкаш, пытался продать хрустальную вазу. На вазу я не клюнула, тогда он достал из кармана грязного пиджака коробочку, сказал:
– Возьми, импортные, в магазине не найдешь, за десятку отдам, дитяти своему подаришь.
В коробочке плотно лежали тюбики, и на одном было написано Berliner Blau.
Десять рублей для меня были деньги. Но я купила.
Вернулась домой – то одно, то другое, выбралась с красками только в сентябре.
На окне тюлевые занавески, и оконная рама покрашена ядовито-голубым.
Спросила у теток, тех же, несменяемых.
Так помер, сказали тетки, у него племянник прописан был. Как гроб вынесли, так и вселился, ремонт сделал. Картины? Выкинули все, кому такая мазня нужна – ты головой подумай, кто такое у себя повесит.
Я почти забыла.
Но иногда поздним вечером смотришь вверх, в небо цвета берлинской лазури, и ждешь, что вот-вот там, высоко, проплывет, блеснув чешуей, надменная рыба, и звезды вдруг сложатся в лошадиную голову с развевающейся гривой, и из-за светлого облака послышится тихий детский смех.
О проблемах коммуникации
В магазине за мной увязался пожилой алкоголик, ходил по пятам, сопел в затылок, дышал ядрено, потом сказал, хочешь спросить, почему я пью?
Честно ответила, не хочу.
Алкаш подумал и горестно вздохнул, сам спрошу, почему я пью? потому я пью, что у меня проблемы коммуникации!
Вздохнул еще печальнее и побрел в сторону питейных полок.
А вечером телевизор трагическим голосом повествовал о непростой жизни панд.
Оказывается, панды потеряли всякий интерес к размножению.
В одном зоопарке жил панда-мужик. Общественность страшно переживала, сидит он такой, скучает, скоро лапы на себя наложит от беспросветной тоски. И ему привезли панду-даму. Создали все условия, спецрейсами доставляли срезанный на рассвете бамбук, размножайтесь на здоровье, а они ни в какую. Им даже порнуху показывали, дабы подтолкнуть к игривым мыслям и действиям, но толку ноль.
Отчаявшиеся ученые разводят руками и не понимают, чем вызвана нездоровая приверженность целибату.
Я вспомнила давешнего алкаша и подумала, что у панд тоже проблемы коммуникации.
Возможно, они родом из разных мест, их по-разному воспитывали.
Вот одна панда, насмотревшись людского непотребства, решает, а и правда, что это я мышей не ловлю, неплохо бы размножиться. И намекает о своем желании второй панде. Не знаю, как это у них делается, может, красиво лапы поднимает или фырчит интимным фырчаньем. А вторая панда смотрит и думает, ага, лапами машет, бубнит невнятное, дурак какой-то, чего ему в своем углу не сидится, никак на мой бамбук нацелился, а ну вали отсюда, ворюга! И первая панда походит туда-сюда, а потом махнет лапой, уже не заботясь о красоте жеста, и поплетется в свой угол, ну ее, эту психическую, мне что? больше всех надо?!
То есть у них несовпадающие системы знаков.
И у людей похоже.
Например, А. говорит В., я тебя очень люблю, и В. отвечает, и я тебя люблю, очень-очень.
Не врут и не лукавят, но через месяц, год, пять лет разбегаются в разные стороны и не могут вспомнить друг друга без содрогания.
Все потому, что слова А. подразумевают «всегда быть в шаговой доступности, не отключать телефон, не забывать мой и мамочкин дни рождения и закручивать колпачок тюбика зубной пасты».
У В. другой контекст – «не выносить мне мозг», а про колпачок он сроду не задумывался.
У одних и тех же слов разный смысл.
Проблемы коммуникации налицо.
Я считаю их основными проблемами человечества.
Все остальные – лишь их следствия.
В этих следствиях мы и живем.
И дядька-алкаш не находит понимания, и B. сбегает от A. к блондинистой прошмандовке, и панды вымирают прямо на глазах.
И кто-то кому-то откручивает голову, тем самым говоря – я тебя люблю, очень-очень.
О гармонии
Когда один мальчик был маленьким, мы с ним часто ходили в ботанический сад. Через дырку в ограде. Чтоб попасть туда законопослушно, нужно было проехать три остановки вперед и одну в сторону, а тут рукой подать. Время от времени администрация запечатывала дыру непущательной тетей, но тете приходилось контролировать еще один лаз, метрах в ста от первого, а телепортироваться она не умела.
В саду по озеру дефилировала лебедиха с пушистым выводком на спине. Среди потомства обязательно находился один любопытный, с шилом в попе, не умеющий сидеть спокойно. Он по головам братьев-сестер пробирался поближе к мамашиной шее, хотел быть впередсмотрящим.
Мальчик переживал, не свалится ли в воду этот, отважный. И что делать, ежели плюхнется, – вдруг он плохо плавает.
А утки там жили нахальные, как прикормленные нищие на паперти богатого храма. И прожорливые: сколько ни бросай им хлеба, все мало. Самые отпетые выбирались на берег и только что по карманам не шарили. Одной понравились шнурки на моих кроссовках. Клювом распутала узел и пыталась утащить шнурок. Вместе со мной. Сообразив, что номер не удастся, гневно обкрякала нас и оскорбленно поковыляла прочь.
Мальчик топал за уткой и объяснял ей, что приставать к чужим шнуркам неприлично, но ежели бы у нас были лишние шнурки, мы бы непременно поделились. Мальчику хотелось гармонии. Чтобы рядом волк и ягненок, львы и зебры, утка и шнурки. И никаких посягательств на чужую жизнь и собственность.
Мальчик вырос, разговаривает басом. Осознает недостижимость гармонии. Делает вид, что не очень-то и хотелось. Вчера уснул за историей античной литературы. Где-то между Эпихармом и Аристофаном. Никак не привыкну к его почти взрослости.
О Демонаде
Я путешествовала с застарело нетрезвыми дембелями. Полвагона с пьяной слезой рассказывало мне про «не дождалась, зараза». Ощущение, что это была одна и та же зараза.
Я ехала с цыганским табором, под звон монист, плач детей и шуршанье юбок. Неделю потом непроизвольно трясла плечами, не к месту вскрикивая ай-на-нэ, ромалэ!..
Я шесть часов просидела рядом со старушкой, делившейся яркими воспоминаниями о перенесенных операциях.
– Места на мне живого нету! Все порезано, все! – с гордостью восклицала старушка и под стук колес норовила заголиться для демонстрации порезов.
Наивная, я думала, мне уже ничего не страшно.
Но однажды в купе скорого поезда № 4, где разместились пожилой полковник, молодой аспирант и я, вошла женщина Ада.
Дальше рассказываю с опаской. Я не верю в материализацию духов, но мало ли.
Первым делом Ада согнала меня с нижней полки, разве что не пинком, долго играла в багажный тетрис, пытаясь запихнуть два своих чемодана и сумку в багажный ящик, не преуспела, поставила чемодан поперек купе и рявкнула аспиранту, сунувшемуся было ей помочь:
– Ты что меня лапаешь?! Руки убери! Девок своих лапать будешь!
Аспиранта перекосило. Стало очевидно, его эротическим снам суждено перейти в разряд эротических кошмаров.
Полковнику, собравшемуся перекусить бутербродами, Ада заявила, что только деревня ест там, где собирается спать, а ее воспитывали по-другому, она этого не потерпит.
Затем выгнала всех в коридор, потому как надо переодеться. Минут через сорок полковник не выдержал, постучал и приоткрыл дверь. Был обозван старым извращенцем. В конце концов нас впустили.
Ада, в атласном халате, зеленом с желтыми розами, глядела на нас с омерзением. Как если бы мы были коллективным Васисуалием Лоханкиным, пришедшим к ней навеки поселиться.
А на столике стоял баллончик. Судя по надписи, со слезоточивым газом. Тогда подобную гадость можно было купить в любом киоске.
– Уважаемая, – осторожно заметил полковник, – это зачем?
– В поездах всякое бывает, ездили, знаем! – отрезала Ада. Сунула баллончик под подушку и добавила: – Кто-нибудь храпит? Не люблю, когда храпят. Все, спать. Свет выключите, мешает!
Полковник с аспирантом тревожно переглянулись.
Улеглись, но не засыпалось. Мешали раздумья о последствиях распыления слезоточивого газа в замкнутом помещении. Похоже, полковника с аспирантом посетили те же неспокойные мысли.
– Сколько можно шевелиться?! – гаркнула Ада. – Вы тут не одни!
Когда шевелиться нельзя, то не шевелиться невозможно.
Я поняла, это не жизнь. Тихонько сползла с верхней полки и с грохотом свалила теткин чемодан.
– Когда ж ты угомонишься, шалава?! – возопила Ада.
Но баллончиком не пшикнула, спасибо ей.
Минут через пять по той же схеме (грохот, крик) в коридор вылетел аспирант. В полночь (грохот, сдержанный мат, визг) к нам присоединился полковник.
За окном летела ночь, хотелось дожить до рассвета и до Москвы.
Полковник сказал:
– Это не женщина, это демон. Вот что, сынок. У меня там, в головах, дипломат стоит, принеси.
– Может, вы сами? – робко предложил аспирант.
– Сынок, мне пощады не будет, а ты молодой, резвый, у тебя есть шанс.
Грохот, вопль, еще раз грохот, снова вопль, и из купе выскочил красный как полковое знамя аспирант с дипломатом.
– Она решила, что я к ней пристаю, представляете? Я к ней пристаю!
В конце коридора до трех утра под разговоры мы пили полковничий коньяк, закусывая конфетами «Коровка». В три коньяк с «Коровкой» закончились, и мы решили рискнуть. Бесшумными чингачгуками прокрались в свое купе.
Сначала чемодан свалила я. Нечаянно. Потом полковник. Нарочно. Продолжил традицию аспирант. Клялся, что не хотел.
Истерический смех отличается от обычного, неистерического, невозможностью остановиться. Наше счастье, что из соседних купе пришли ругаться. Думаю, только это остановило Аду от применения баллончика.
По прибытии в Москву Ада попыталась всучить один свой чемодан полковнику, второй аспиранту, сумку – мне.
Невыветрившийся коньяк придал нам безрассудного мужества. И мы отважно вышли из купе. Сухо попрощавшись.
В спину нам кинжалом воткнулось:
– Хоть бы где один нормальный человек был! Все сволочи!
О якорях
Однажды в молодости мне выпала черная метка.
Проспала, вскочила с температурой, являя собой иллюстрацию из учебника по отоларингологии, порвала новые колготки, куда-то сунула проездной и не смогла предъявить – настыдили; опоздала на работу, а у нас с этим было строго, коллективная ответственность, премию снижали всему отделу; обидела ни за что хорошего человека, и меня обидел ни за что другой хороший человек; вдрызг разругалась с начальством и коллегами; потеряла кошелек; по пути домой опять нарвалась на контролеров, на тех же, утренних, стыдили в три глотки, штраф платить нечем, пришлось идти пешком, сломала каблук и подвернула ногу, последнюю остановку ковыляла как Паниковский, замерзла до невозможности, дотащилась до квартиры и не нашла ключи, ждала до ночи соседку, у которой хранились запасные; наконец попала к себе с единственной мыслью в гудящей голове – влезть в горячую ванну.
И обнаружила, что отключили воду. Всю.
Тогда был день. Теперь что-то подзатянулось. Никаких хлестких ударов судьбы. Так, по мелочам. Но без пауз.
Чувствую себя верблюдом, думаю о соломинках. В таком состоянии надо за что-то цепляться. Чтоб не унесло.
В три года мальчик начал разговаривать сложноподчиненными предложениями. Неосторожно прислушавшиеся прохожие пугались.
Как-то спросил:
– Мама, ты догадываешься, что я тебя совсем люблю?
Я сказала, что давно догадалась, и поправила – очень люблю.
Мальчик не согласился, сказал, что очень любит лошадку на колесиках и плюшевого львенка, а меня любит совсем.
Совсем. Со всем.
То есть действительно со всем – с хорошим настроением, с плохим, с дурной привычкой сначала рявкнуть, потом разбираться, с тем, что мне некогда, с неумением рисовать кошку, получающуюся похожей на глазастую сосиску, с умением заставить есть кашу, с немногими моими плюсами и несметными минусами.
Со всем.
И сейчас я крепко держусь за тех двоих, которых я люблю совсем. За большого и маленького, который на голову выше большого.
Пройдет время, оно вообще очень быстро проходит. Очень – не страшно, лишь бы не совсем.
И если я не помру молодой, лет в семьдесят, и доживу до знакомства с Алоисом Альцгеймером, то оставь мне, Господи, хотя бы один якорь. Чтобы во взрослом дядьке с усами, а то и с бородой, как у папы, я смогла увидеть маленького мальчика, которого учила когда-то считать до десяти, и он досчитал, и я спросила, а дальше, что там дальше, за десятью; и мальчик, которому хотелось играть с лошадкой и львенком, а не заниматься бессмысленным с его точки зрения делом, посмотрел неодобрительно и сухо заметил:
– Я не уверен, что дальше есть числа.
Чтоб я смогла сказать, сыночек, я тебя совсем люблю.
Со всем.
О домашних питомцах

По дому неспешно, величаво, с достоинством летает упитанная моль. Поплевывая на глупые прыжки внизу, на хлопки, на вопли «я и за молью должна сама гоняться?!».
У мужа футбол, у сына английский. Если хлопаю и ору слишком громко, они укоризненными взглядами вопрошают, зачем я разрушаю гармонию.
Моль думает, я аплодирую ее красоте.
Однажды мой папа увидел, в чем я хожу зимой, ужаснулся и пришел к выводу, что мне нужна дубленка.
В то время дубленки не продавались, они доставались. Достать было негде.
Папа к решению вопроса подошел творчески: где-то купил шесть самопально выделанных, негнущихся, гремящих овечьих шкур и торжественно вручил их мне, заставив поклясться, что отнесу эту красоту в меховое ателье и наконец-то сошью себе Достойную Вещь (ДВ).
Ателье сопротивлялось, но я ж поклялась.
Сшили. Точнее будет сказать, распилили и сколотили.
Приволокла многокилограммовый кошмар домой и запихнула в шкаф, с глаз долой. Потом наступила зима, и я подумала – зато тепло. В конце концов, может, у меня такой стиль, подражание колхозному сторожу Федотычу.
Я вытащила ДВ, из нее посыпался мех. При внимательном рассмотрении ДВ оказалась землей обетованной, счастливой Аркадией для моли. Старики, дети и взрослые смотрели на меня как на агрессора, с ненавистью. Пытались утащить родину в шкаф, на ее законное место.
Пару недель ДВ провисела на балконе, вымораживалась. Моль закопалась в остатки меха и выжила. Я решила ее выбить. Как пыль из ковра. По двору летели клочья меха, слышались стоны погибающих.
В сильно полысевшей ДВ я таки проходила зиму.
Однако оказалось, кое-кто выжил. И к следующему сезону в одной отдельно взятой ДВ случился демографический взрыв. Моль пихалась локтями и, предчувствуя истощение ресурсов, жрала в три горла.
Я поставила ДВ у мусорных баков. Неделю она стояла там, одинокая. Потом пропала. Наверно, моль набралась сил и улетела с ней туда, где уважают жизнь в любых ее проявлениях.
Тулупа у меня нет до сих пор. Поэтому-то интересно: на чем, ну скажите, на чем наша нынешняя пакость смогла наесть себе такую наглую толстую рожу?!
Об эллинистическом
Влететь в Грецию на белом коне не удалось, потому что враг рода человеческого придумал самолетные откидные столики. Сидевшая впереди нервная тетя затрепетала пышным телом, и мой кофе со сливками устремился ко мне, на белые штаны и майку. Весь.
По прилету с горя закурила под плакатом «Минимальный штраф за курение в аэропорту 500 евро». Не оштрафовали: то ли грекам плевать на людоедские регламентации бездушного Брюсселя, то ли рука не поднялась наказать того, кто обличьем бомж.
Дама в игривом купальнике кричит в телефон:
– Котик, слышишь меня?! Звоню с подножия Олимпа!
Через день та же дама:
– Котик, прикинь, они дали мне номер с видом на Олимп! Заставила поменять, чтоб на море. Что я на том Олимпе не видела?!
По вечерам в баре мы с мужем пили местное бренди, мальчик читал Борхеса. Такое вот гармоничное сочетание возвышенного и земного.
В бунгало забирались лягушки, мелкие, цвета упомянутого кофе со сливками, настойчиво щемились в ванную. Я всем сердцем люблю живую природу, но мне не нравится, когда она жизнерадостно скачет по моим вьетнамкам. Да и неприлично в моем возрасте мыться на глазах у коллектива, пусть даже земноводного. Лягушек ловили в бумажный кулек и относили в пруд.
Над дверью жили птицы – ласточки. Папа, мама и четыре ластовенка. Когда мимо гнезда проносилась посторонняя ласточка, недоросли дружно распахивали клювы, на всякий случай. Самый смелый, он же самый бестолковый, сидел исключительно на краю гнезда, иногда засыпал, зацепившись одной лапой и свешиваясь вниз головой. Естественно, выпал. Ковылял в траве растерянно, пищал раздраженно, не понимая, отчего изменился мир. Водворили по месту прописки. Почувствовала себя гринписом.
В море заходит квадратный, вернее кубический дядя, недалеко, по шейку, замирает надолго. Затем поворачивается и медленно, со скоростью восходящего солнца, начинает восставать из воды.
На берегу его ждет жена с двумя полотенцами. Пока жена суетится, дядя величественно смотрит за горизонт. Обсушенный, с достоинством несет себя к лежаку. Жена забегает вперед, стелет на лежак простыню, расправляет на ней складочки, подает дяде панамку и мчится в бар за пивом.
Я старалась отвлекать мужа, чтоб он даже не смотрел в ту сторону. Не дай бог, эта модель семейно-брачных отношений заразна.
У буйков столкнулась с мужиком в гидрокостюме. Мужик целеустремленно плыл вдоль берега. За ним на тросике волочился его скарб, упакованный в оранжевый мешок. На мешке был пришпандорен красный флажок.
– Round Greece! – замученно выдохнул мужик и махнул рукой в непонятном направлении.
– Good luck! – сказала я, выпучив глаза и стараясь сделать вид, что, мол, и не то видала.
– Ton of thanks! – сказал мужик, хлебнул воды, отплевался и посмотрел на меня с неприязнью.
На закате из-за гор выплывало облако с золотыми краями. Располагалось поудобнее, зацепившись за вершины, и наблюдало, что там внизу. Лучи пробивались сквозь него: те, что шли вниз, – светлыми расширяющимися колоннами, те, что вверх, – темными.
Если б я была древним греком, я бы взглянула вверх и непременно придумала бога. И не одного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.