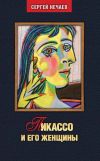Текст книги "О возлюблении ближних и дальних"

Автор книги: Наталья Волнистая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Об Афеле
Мой брат выловил это несчастье из пруда, связанные шпагатом лапы продолжительному плаванию не способствуют.
Бабушка, котов не жаловавшая, открыла было рот, но глянула еще раз и задумчиво сказала:
– Может, Кравчихиных рук дело?
Прошлым летом Кравчиху застукали за обиранием нашей смородины. Женщина, которая втихаря обирает соседскую смородину, способна на все – от разжигания третьей мировой войны до утопления котов в чужом пруду.
Несчастье крупно дрожало в луже натекшей с него воды, мокрое насквозь, в тине какой-то, с прицепившейся к тощему хвосту водорослью.
– Офелия, тебе довольно влаги! – сказал начитанный брат. – Оставим Офелию, да, бабушка? А то Кравчиха точно утопит.
При стирке выяснилось, что это уж никак не Офелия, ну а где Офелий, там и до Афели рукой подать.
За пару недель Афеля отъелся, распушился, обнаглел и воцарился. Умел нацепить на морду свою бандитскую выражение «трогательный котеночек», и любая шкода сходила ему с лап.
По вечерам брат или дед читали вслух, а мы с бабушкой слушали. И Афеля слушал. Я была убеждена, он все понимает. Сидит рядом, смотрит, даже не муркает, – конечно, понимает.
Но ленив был чрезвычайно. В сарае завелись крысы, и бабушка, боявшаяся их до обморока, выставила Афелю на охоту. Мы с братом видели этот цирк. Афеля забирался на полку с дедовыми инструментами и ждал, когда крыса вынырнет из ниоткуда и пройдет точно под полкой. Вздыхал и падал на нее. Не прыгал, а именно падал. Но – мимо. Крыса не спеша удалялась, ехидно хихикая и показывая хвостом неприличные жесты. Правда, потом приволок крысу. Положил на крыльцо, гордо уселся рядом. Дня три приносил по крысе. Бабушка нахвалиться не могла. Пока братец мой не заметил, что добыча с каждым днем теряет товарный вид. И что вообще-то это одна и та же крыса. Пришлось отобрать и закопать.
А потом он заболел. Перестал ходить с дедом на рыбалку, есть почти перестал. Лежал на своем половичке на кухне.
В то время в нашем городке никому и в голову не приходило лечить котов. Но бабушка обманом заманила к нам фельдшерицу Тамилу с Пионерской улицы.
– Знала бы, что к коту зовете, ни за что б не пошла, что это вы, Евдокия Лукинична, удумали – докторов котам звать!
Но осмотрела и сказала – не жилец.
Мы с братом убирали за ним, кормить пытались: макаешь палец в сметану, а он облизывает. Через пару дней только воду слизывал. Лежал и смотрел. И все.
Вечером – я помню, конец осени, уже подмораживало – пропал. Перевернули весь дом, обыскали сад – нету.
Бабушка обронила, что коты так и уходят – умирать. Я ревела неделю без перерыва. Брат сказал, что ничего не умирать, а искать специальную котиную траву, пожуют и выздоравливают, а не вернулся к нам, потому что трава такая – выздоравливаешь, но все забываешь. Я ползимы караулила, что там на дворе у Кравчихи, вдруг Афеля так все позабудет, что придет к ведьме. А потом и я забыла.
Память о прошлом не непрерывна. Не фильм, а обрывки пленки, не всегда получается склеить. Но иногда всплывают потерявшиеся картинки. И я вижу, вижу свою бабушку, в длинной ночной рубашке, в наброшенном на плечи дедовом кожухе, вот она идет с керосиновой лампой по темному ночному саду, зовет, я стою на крыльце и изо всех сил верю, что сейчас Афеля спрыгнет со старой яблони или выберется из кустов сирени. И все будет как раньше.
Как тогда.
Когда мне было пять лет, и смерти не существовало.
О визитах
По воскресеньям к бабушке приходили подруги. Прямая как столб Фаина Павловна и одышливая старуха Окунь с нарисованными бровями.
Фаина Павловна приносила хворост, старуха Окунь – печенье с корицей. От бабушки – варенье и кусковой сахар, который полагалось колоть щипчиками.
По летнему времени чаевничали в саду, у кустов сирени.
За забором, на своем участке, незамедлительно обнаруживалась соседка Кравчиха, вся одно большое любопытное ухо. Кравчиху за стол не звали, а без свежих новостей что за жизнь.
– Иду мимо этих, что на углу, носом потянула, чую – она в котлеты чесноку насовала; у мужа печень, желудок, почки насквозь больные, насквозь, а она – чеснок в котлеты! Видит бог, со свету сжить хочет. Дуняша, еще чашку, – говорит старуха Окунь.
– Райка-продавщица замуж собралась, за инженера. Половины зубов нету, а за инженера! Вишневого не надо, не люблю, крыжовникового положи, – говорит Фаина Павловна.
– У Симановичей простыни покрали. Ума не приложу, кто на их рванье позарился, – сообщает старуха Окунь.
– До ночи уснуть не могла, – жалуется Фаина Павловна. – Чертковы гуляли. С песнями. За свет два месяца не плочено, а на гулянку завсегда найдется.
– Стеша! Тебе все слышно? – окликает бабушка Кравчиху.
– Кто вас, балаболок, слушает, я тут полю, заросло все, нужны вы мне, пустомели! – пыхает благородным негодованием Кравчиха.
– Ну да, полет, прополет, выполоть не может, – ехидничает старуха Окунь.
– Гряды в сурепке, глянуть стыдно, а она битый час траву под забором дергает. Несерьезная женщина! – припечатывает Фаина Павловна.
– Вся семья такая, пустячная, – резюмирует старуха Окунь.
В маленьком городе каждый взвешен и оценен, грехи предков тяжким грузом висят на потомках до седьмого колена. Кравчихе нет-нет да и припомнят двоюродного деда, укравшего козу у тех Жихов, что живут в синем доме за рынком, и после разоблачения бежавшего от неминуемого позора аж в Америку. Кравчиха привычно отбрехивается, выдвигая шаткую версию о добровольном уходе козы.
У маленького города с тремя тысячами населения агенты по всему миру.
Проходит лет сто, ты в Ташкенте на Алайском базаре выбираешь дыню, и прямо над ухом:
– У этого не бери, вчера взяла – тьфу, а не дыня! А это с тобой кто? Делает вид, что сюда не смотрит. А родители знают?!
Доведись мне полететь на Марс, не сомневаюсь – сразу же после посадки явится мне из ниоткуда аптекарша Роза Сулеймановна, или повариха Хотимская, или возчик Иван по фамилии Коник, отряхнет со скафандра красноватую пыль, глянет пытливо и спросит:
– Ты что тут делаешь? А это кто с тобой? А мама знает?
В августе небо над маленьким городом выгорает до блекло-голубого. За прудом, за Кравчихиным сараем, за магазином с конфетами, еще дальше – за парком – стоят облака. Как горы на картинках в тетушкиной книжке.
Года в четыре я решила, что на самом деле горы. С ущельями, крутыми тропинками, скачущими по скалам всякими там архарами и муфлонами, гнездами орлов, со всем, чему положено быть в настоящих горах. И в общем-то недалеко, рукой подать. И отправилась туда, к орлам и вершинам. По улице, мимо магазина, через парк.
Дед поймал меня уже за речкой. Отругали, в угол поставили, до сих пор помню белое лицо деда, бегущую навстречу растрепанную бабушку и то, что в углу стоять скучно. И сожаление с обидой вперемежку: оставалось-то всего ничего, я бы дошла.
Я снов не помню, а тут приснилось и запомнилось. Не видеоряд, а чувство – обида. Та, давняя – что ж так рано остановили, еще б чуть-чуть. Я бы дошла.
Об одной истории
Начало двадцатого века, белорусское местечко, черта оседлости.
Семья, две дочери-погодки. Сохранилась фотография. Обе в темных гимназических платьях стоят у якобы мраморной колонны. Бог разделил неровно. Старшая – красавица, та самая неправильная красота, вне моды, вне эпохи. Из-за тяжелой светлой косы на затылке она держит спину, как балерина. И сама как огонек на ветру. Младшая некрасива до уродства.
Я буду говорить о старшей.
Жених ее в Первую мировую был взят денщиком к одному из великих князей – за гренадерский рост и бравый вид. Вернулся, поженились, родились дети, сын и четыре дочери. Старшая пошла в мать, так хороша – глазам смотреть больно. Следующая не хуже, с изумительным контральто, но хромоножка. Две младших просто милы. Старшая выходит замуж за летчика, уезжает к нему, ее муж гибнет на финской войне. Сын уходит в армию в сороковом.
Тысяча девятьсот сорок первый. Приходят немцы. Соседей-евреев, кто не успел или не мог бежать, вырезают под корень в первые же месяцы.
Голод. Чтоб прокормить семью, хромоножка идет работать в сельхозуправу машинисткой. Следующая по возрасту девочка, принятая перед самой войной в комсомол, зарывает комсомольский билет под грушей в саду.
Самая младшая – совсем ребенок, все это проходит мимо нее.
Тысяча девятьсот сорок четвертый. Освобождение. От сына никаких вестей. Но получено письмо от старшей дочери, она снова замужем, за майором – грудь в орденах.
Жизнь продолжается. Выявляют пособников. Хромоножку вызывают на допрос. Потом отпускают домой, но дают понять, что ненадолго. Ее видит следователь, другой, не тот, что допрашивал, чем-то она западает ему в душу, и он решает ее спасти, в лагерях ей точно не выжить. Каким-то образом он подменяет документы. Родители же отправляют хромоножку к дальним родственникам, она уезжает сразу же после допроса. Через пару дней приходят, но не за хромоножкой, а за комсомолкой. Допрашивают без энтузиазма, следователь (тот, что заменил одну сестру другой) душу себе не рвет, смотрит в сторону. Отправляют на Колыму. Восемь лет. Она моет золото. От стояния в холодной воде ни о каких детях в дальнейшем и речи не шло. Вот кончается ее срок. Их везут из лагеря в центральный поселок, выдав кило хлеба, круг колбасы и даже какие-то деньги. Женщин в тех краях негусто, о том, что доставят освободившихся, мужчины знают и собираются на площади. Много уголовников, пришедших выбирать себе «невесту». Среди собравшихся и молодой офицер, уже на вольном поселении, прошедший всю войну, но в сорок первом бывший в плену и в сорок пятом загремевший. Ей повезло. Он ее выбрал, они еще выждали несколько лет, а потом решились вернуться в Латвию, на родину офицера. И прожили счастливо сорок семь лет.
Она догадывалась о подмене, но никогда не упрекнула этим сестру.
Хромоножка замуж не вышла, не сложилось. Но в семидесятых годах познакомилась с мужчиной, своим ровесником, отставным военным. Решили жить вместе, и она пригласила сестер – на смотрины. Сестра приезжает из Риги вместе с мужем, они заходят в дом, и в женихе она узнает допрашивавшего ее следователя. Тот, предчувствуя такое развитие событий, подготовился. Говорил, что полюбил хромоножку и спас ее, по-другому спасти не получалось.
Сестра с мужем повернулись и ушли, не пройдя дальше прихожей.
До самой смерти своей сестры не смогли простить друг друга. Комсомолка – за выбор жениха, а хромоножка – за то, что из-за сестры от него отказалась.
Наверно, все было сложнее. Уточнить не у кого. Они все ушли.
Это мои родственники.
Бабушка Евдокия Лукинична, которой в ее семьдесят лет никто больше сорока пяти не давал. Актерка и фантазерка, самый острый язык в городке.
Дед Николай Максимович, высоченный, седоусый, приносивший мне с рыбалки кусок хлеба в табачных крошках – от зайчика.
Моя старшая тетя Маруся – красавица. Ее майор заболел туберкулезом, начал пить, и она вместе с ним, быстро втянулась и столь же быстро растеряла свою красоту. Сын ее боролся с пристрастием матери, но сломался сам.
Моя тетя Оля. Веселая хохотушка, будто и не было тех восьми лет. Ее муж, мой любимый дядя Сережа – интеллигент, умница, человек старорежимного воспитания.
Моя несчастная тетя Ксения. С возрастом ходить ей становилось все труднее. Грузная, с трудом ковыляющая, в очках с толстыми стеклами. Только голос от той, от прежней.
Младшая дочка – моя мама.
Никого не расспросишь.
Я опоздала.
О Зоське
Лето начиналось так: в палисаднике зацветала персидская сирень, и бабушка говорила, ну все, жди визита.
Через пару дней под вечер наша собака Герда диким брехом сообщала – дождались, по неизвестной причине Зоську Курортницу она не любила, облаивала с таким надрывом, будто деньги зарабатывала.
Зоська приносила три отреза, завернутые в газету.
Синий штапель в белый горох, желтый ситец в мелкий цветочек, розовый поплин в красную полоску.
В удачные годы ситец мог смениться креп-жоржетом, штапель – батистом, поплин – шелком.
В крапинку, в букетики, в обожаемый Зоськой узор с непонятным названием «турецкий огурец».
Бабушка отнекивалась, кивала на полный дом внуков, ни присесть, ни продохнуть, шла бы ты к кому другому, давеча на рынке мадам Шамис жаловалась, заказов мало. Мадам Шамис шила лучше бабушки, но зато и брала дороже, а у Зоськи с ее копеечной зарплатой и копеечными приработками каждый рубль был на счету.
Сценарий не менялся: полчаса уговоров, и крепость выбрасывала белый флаг.
Бабушка говорила, все бы тебе, Зося, по курортам гастролировать, вон у Яновских квартирует механик с автобазы, непьющий, серьезный, не вертопрах, с лица не урод, пригляделась бы.
Да ну, Лукинична, мне надо, чтоб интеллигент, чтоб руки белые, смеялась Зоська, у нас такие не водятся, а на курорте есть на кого посмотреть, есть кого выбрать, там мужчины импозантные, нашим не чета.
Вообще-то холостые интеллигенты в Маленьком Городе водились, но в холостом состоянии пребывали недолго, при появлении молодого врача или учителя его незамедлительно окружал рой пышных незамужних дев, Зоське сквозь их плотное кольцо было не пробиться.
Бабушка сердилась, что-то не видно толку от твоих вояжей.
Потому что я пока куриного бога не нашла, как найду – будет толк, убежденно говорила Зоська, вот увидите, примета верная.
Я спросила, кто такой куриный бог, оказалось, просто морской камушек с дыркой.
Шились наряды.
Юбка колоколом, рукав фонариком, сзади вырез.
Крупные пуговицы, плечи голые, сверху пелеринка.
Лиф в облипку, на талии чуть присборено, по подолу оборка.
Мне доставались лоскутки.
В начале августа в общем вагоне Зоська уезжала навстречу счастью.
Через две недели возвращалась с облупленным носом и рассказами об импозантных курортных мужчинах – артистах, летчиках, секретных ученых.
Все они напропалую ухаживали за маленькой сутулой Зоськой, проходу ей не давали.
Я, помнится, возмутилась, почему это меня за вранье ругают нещадно, а Зоську бабушка слушает, ахает, головой кивает, ну неправда же все.
Она не врет, она мечтает, сказала бабушка, она мечтает о прошлом, так что сиди и молчи, и не вздумай изображать правдолюбку, думаешь, я не знаю, кто кота постриг?
Год, другой, третий, Зоська в очередной раз вернулась с охапкой небылиц, говорила про букеты, рестораны и вдруг посреди этих россказней расплакалась.
Бабушка выставила меня из залы, но в окно, что выходило в сад, было видно, как она гладит Зоську по голове.
Я несколько дней искала плоский камушек, нашла более-менее подходящий, стащила с дедова верстака длинный толстый гвоздь и пыталась продолбить в этом чертовом камне дырку.
У меня не получилось.
Бабушка умерла в марте, снег выше заборов, весной и не пахло.
Наутро после поминок тетушка сказала, у Зоськи тарелки и стаканы брали, помнишь, где живет? Отнеси.
В Зоськином доме время застыло.
Те же часы с застрявшей кукушкой, те же кружевные салфеточки на этажерке, тот же громадный буфет на половину комнаты.
Дом не тронуло, Зоську не пожалело.
Лукинична умерла, мадам Шамис жива, лучше помереть, чем так жить, еще одна молодая есть, так у нее под настроенье, то сошьет – прямо картинка, то будто нарочно матерьял испортит.
Со спинки древнего дивана на меня смотрел желтыми глазами старый, будто вылинявший, кот.
А на стене, под фотографией самой Зоськи на фоне прибоя, на красном шелковом шнурке висел куриный бог.
В прошлом году нашла, сказала Зоська, теперь все переменится, верная примета, вот увидишь.
О жажде славы и прочего
Первого сентября так: ученик выпускного класса несет на плече малышку с бантиками, та звонит в колокольчик, мамы-бабушки утирают счастливые слезы. Очень трогательно.
Носильщик выбирается по двум параметрам: а) здоровенный; б) отличник.
Но здоровенные отличники в природе встречаются все реже, вымирающий вид, не каждой школе такое счастье, поэтому, как правило, ограничиваются пунктом а).
Лет десять назад. Маленький Город. Конец августа.
Директрисе звонят из столицы, сообщают, торжественную линейку приедет снимать телевидение. В компании со спонсором. Спонсор, глядя в камеру, коротенько расскажет, как сильно он и его фирма болеют душой за образование. Потом первый звонок, а затем изболевшийся спонсор вручит выпускнику-переносчику и первоклашке с колокольчиком памятные подарки, а именно – мобильные телефоны.
Не оплошайте, подготовьтесь как следует.
С назначением носильщика вопросов не возникло: у директрисы сын как раз в одиннадцатом классе. Правда, несмотря на все усилия педагогического коллектива, не отличник. Да и хлипковат, но ничего, найдем ему дюймовочку, справится.
Так думала директриса. И, дабы соответствовать, купила себе новый костюм – юбка-карандаш, пиджак притален, цвет индиго, Италия, made in China.
Казалось бы, все путем.
Но!
У заведующей районо была своя собственная внучка, первый класс, та же школа. И поскольку а) телевидение, б) телефон на халяву, то у заврайоно сложилось четкое представление, кому звонить в колокольчик.
Опять-таки, вроде бы ничего страшного.
Но!
Для своего возраста внучка была на редкость рослой и упитанной девочкой.
Директриса заволновалась – не донесет же, давайте кого поминиатюрнее возьмем.
Заврайоно тонко улыбнулась и заметила, что мальчика можно и покрепче выбрать, кто ж откажется, раз а) телевидение, б) телефон на халяву. А также с) нам с вами, дорогая Алла Михайловна, еще работать и работать!
Тем самым дав понять: либо внучка звонит в колокольчик, либо колокол прозвонит по самой директрисе.
Как однажды сказало упомянутое телевидение, «в этом уголке земного шара сошлись чисто перпендикулярные геополитические интересы». Что и доказала состоявшаяся за пару дней до линейки репетиция.
Ни заврайоно, ни директриса поступиться принципами и родными кровиночками не желали. Однако, будучи людьми разумными, подумали и выработали консенсус.
Мобилизованные физрук и учитель химии помогают взгромоздить внучку на хилое сыновье плечо, затем этаким почетным караулом проследуют рядом с главными героями, поддерживая непосильный груз и подстраховывая.
За два дня тренировок директорский сын расхотел мобильный телефон. А внучка – та нет, хотела по-прежнему. Храбрая девочка.
Первое сентября.
Ну, сказало приехавшее телевидение, давайте прогоним, чтоб не облажаться. Показывайте.
Первый блин вышел комом.
Сын, внучка, физрук, химик и колокольчик представили публике мобильную инсталляцию, чем-то напоминающую скульптурную композицию «Лаокоон и его сыновья», только без змей.
– Вы че, совсем двинулись? Я порнуху принципиально не снимаю! – сказало телевидение. – Эй, ты! Во втором ряду! Иди сюда, сейчас тебе красавицу найдем. Вон ту куклу бери и неси, смотри не урони, может, невеста твоя!
Видела я тот репортаж. Сын шофера скорой и медсестры бережно нес дочку официантки и неизвестно кого.
Белые рубашки и пышные банты. Астры, гладиолусы и георгины. Мамы-бабушки и слезы. Очень трогательно, честное слово.
Спонсор не приехал. Судя по всему, пожмотничал. Буржуй недорезанный.
О легкости бытия
Жить, в сущности, легко.
Правилы просты.
Не орать на детей. А то потом обидно будет, что кто-то орет на ваших внуков – пусть даже ваши собственные дети.
Не шпынять мужа.
Не рычать на жену.
Не выяснять, кто кого осчастливил.
Помочь бабульке, даже если на бабульке этой написано – мерзкая старушонка. Сумка-то у нее все равно тяжелая.
И если в кораблекрушении вам повезло вскарабкаться на спасательный плотик, то постараться вытащить того, кто поближе, а не устраивать аукцион среди тонущих – кто больше даст за спасение.
Так что желаю всем легкой жизни.
Чтобы вы любили, чтобы вас любили, и чтоб это совпадало.
И чтоб вам никогда не пришлось выбирать между теми, кого любите.
А что еще нужно для легкого счастья, каждый сам себе додумает.
Ваша Н.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.