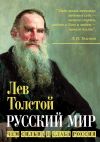Текст книги "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"
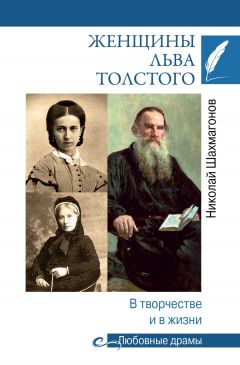
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
В погоне за семейным счастьем
Перед самой поездкой в Ясную Поляну 24 мая 1856 года Лев Николаевич отметил в дневнике: «Четыре чувства с необыкновенной силой овладели мной: любовь, тоска, раскаяние (однако, приятное), желание жениться. С некоторого времени я серьезно думаю о браке, и на всех барышень, которых вижу, смотрю невольно с точки зрения брака».
Первые дни после приезда в Ясную Поляну Лев Толстой наслаждался этими с детства полюбившимися краями. Правда, постепенно нарастало и тяготение к общению с прекрасным полом. Но до поиска второй половины, казалось, еще очень и очень далеко. И вдруг в дневнике появилась запись о том, что в соседнее имение Судаково приехала Валерия Арсеньева, которой исполнилось двадцать лет.
Лев Николаевич уже был некоторым образом привязан к имению Арсеньевых Судакову, поскольку дал согласие стать опекуном младшего сына умершего дворянина Владимира Арсеньева, соседа по Ясной Поляне. Он был младшим братом Валерии и ее сестер, обитательниц доставшегося им по наследству имения.
Вскоре произошла встреча, ведь Толстой приезжал туда часто именно по опекунскому своему долгу. В дневнике появляется запись от 15 июня 1856 года: «Шлялись с Дьяковым. Много советовал мне дельного об устройстве флигеля, а, главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется, тоже, что это лучшее, что я могу сделать».
Вот так, сразу, едва ли ни с первого взгляда он обратил внимание на девушку, и дневник стал запечатлевать его мысли, слишком разные – то желание жениться, то сомнения…
Еще в 1852 году, находясь на Кавказе, Лев Николаевич писал Татьяне Александровне Ергольской из Моздока: «Дорогая тетенька! Вот какие мысли пришли мне в голову. Постараюсь их вам передать, потому что я думал о вас. Я нахожу, что во мне произошла большая нравственная перемена; это бывало со мной уже столько раз. Впрочем, думаю, что так бывает и со всеми. Чем дольше живешь, тем больше меняешься. Вы имеете опыт, скажите мне, разве я не прав? Я думаю, что недостатки и качества – основные свойства личности – остаются те же, но взгляды на жизнь и на счастье должны меняться с годами. Год тому назад я находил счастье в удовольствии, в движении; теперь, напротив, я желаю покоя как физического, так и нравственного. И ежели я представляю себе состояние покоя, без скуки, с тихими радостями любви и дружбы – это для меня верх счастья! Впрочем, после утомления и познаешь прелесть покоя, а радость любви после лишения ее. С некоторых пор я испытал и то и другое, и потому так стремлюсь к иному. Между тем нужно еще лишить себя этого. Надолго ли, Бог знает. Не знаю сам, почему, но чувствую, что должен. Религия и жизненный опыт, как бы короток он ни был, внушили мне, что жизнь – испытание. Для меня же она больше испытания, она искупление моих проступков.
Моя мысль, непродуманное мое решение ехать на Кавказ было мне внушено свыше. Мной руководила рука Божья – и я горячо благодарю Его, – я чувствую, что здесь я стал лучше (этого мало, так я был плох); я твердо уверен, что что бы здесь ни случилось со мной, все мне на благо, потому что на то воля божья. Может быть, это и дерзостная мысль, но таково мое убеждение. И потому я переношу и утомления, и лишения, о которых я упоминал (разумеется, не физические, их и не может быть для 23 – х летнего здорового малого), не чувствуя их, переношу как бы с радостью, думая о том счастье, которое меня ожидает. И вот как я его себе представляю. Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей, вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа. […]
Ежели бы меня сделали русским императором, ежели бы мне предложили Перу, словом, ежели бы явилась волшебница с заколдованной палочкой и спросила меня, чего я желаю, положа руку на сердце, по совести, я сказал бы: только одного, чтобы осуществилась эта моя мечта. Я знаю, вы не любите загадывать, но что ж в этом дурного, и это мне так приятно! Но мне кажется, что я эгоистичен и мало предоставил вам доли в общем счастье. Боюсь, что прошедшие горести, оставившие чувствительные следы в вашем сердце, не дадут насладиться вам этим будущим, которое составило бы мое счастье. Дорогая тетенька, скажите, вы были бы счастливы? Все это, может быть, сбудется, а какая чудесная вещь надежда. Опять я плачу. Почему это я плачу, когда думаю о вас? Это слезы счастья, я счастлив тем, что умею вас любить. И какие бы несчастья меня ни постигли, покуда вы живы, несчастлив беспросветно я не буду. Помните наше прощание у Иверской, когда мы уезжали в Казань. В минуту расставания я вдруг понял, как по вдохновению, что вы для нас значите, и, по-ребячески, слезами и несколькими отрывочными словами, я сумел вам передать то, что я чувствовал. Я любил вас всегда, но то, что я испытал у Иверской, и теперешнее мое чувство к вам – гораздо сильнее и более возвышенно, чем то, что было прежде.
Я вам сознаюсь в том, чего мне очень стыдно, что я должен очистить свою совесть перед вами. Случалось, раньше, что, читая ваши письма, когда вы говорили о вашей привязанности к нам, мне казалось, что вы преувеличиваете, и только теперь, перечитывая их, я понимаю вас – вашу безграничную любовь и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий, кроме вас, кто бы ни прочел сегодняшнее мое письмо и предыдущее, упрекнул бы меня в том же, но от вас этого упрека я не боюсь; вы меня слишком хорошо знаете, знаете, что, может быть, единственное достоинство – это то, что я умею сильно чувствовать. Этому свойству я обязан самыми счастливыми минутами своей жизни. Во всяком случае, это последнее письмо, в котором я позволил себе выражать такие экзальтированные чувства, экзальтированные для равнодушных, а вы сумеете их оценить. Прощайте, дорогая тетенька, через несколько дней я думаю увидать Николеньку, и тогда я вам напишу».
Дневник изобилует краткими записями. Он изучает Валерию, оценивает ее поведение, ее внешность, ее интересы:
«16 июня. – Валерия мила.
18 июня. – Валерия болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть. Приезд мой с Дьяковым был неловок, как будто обещал им что-то».
Начинали смотреть уже как на жениха. Ну а как же иначе? Молодой человек ездит в дом, где девицы на выданье. Правда, родителей нет – он же и опекун их, то есть человек, ответственный за этих самых барышень. Он и сам не понимает, что влечет в этот дом.
Супруга Льва Толстого, от которой он не скрывал своих минувших увлечений, на основании писем сделала вывод: «Перечитывала его письма к В.А. Еще молодо было, любил не ее, а любовь и жизнь семейную. А как хорошо узнаю я его везде, его правила, его чудное стремление ко всему, что хорошо, что добро. Ужасно он милый человек. И, прочтя его письма, я как-то не ревновала, точно это был не он и никак не В., а женщина, которую он должен был любить, скорее я, чем В. Перенеслась я в их мир. Она хорошенькая, пустая в сущности, и милая только молодостью, конечно, в нравственном смысле, а он все тот же, как и теперь, без любви к В., а с любовью к любви и добру. Ясно стало мне и Судаково…»
В романе «Семейное счастие» Лев Толстой попытался представить себе, что в те дни испытывала сама Валерия, и он пошел на, казалось бы, обычный авторский прием – повествование от первого лица, – лишь с той разницей, что повествование он вел от героини Маши, прототипом которой и стала Валерия. В романе – иногда роман этот именуют повестью – сообщается, что в марте приехал опекун. Это уже явное указание на ситуацию, связанную с самим Львом Николаевичем. Он начинает с реакции домочадцев главной героини:
«– Ну слава богу! – сказала мне раз Катя (сестра главной героини. – Н.Ш.), когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех».
Повествование в «Семейном счастии» ведется от главной героини, прототипом которой является Валерия Арсеньева. Она рассказывает:
«Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамаши запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, и он говорил мне ты, играл со мной и прозвал меня девочка-фиалка, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?»
Да и портрет Сергея Михайловича явно списан Толстым с самого себя. Дается он от имени Маши: «Я шесть лет не видела его. Он много переменился; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка».
Характер Сергею Михайловичу Толстой тоже дарит свой: «Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.
Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее».
Получается, что роман с Валерией Арсеньевой написан как бы с двух сторон: с мужской – со стороны самого Льва Николаевича в дневнике, с очень большими подробностями, и с женской – со стороны Валерии, уже художественно, хотя почти каждая фраза дышит документальностью.
Текст произведения во многом перекликается с дневниковыми записями. 21 июня Толстой снова пишет об Арсеньевых: «Вечером приехали Арсеньевы. Я с ней мало говорил, тем более она на меня подействовала». Толстой фиксирует все события и показывает колебания своих мыслей. Вот ведь, и пора пришла жениться, и невеста хороша собой, к тому же дочь давних знакомых, вот так, внезапно покинувших этот мир. Но женитьба – дело нешуточное. Он уже в молодые годы понял это, хотя и не доводилось ему еще оказаться в роли супруга.
26 июня запись: «Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».
К сомнениям в своих чувствах добавляются сомнения в чувствах Валерии. А она нет-нет, да почву дает для этих сомнений. 28 июня запись: «Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа». Но уже 30 июня о ней сказано лучше, хотя это вовсе не повод для женитьбы: «Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься».
Но он продолжает ездить, причем теперь явно не по опекунским делам. 1 июля записывает: «Провел весь день с Валерией. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у ней нехороши. Это меня расстроило». То есть внешние качества все еще рассматриваются на предмет, годится ли в жены. Мысли о женитьбы не отброшены. Тем не менее огорчение по поводу рук, которые нехороши, привело к желанию обидеть: «Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недокончено. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена. Все это я узнаю».
Такие удивительные подробности развития отношений найдешь не у каждого писателя в биографии. 2 июля снова оценка: «Валерия писала в темной комнате опять в гадком франтовском капоте. Она была холодна и самостоятельна, показала мне письмо сестре, в котором говорит, что я эгоист и т. д. Потом пришла М. Vergani и начались шутливо, а потом серьезно рекриминации (встречные, взаимные обвинения. – Н.Ш.), которые мне были больны и тяжелы. Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась и после маленькой грусти, которую я испытал, все прошло. Она несколько раз говорила, что теперь: пусть по-старому. Очень мила».
Упреки и претензии, как к далеко не постороннему человеку, как к жениху.
10 июля – перемена к лучшему: «Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны», 12 июля подмечены новые недостатки: «Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному – ужасающие. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить. Провел день, однако, очень приятно».
Илья Владимирович Толстой сделал вывод, что его знаменитый прадед никак не мог сделать окончательный выбор, потому что создал идеал женщины, под который никто из его знакомых барышень не подходил.
И.В. Толстой писал: «Впоследствии Толстой в одном из черновых вариантов «Анны Карениной» более определенно сказал, что составляло его идеал женщины и любви в те годы. «Левин едва помнил свою мать, память о ней была для него самым священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного священного идеала женщины, которым была для него мать.
Для Левина любовь была совсем не то, что она была для… большинства его знакомых. Первое отличие его любви уже было то, что она не могла быть запрещенная, скрывающая и дурная. У него было то запрещенное и скрываемое, что другие называли любовь. Но для него это было не любовь, но стыд, позор, вечное раскаяние. Его любовь, как он понимал ее, не могла быть запрещенною, но была высшее счастье на земле, поэтому она должна стоять выше всего другого. Все другое, мешающее любви, могло быть дурное, но не любовь. И любовь к женщине он не мог представить себе без брака. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия… других, для которых женитьба была одно из многих общежительных дел; для Левина это было одно высшее дело, от которого зависело все счастье в жизни».
Поэтому-то Толстой столь серьезно оценивал Валерию, оценивал с разных сторон.
13 июля он писал в дневнике: «Хочу ехать к Арсеньевым и поговорить с Vergani. – С Vergani не говорил. Застал там Завальевского, а потом Спечинского. Добрый малый, кажется. Валерию дразнили коронацией (коронацией императора Александра II, на которую она очень хотела попасть. – Н.Ш.) до слез. Она ни в чем не виновата; но мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или может это оттого, что она слишком много мне показывала дружбы. Страшно и женитьба, и подлость – т. е. забава ею. А жениться – много надо переделать; a мне еще над собой надо работать…»
Он ведь и с себя не снимает высокой ответственности, к себе предъявляет высокие требования…
25 июля – снова рассказ о визите в Судаково: «[…] После обеда поехал с Натальей Петровной к Валерии. В первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в 10 раз лучше – главное, естественна. Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня [?]. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».
Некоторые авторы прочитали «застал ее без платьев» дословно и по этому поводу выстроили даже весьма откровенные предположения. Но повесть «Семейное счастье» вполне объясняет эту фразу:
«В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.
В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. […] У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светловычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. […]. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидала его.
– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она. – А мы только что про вас говорили.
Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.
– Ну, что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.
– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.
– Чем же это дурно? – прокричал он мне вслед. – Точно молодайка крестьянская.
“Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну, слава богу, что он приехал, веселей будет!” И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить…».
28 июля: «[…] поехал к Арсеньевым, которые звали. Странно, что Валерия начинает мне нравиться, как женщина, тогда как прежде, как женщина именно, она была мне отвратительна. Но и то не всегда, а когда я настроюсь. Вчера я в первый раз заметил ее bras (плечи), которые прежде мне были отвратительны».
А ведь очень важно, чтобы нравилось все… И, конечно, плечи, и руки. Но тут не складывалось. А все же полностью отказаться от ухаживаний пока не готов.
30 июля – новый поворот во время визита в Судаково: «… Валерию и Mlle Vergani застал в слезах, письмо от Ольги, будто выходит замуж». Вполне понятно, почему в слезах. Жених вроде как ездит, а замуж не зовет. Толстой вполне понял это. И отношение к событию таковому выразил иными несколько словами: «Валерия совсем в неглиже. Не понравилась очень. И говорила глупо, что Дэвид Копперфильд много перенес несчастий и т. п. Дома… с тетенькой Полиной мы сердиты друг на друга. Я спорил о слабости женщин…». Вот ведь и в оценке литературы несходство понятий. Да ведь Валерия, как увидим дальше, не слишком дружна с книгой…
31 июля события были связаны с замужеством Ольги. Из разговоров в тот день единственный вывод: «Валерия, кажется, просто глупа…». Глупой она представлялась Толстому и на следующий день. Тем не менее 9 августа он снова проявил интерес, когда Арсеньевы приехали к нему в гости, но и тут вывод для барышни неутешительный: «Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована, и глупа» и далее: «Валерия возбуждала во мне все одно чувство любознательности и признательности».
Наконец, Валерия заговорила на темы брака. Что она говорила, не указано в дневнике. Но вывод противоположный прежним: «…она не глупа и необыкновенно добра».
Не указан разговор в дневнике, но зато раскрыт довольно подробно в «Семейном счастье»:
«– Что вы не женитесь? – сказала Катя. – Вы бы отличный муж были.
– Оттого, что я люблю сидеть, – засмеялся он. – Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.
Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.
– Вот хорошо! Тридцать шесть лет, уж и отжил, – сказала Катя».
Как видим, и возраст Сергея Михайловича – толстовский возраст. Да и мысли почти его. Лев Николаевич как будто бы и хотел жениться, но что-то постоянно мешало ему. А быть может здесь как раз проявляется пословица – «сужоного, да ряжоного конем не объедешь». Может быть, просто не встретилась еще суженая? Вот и повторял частенько то, что вложил в уста Сергея Михайловича:
«– Да еще как отжил, – продолжал он, – только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, – прибавил он, головой указывая на меня. – Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.
В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.
– Ну, представьте себе, – продолжал он, повернувшись на стуле, – ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш… на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит… и это самый лучший пример.
Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад, и что такое так выходит…
– Ну, скажите по правде, руку на сердце, – сказал он, шутливо обращаясь ко мне, – разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там бог знает, что бродит, чего хочется.
Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.
– Ведь я не делаю вам предложенья, – сказал он, смеясь, – но по правде скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?
– Не несчастье… – начала я.
– Ну, а нехорошо, – докончил он.
– Да, но ведь я могу ошиба…
Но опять он перебил меня.
– Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастие, – прибавил он.
– Какой вы чудак, ничего не переменились, – сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин».
Конечно, все это написано гораздо позднее. А в те дни Лев Толстой действительно был поглощен лишь своими мыслями о выборе, который, с одной стороны, сделан, ведь ездит же в Судаково, но, с другой, и не сделан вовсе. То не хочется ехать, то хочется, да вот, как 11 августа, гроза помешала. На следующий день он уже там и Валерия «необыкновенно проста и мила». И конечно, вопрос: «Желал бы я знать: влюблен ли или нет?»
А потом признание, что во время поездок «со сладострастными целями» снова проявил нерешительность, то есть «наткнулся на хорошенькую бабу и сконфузился…». Быть может, это оттого, что «все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке». Вон как… Уже и назвал ласково. Даже письмо написал, которое не стал посылать. А 22 августа: «Молчание Валерии огорчает меня».
Почему молчание? Где же Валерия? Она все-таки отправилась в Москву на коронацию императора Александра II, которая состоялась 26 августа 1856 года в Успенском соборе Московского Кремля.
Но молчание ведь и по вине самого Толстого. Валерия-то уже рассматривала его в качестве жениха. А он? Что она могла думать? Разве то, что подозревал в ее мыслях сам он. В «Семейном счастии» читаем:
«Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на все его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которою он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: “полноте, пожалуйста, что вам до этого”, и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным».

Миропомазание государя императора Александра II во время его коронования в Успенском соборе Московского Кремля 26 августа 1856 г. Художник В.Ф. Тимм
А ведь она все лето присутствовала в его мыслях. И вот уж осень наступила, а она не шла у него из головы.
Вот уж 4 сентября, а Валерия все в Москве. Там предусмотрено множество различных торжеств. Толстой скучает и записывает: «О Валерии думаю очень приятно». 6 сентября снова о том же: «В Судакове с величайшим удовольствием вспоминал о Валерии».
Наконец, Валерия снова в Судакове. Опять начинаются размышления. После разговора с Вергани Толстой записал, что «по ее рассказам Валерия мне противна». Да сам в который раз меняет мнение: «…ездил к Арсеньевым. Валерия мила, но, увы, просто глупа, и это был жмущий башмачок». День за днем весь сентябрь: «Была Валерия, мила, но ограниченна и фютильна невозможно». «Валерия нравилась мне вечером. Ночевал у них…». «Проснулся в 9 злой. Валерия неспособна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее».
А тут еще появляется повод для ревности: «Навели разговор на Мортье (пианист, у которого Валерия брала уроки в Москве. – Н.Ш.), и оказалось, что она влюблена в него. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то в роде чувства».
И в то же время это очень насторожило. Ревность – серьезный движитель. Случается, что жених тянет, тянет, все что-то решает, колеблется, но тут у невесты появляется кто-то еще. И тут же дело ускоряется.
Но не в случае с Толстым. Он оценивает, решает, тянет, но ревность не заставляет бросаться в омут. Только чаще думает о той, что как будто невеста и не невеста. Уже появляются даже такие записи: «…слава Богу, меньше думал о Валерии».
И вот тут, видимо, чисто интуитивно отмечает то, что случилось на самом деле: «Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни». Он еще не знает, что напишет «Семейное счастье», что мотивы этой связи будут присутствовать и в других произведениях. Он еще хочет понять, что же происходит: «А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой, не дай Бог, чтоб это было к Валерии. Она страшно пуста, без правил и холодна, как лед, от того беспрестанно увлекается».
Не дай Бог, чтобы было с Валерией? Не здесь ли истоки замысла «Семейного счастья»?
Запись 8 октября свидетельствует о растущем раздражении против Валерии: «Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание». Но и это еще не развязка. «Подумал и решил, что виноват и надо объясниться с ней, но только иначе».
19 октября. «Вечер у Арсеньевых и ночевал. Смотрел спокойнее на Валерию, она растолстела ужасно, и я решительно не имею к ней никакого, дал ей понять, что нужно объясненье, она рада, но рассеянно. Ольга умна. Ночевал у них.
Льву Толстому казалось, что и Валерия замечает его равнодушие к тому, как она выглядит. В «Семейном счастии» есть и об этом:
«Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша, а, напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, – как ребенка, или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью, и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли; сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, – он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже нисколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шутливый тон:
– Да, да, в вас есть. Вы славная девушка, это я должен сказать вам».
А сам Толстой уже засыпает в гостях «далеко не влюбленный».
Однако на следующий день, на балу снова все по-старому: «Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее».
Валерия почувствовала, что Толстому не нравится история с Мортье, хотя она и в прошлом. Он уже чувствует, что она не слишком нравится, «но она милая, милая девушка». И такая оценка потому, что «честно и откровенно она сказала, что хочет говеть после истории Мортье». Толстой признается: «…я показал ей этот дневник, 25 число кончалось фразой: я ее люблю. Она вырвала этот листок».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.