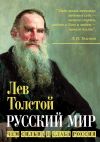Текст книги "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"
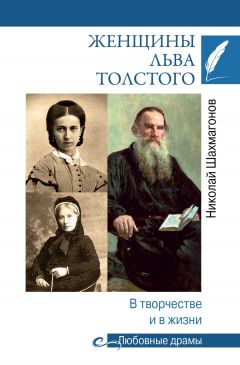
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
11 июля Толстой отметил в дневнике: «Нынче Бабарыкину, который был тут и едет к Генералу, поручил свой рапорт о переводе».
Скорее, скорее туда, где назревают важные события.
К Перекопу отправляли целую дивизию. Ясно, что ждали вторжения. Причем рассматривали разные варианты. Высадка в Крыму при энергичной защите берега сложна. А вот попробовать десант в Одессе или в Очакове – это наверняка рассматривали. Тем более через Очаков и через Днепровско-Бугский лиман дорожка проторенная. Пытались там турки высадиться в Херсоне, Николаеве или в Пристани Глубокой. Но Александр Васильевич Суворов решительно пресек те попытки.
Крым звал неотступно, и Толстой бомбил рапортами командование. 22 июля: «[…] завтра являюсь к обоим Начальникам и подаю оба рапорта».
23 июля. «Нынче с утра ходил объясняться и являться к начальству. Вышло, что Крыжановский сказал, чтобы я ехал в батарею».
И снова запись: «Подал другой рапорт о переводе».
Но не тут-то было…
Но 24 июля сделал такую запись: «Утром Новережский… принес мне назад мой рапорт с надписью Крыжановскаго».
Отказ. Не спешили отпускать в Крым.
16 сентября. 11–16 сентября. «Высадка около Севастополя мучит меня. Самонадеянность и изнеженность: вот главные печальные черты нашей армии – общие всем армиям слишком больших и сильных государств».
До Льва Толстого дошло известие о действиях агрессоров, когда они уже совершили высадку, которая была спланирована заранее. Еще в конце августа 350 судов противника взяли на борт десант и поплыли из Варны к берегам Крыма. 1 сентября они подошли к берегам Евпатории и начали высадку 60 – тысячного десанта, усиленного 134 полевыми и 72 осадными орудиями. В составе десанта было около 30 тысяч французов, около 22 тысяч англичан и около 7 тысяч турок. Удивительным было то, что небольшой отряд неприятеля захватил провиантские склады с 60 тысячами пудами пшеницы. Этого продовольствия хватило захватчикам на четыре месяца.
Соединенные силы Англии, Франции и Османской империи высадились 2–6 (14–18) сентября 1854 года. В высадке участвовали 89 боевых кораблей и 300 транспортных судов. Первоначально было высажено 62 тысячи человек при 112 орудиях. В городе, как и обычно, началась кровавая вакханалия.
Пока суд да дело, Толстой снова занялся борьбой с недостатками:
«Странно, что только теперь я заметил один из своих важных недостатков: оскорбительную и возбуждающую в других зависть – наклонность выставлять все свои преимущества. Чтобы внушить любовь к себе, напротив, нужно скрывать все то, чем выходишь из общего разряда. Поздно я понял это. Не буду подавать рапорта, пока не буду в состоянии завести лошадей, и употреблю все средства для этого. Пока не буду ни с кем иметь других отношений, как по службе…»
«Записывать недостатки и бороться с ними…»
Начиная с июля 1854 года, то есть со времени относительного затишья, он стал записывать свои недостатки. 4 июля в дневнике отмечено: «Главные мои недостатки. 1) Неосновательность (под этим я разумею: нерешительность, непостоянство и непоследовательность. 2) Неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. 3) Привычка к праздности. – Буду стараться постоянно наблюдать за этими 3 основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них…»
А на следующий день записал: «Главный мой недостаток состоит в недостатке терпимости к себе и другим».
И прибавил, что эта мысль через некоторое время напомнит о том моральном состоянии, в котором он находился 5 июля 1854 года.
Конечно, взыскательность и строгость к себе каждому человеку необходимы. Но Толстой, пожалуй, чрезмерно требовал от себя, порою, даже просто невозможного в той обстановке, в которой находился. Безусловно, он мог осуждать в себе лень и праздность – с его точки зрения лень и праздность. Им было создано и на Кавказе, и в Кишиневе, и впоследствии в Крыму столько произведений, которых иному писателю хватило бы и на все творчество.
А с некоторыми упреками, которые он адресовал сам себе, можно просто не согласиться. Так, 7 июля Лев Николаевич записал в дневнике:
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски не образован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérant) и стыдлив, как ребенок».
Относительно внешности, прямо скажем, не ему судить – человеку трудно судить о себе. Что касается образования, то одни лишь размышления Льва Толстого над Наказом Екатерины Великой говорят о его образованности. Ведь образование – это далеко не диплом об окончании высшего учебного заведения, которое он действительно не окончил, а совокупность знаний, полученных разными путями: и в семье, и в обществе добрых наставников, и, самое, наверное, главное – из книг. Так что следующая фраза «Я почти невежда» – несправедлива.
Толстой писал дальше: «Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». Ну что ж, военному делу он действительно учился урывками. Но важен итог! Мы еще коснемся свидетельств о том, как Лев Толстой проявлял новаторство, подавал предложения по совершенствованию боевой работы артиллерии и так далее.
Но свою воинскую специальность он действительно освоил почти что самостоятельно, хотя какие-то экзамены все-таки сдавать в Тифлисе пришлось, а следовательно, готовиться к ним.
Далее в дневнике говорится о тех чертах характера, которые он в себе почитал неприемлемыми: «Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди».
Отметим. Он уже делает обобщения по-писательски. Он уже оценивает «бесхарактерных» людей.
Ну а в отношении того, что он написал: «Я не храбр» – можно поспорить. Ведь его представляли к боевой награде – к Георгиевскому кресту, но по одним данным, он не получил его из-за того, что не было еще определено отношение к воинской службе, а по другим он просто уступил его кому-то, кому этот крест давал не только моральные, но и материальные блага.
Далее Толстой отметил: «Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой». Большое количество созданных в боевой обстановке произведений доказывает, что тут Лев Толстой судит себя слишком строго, хотя ему, конечно, виднее, как оценивать себя. Быть может, он чувствовал, что способен написать гораздо больше, чем написал.
Интересно следующее замечание: «Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового». Ну что ж, возможно, испытания небольшими произведениями для такого гигантского ума и действительно не слишком основательные испытания. Все впереди! Впереди и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресение», которые, безусловно, стали испытаниями для ума писателя.
И, наконец, мы добираемся до похвалы самого себя: «Я честен, т. е. я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но (и тут снова самокритика. – Н.Ш.) есть вещи, которые я люблю больше добра – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них».
Что ж, очень откровенно. К счастью, можно сказать, окидывая взглядом весь жизненный путь писателя, что он, когда пришлось выбирать между славой и добродетелью, выбрал добродетель.
И еще одно признание, отчасти вытекающее из предыдущих размышлений: «Да, я не скромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».
Говоря о невоздержанности, Толстой упрекает себя в том, что не мог удержаться и ел некоторые блюда, которые в данный момент по медицинским показаниям ему не рекомендовались. Но странно… До сих пор ни слова о влечении к женщинам.
В основном в последующих записях упреки себя за лень и нескромность, «за необдуманность, недовольство и нерешительность к исправлению своего положения». Далее – «за бесхарактерность» и «за непростительную нерешительность с девками…». А ведь на Кавказе, напротив, порицал себя за излишнюю активность, которая, правда, часто сводилась на нет именно нерешительностью.
А вокруг красавицы валашки
21 августа Лев Толстой записал: «Упрекаю себя… за нерешительность с хозяйкой, которую мне хотелось пощупать…»
Хотелось, да не решился. Дело в том, что Дунайские княжества уже не первый год, да какой там год, даже не первое десятилетие являлись театром военных действий. Борьбу за их освобождение русские войска особенно активно вели во второй половине XVIII века. Немало битв было на Дунае и в начале XIX века. Постоянные войны разлагали население. Мужчины торговали всем, чем только можно торговать, ну а женщины, особенно красивые, не прочь были пофлиртовать с военными.
Женщины там по-своему красивы, своей жгучей южной красотой. Веселые, бойкие, в меру озорные, в меру, а иногда и не в меру кокетливые, они словно дразнили русских офицеров, надолго оторванных войной от женской ласки. Как мог устоять Лев Толстой, совсем еще молодой и полный сил офицер? На Кавказе он предпринимал решительные действия, даже отмечал в дневнике, как стучал в дом к казачке, как она то пускала его на ночь, то не пускала. А тут, видно, не решился.
Нельзя забывать, что ему исполнилось 26 лет. Поэтому совсем неудивительны такие записи: «Хозяйская хорошенькая дочка также, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти». Ясная картинка, вполне обычная картинка. И запись-то совсем не военная. Он видел мир вокруг, видел в мире этом «хорошеньких» женщин, видел все вокруг: «По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно – хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде».
Ну а прекрасная половина человечества не дремала. 11 июля Лев Толстой записал: «Вечером я имел случай испытать воображаемость своего перерождения к веселой жизни. Хозяйская прехорошенькая замужняя дочь, которая без памяти глупо кокетничала со мной, подействовала на меня – как я ни принуждал себя – как и в старину, т. е. я страдал ужасно от стыдливости».
То есть он совсем не выглядел волокитой. Напротив, скромничал и не решался лишний раз подойти, познакомиться, наладить какие-то отношения.
А вот запись от 2 августа: «После обеда… ходил к Земфире с успехом».
16 августа Толстой написал, что «…бегал за девкой», хотя чем это завершилось, не отметил. В дневнике больше сообщений о работе над книгами, о попытке создать журнал. Но главное, повторяемое изо дня в день: «Важнее всего для меня в жизни – исправление от 3 пороков – раздражительности, бесхарактерности и лени».
И врастание в коллектив, наблюдение за людьми, невольный поиск прототипов будущих произведений. И выводы: «Как странно, что только теперь я убеждаюсь в том, что чем выше стараешься показывать себя людям, тем ниже становишься в их мнении».
Севастополь под угрозой
Толстой неоднократно отмечал в дневнике, что переживает за Севастополь, что его тревожат события, которые развертываются в районе города-крепости. К сожалению, к тому, что создал Потемкин, мало что добавилось за последующие годы. Сначала не до того было. И даже такой замечательный самодержец, как Павел Петрович, питая не слишком добрые чувства к Потемкину, не понял, сколь важна черноморская твердыня. Александр Первый и вовсе не интересовался обороной России. А Николай Первый вынужден был решать множество важнейших вопросов внутренних, а потому доверился лжедипломатам типа «австрийского министра русских иностранных дел», как его называли в ту пору – Нессельроде.
Враги России сумели внушить государю, что никакая война не грозит нам. А некто Канкрин даже отговорил от строительства железной дороги в Крым. Ведь важность железных дорог была оценена не сразу. Ну а враги России старались из всех сил, чтобы император не понял необходимости провести магистраль в этот важный регион. Даже построили потешную железную дорогу в Царское Село и все сделали так, что она действительно выглядела сооружением для потехи.
Но я несколько отвлекся… Лев Толстой был далек от размышлений о стратегии подготовки к войне. Он пока еще, как младший офицер, мыслил даже не на оперативном, а на тактическом уровне. Талант писателя не предполагает наличие безусловного таланта полководца – это разные вещи. Среди писателей немало военных, но среди писателей нет полководцев. Ближе всех к рангу военачальника стоял Денис Давыдов, дослужившийся до чина генерал-лейтенанта. В литературе его достижения в военном деле слишком упростили, превратив великолепную идею создания армейских летучих отрядов в обычное партизанское движение. Что хоть и близко внешне, но далеко не одно и то же.

Л.Н. Толстой во время Восточной войны
Толстой просто служил, а командир невысокого ранга не стремится вникать в оперативные планы, поскольку это, во-первых, невозможно из-за недостатка информации, а во-вторых, бессмысленно. Лев Толстой был командиром взвода – по-разному назывались должности, но суть одна: взвод – это, как правило, два орудия, взвод решает задачи, как правило, в составе батареи. Должность командира батареи, командира роты – особая должность. В советское время роту и батареи считали центром воспитательной работы. Едва ли по сути что-то было иначе прежде и что-то изменилось после разрушения советской власти. Рота – это компактное, обособленное проживание личного состава. Если есть казарма – в казарме, если в населенном пункте, на постое, тоже создавались условия, чтобы роты или батареи были собраны так, чтобы личный состав находился под постоянным вниманием командира. Возможно, кого-то удивит, что Лев Толстой мог позволить себе писать книги, вычитывать корректуры, которые иногда удавалось прислать ему издателям. Если бы он был командиром батареи, наверное, времени оставалось бы неизмеримо меньше. А тут командир батареи занимается и снабжением, и питанием, и размещением, и многими другими вопросами, а командир взвода только обучением. Насколько сам Лев Толстой был подготовлен теоретически, остается только гадать – никакого специального образования он не получил. Ну а учился сам, где с помощью старших, где самостоятельно, уже в боевой обстановке. А наука артиллерийская далеко не проста. Ведь надо знать орудия, надо уметь ухаживать за ними, поправлять недостатки, а главное, стрелять в цель.
Но основы знаний Толстой получил и мог позволить себе заниматься вещами посторонними. Он оценивал обстановку, но не всегда верно.
21 октября записал: «Много прожил я жизни в эти дни. Дела в Севастополе все висят на волоске».
Волнует его и вопрос личного проекта журнала: «Пробный листок нынче будет готов…» и он опять мечтал ехать.
Ну и опять о своих грехах: «Я проиграл все деньги в карты». Из чего следует очередное «заклинание»: «Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, бесхарактерности и раздражительности».
И лишь 2 ноября 1854 года в Одессе он делает запись, посвященную боевым действиям в Крыму, и впервые не говорит о своих недостатках, а лишь беспокоится, успеет ли принять участие в обороне города. Он делает вывод, который впоследствии станет основой основ нравственного характера его батальных произведений: «Велика моральная сила Русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к Отечеству, восставшее и вылившееся (из) несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, a энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства».
И волнения истинного патриота, такого, каким он показал себя еще в самом своем детском сочинении, дарованном Татьяне Александровне Ергольской: «Я не успею приехать раньше 5 – го, но мне чудится, что я еще не опоздаю».
20 сентября. «Утро хлопотал о деньгах и переводе». А между тем 13 (25) сентября 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение. Этот день считается началом 349 дневной героической обороны города.
Против Русского гарнизона Севастополя, насчитывавшего 18 тысяч солдат и матросов, союзники сосредоточили 60 тысяч человек. Общая же численность войск союзников в Крыму была доведена до 120 тысяч.
Севастополь был подготовлен к обороне со стороны моря. Его прикрывали 13 береговых батарей. Но союзники уже имели на вооружении паровые корабли, более маневренные и подвижные. Опасаясь их прорыва на внутренний рейд, в результате чего гарнизон оказался бы полностью отрезанным, командованием было принято решение перегородить вход в бухту. С этой целью были затоплены 5 из 14 парусных линейных кораблей и 2 из 7 парусных фрегатов. Остальные корабли принимали участие в обороне своими орудиями.
Французский главнокомандующий, узнав о затоплении флота, вспомнил 1812 год и воскликнул: «Это начало Москвы!» Интересно, вспомнил ли он, чем окончилось вступление Наполеона в Москву?
Союзники, однако, не решились наступать на город с севера, поскольку в этом случае на их фланги и тыл могли воздействовать основные силы русских войск. Они предприняли глубокий обход и через Инкерман подошли к городу с юга. Англичане заняли Балаклаву, а французы – Камышовую бухту.
Государь же, правильно оценив, что судьба войны теперь решается в Крыму и не просто в Крыму, а именно в Севастополе, отправил в эту славную русскую твердыню своих младших сыновей Николая и Михаила. Великий Князь Николай Николаевич по прибытии в Севастополь обнял Тотлебена и сказал: «Государь приказал мне вас поцеловать!»
Но вести из Крыма были неутешительными. 31 октября Государь писал: «Не унывать… Скажите вновь всем, что я ими доволен и благодарю за прямой Русский дух, который, надеюсь, никогда в них не изменится. Пасть с честью, но не сдаваться и не бросать…». А 23 ноября он признавался в письме: «Хотелось бы к вам лететь и делить участь общую, а не здесь томиться беспрестанными тревогами всех родов».
Севастополь оказался в критическом положении. Однако союзники некоторое время медлили и не решались сразу начать штурм. Между тем начальником обороны города 8 (20) сентября был назначен контр-адмирал В.А. Корнилов, а начальником обороны Малахова кургана – контр-адмирал В.И. Истомин. Эскадрой командовал вице-адмирал П.С. Нахимов. Они начали деятельную подготовку к обороне города и с помощью населения сумели в кратчайшие сроки создать по чертежам Государя семикилометровый оборонительный рубеж с восемью бастионами и промежуточными укреплениями.
А между тем Лев Толстой все-таки добился перевода и отправился в Крым. Его путь лежал через Одессу. Там он узнал новые факты о боевых действиях в Крыму.
2 ноября 1854. Одесса: «Со времени десанта англо-французских войск, у нас было с ними 3 дела. Первое, Алминское, 8 сентября, в котором атаковал неприятель и разбил нас, 2 – е, Дело Липранди 13 сентября, в котором атаковали мы и остались победителями, и 3 – е ужасное дело Даненберга, в котором снова атаковали мы и снова были разбиты. Дело предательское, возмутительное. 10 и 11 дивизия атаковали левый фланг неприятеля, опрокинули его и заклепали 37 орудий. Тогда неприятель выставил 6000 штуцеров, только 6000 против 30 тысяч. И мы отступили, потеряв около 6000 храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск по непроходимости дорог не было артиллерии и, Бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд, молодых, которые клялись убить Даненберга. Велика моральная сила Русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся несчастий России, оставить надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, a энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства.
В числе бесполезных жертв этого несчастного дела убиты Соймонов и Камстадиус. Про первого говорят, что он был один из немногих честных и мыслящих генералов Русской армии; второго же я знал довольно близко: он был членом нашего общества и будущим издателем Журнала. Его смерть более всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним».
Смертельно раненный генерал-лейтенант Федор Иванович Соймонов (1800–1854) был начальником 10 пехотной дивизии. Он с самых первых дней участвовал в Дунайской кампании, отличился под Силистрией и Журжей. И вот смертельно ранен в Инкерманском сражении.
Толстой спешил. Морского пути в Севастополь уже не было. Оставался путь через Перекоп. Перед отъездом записал: «английские пароходы продолжают блокировать Одессу».
Характерна запись: «Море, к несчастию, тихо».
Да, к несчастию. Парусный флот сильно уступал паровому, которому штиль не помеха, а даже подмога.
Забегая вперед, необходимо отметить, что ни на один штурм враг так и не решился, пока был жив император Николай I, и лишь после его смерти штурмы последовали один за другим, хотя с помощью штурмов взять Севастополь так и не удалось. Наши войска сами оставили одну сторону Севастополя – южную – когда там защищать уже было нечего – все превращено в выжженную равнину.
Н.Д. Тальберг привел в своей книге «Русская быль» намеренно забытые факты, касающиеся деятельности императора Николая I в то нелегкое для России время: «Государь все силы отдавал борьбе с врагами. Известные историки признают правильность советов и приказаний, которые он давал Паскевичу, адмиралу князю Меншикову, князю Горчакову и другим». А П. Бартенев, знаменитый издатель «Русского архива», отметил: «Знаменитые редуты, давшие возможность Севастополю так долго сопротивляться, возведены не только по указаниям Государя, но по его собственным чертежам». Николай Павлович питал особую любовь к инженерному делу. Сколько он полезного сделал для совершенствования этого дела! Недаром Н.Д. Шильдер назвал его творцом самостоятельного развития русского Инженерного корпуса.
Лев Николаевич Толстой понимал, что в Севастополе опасно, но спешил. Он стремился к большому, важному делу. Переживал, что не успеет к штурму, который готовят союзники.
Он спешил не писать о боевых действиях, а воевать, и в то же время записывал все, что слышал по пути в Крым, в Севастополь. Путь лежал через Николаев, Перекоп, Симферополь. В Севастополь прибыл 7 ноября.
Подвиги наших войск восхищали, и Толстой отмечал в дневнике: «На перевозе в Николаеве лоцман рассказывал мне, что 26 было дело, на котором отличился Хомутов, взял будто пропасть пленных и орудий, но что 26 – го из 8000 наших воротились только 2 тысячи. В Николаеве офицер подтвердил эти слухи».
Генерал-от-кавалерии Михаил Григорьевич Хомутов, наказной атаман Донского казачьего войска, не раз направлял своих подчиненных для обороны побережья Кавказа и Крымского полуострова. В сражении при Альме 8 сентября участвовал капитан 2 ранга Хомутов, который и взял много пленных.
В Крым были передислоцированы из состава Дунайской армии 11 – я под командованием генерал-лейтенанта Прокофия Яковлевича Павлова 1 – го и 12 – я под командованием генерал-лейтенанта Павла Петровича Липранди (1796–1864), впоследствии генерала от инфантерии. Они прибыли перед началом Инкерманского сражения 24 октября и вместе с 10 – й пехотной дивизией составили 4 – й пехотный корпус. Командир 10 – й пехотной дивизии генерал-лейтенант Ф.И. Соймонов погиб в этом сражении.
Впоследствии П.П. Липранди предложил и с успехом выполнил план сражения при Балаклаве.
Много подвигов совершали казаки, с удалью которых Лев Толстой был знаком еще по боевым действиям на Кавказе. Один из примеров храбрости Лев Толстой записал со слов лоцмана: «Еще рассказывал мне лоцман анекдот про казака, который поймал арканом и вел аглицкого князька… (Казаки-пластуны придумывали всякие способы для захвата пленных. Одним из этих способов было стаскивание часовых с редутов при помощи арканов с особым крючком – См. Н.В. Берг, «Записки об осаде Севастополя». – Н.Ш.). Князек выпалил в казака из пистоля. Ей, не стреляй, сказал казак. Князек еще раз выпалил и опять не попал. Ей, не балуй, сказал казак. Князек в 3 – й раз промахнулся. Казак начал его лупить плетью. Когда князек пожаловался, что казак его бил, казак сказал, что он его учил стрелять, коли он начальник, да не умеет палить, что же его казаки вовсе не будут знать…».
В пути были и приключения: «В Олешко задержала меня ночевать хорошенькая и умненькая хохлушка, с которой я целовался и нежничал через окошечко. Ночью она пришла ко мне. Лучше бы было воспоминание, ежели бы я остался при окошечке».
Прибытие в Севастополь было радостным оттого, что «все слухи, мучившие дорогой, оказались враньем». То есть, город стоял твердо. Лев Толстой был прикомандирован к третьей легкой батарее 14-й артиллерийской бригады. Поселился он в городе, еще было где селиться. И отметил: «Все укрепления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь нет никакой возможности – в этом убежден кажется и неприятель – по моему мнению он прикрывает отступление. Буря 2 – го ноября выкинула до 30 судов, 1 корабль и 3 парохода».
Словно природа помогала русской армии. Буря была сильнейшей. В официальных документах не указан ущерб, который был нанесен противнику. Толстой записал это со слов очевидцев.
Настоящая боевая обстановка излечила от мыслей о самовоспитании. Кое-что отложилось в стихотворении, написанном в конце ноября:
Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить.
Кто сделал ту рану, лишь ведает Бог,
Но мучат меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья.
Его ждал Севастополь, ждали настоящие боевые дела…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.