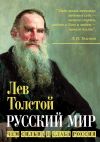Текст книги "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"
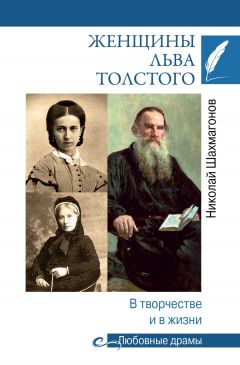
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Отражение любви в романе «Семейное счастье»
И вот тут мы вновь возвращаемся к повести Льва Толстого «Семейное счастие». Несомненно, писатель следил за судьбой своей некогда возлюбленной, на которой он едва не женился.
Мы не будем со всеми подробности сравнивать жизнь Маши из повести и ее прототипа Валерии. Толстой писал повесть до того, как случились некоторые события в жизни Валерии Арсеньевой, ставшей Талызиной. Ее муж был человеком исключительно достойным. Он так же, как и Лев Толстой участвовал в Восточной войне (1853–1856 годов) в Крыму, где был адъютантом командующего 6 – м армейским корпусом генерал-лейтенанта Павла Петровича Липранди (1796–1864), впоследствии генерала от инфантерии.
Если бы повесть «Семейное счастие» была написана после семейных драм Валерии Арсеньевой (Талызиной), можно было бы подумать, что Лев Толстой все «списал» с этой истории. Но повесть была написана и издана хоть и после замужества Валерии, но до событий в ее семейной жизни, которые очень похожи на события, описанные Львом Толстым.
Итак, Валерия выходит замуж через год после того, как произошло прекращение отношений со Львом Толстым. Толстой же решал вопрос, быть или не быть женитьбе, очень серьезно. В повести это показано очень хорошо. В повести жених предлагает три варианта продолжения отношений, три пути, по которым могут они пойти. Толстой выбирает мягкий разрыв, его герой выбирает женитьбу. Этот выбор вряд ли имеет отношение к Талызину, там все произошло без таких эмоциональных решений. Сделал предложение – получил согласие. Валерия была готова к замужеству и стремилась к нему. А вот взгляды на семейную жизнь были у Льва Толстого ровно такие же, как у нового избранника его недавней возлюбленной, и почти такие же, как у героя повести, Сергея Михайловича.
Лев Толстой хотел видеть жену домоседкой, любительницей деревни, ну а в деревне, разве что, ее доверялась благотворительность. Хотел видеть в ней противницу светских увеселений. Так же точно смотрел на жизнь Талызин, который сразу занялся хозяйством своей супруги – свое у него было в полном порядке. Но он не нашел союзницу в Валерии. Хозяйство ее мало интересовало.
Героиня сразу после свадьбы думала: «…все, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначавшиеся в его словах».
И он говорил ей: «После всех моих разочарований, ошибок в жизни, когда я нынче приехал в деревню, я так себе сказал решительно, что любовь для меня кончена, что остаются для меня только обязанности доживанья, что я долго не отдавал себе отчета в том, что такое мое чувство к вам и к чему оно может повести меня. Я надеялся и не надеялся, то мне казалось, что вы кокетничаете, то верилось, – и сам не знал, что я буду делать. Но после этого вечера, помните, когда мы ночью ходили по саду, – я испугался, мое теперешнее счастье показалось мне слишком велико и невозможно. Ну, что бы было, ежели бы я позволил себе надеяться, и напрасно? Но, разумеется, я думал только о себе; потому что я гадкий эгоист».
Но почему же? Сергей Михайлович, ровно как и сам автор, создавший его образ, считал себя недостойным счастья. Он считал себя, представьте, стариком. Правда, Толстой понимал, что здесь перебор, а потому героя своего все-таки сделал немного постарше себя…
Ему-то было 28, а Валерии 20! Разница всего 8 лет. Пустяки. Ныне вон можно слышать, что самая лучшая разница – 5–7 лет. И Толстой прибавляет герою лет… и потому звучит более реально, когда Сергей Михайлович заявляет:
«– У вас красота и молодость! Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли; потом труд, – труд, который, кажется, что приносит пользу; потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к близкому человеку, – вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут, сверх всего этого, такой друг, как вы, семья, может быть, и все, что только может желать человек».
Это жизненное кредо самого автора.
И поначалу в семье Маши, равно как, наверное, и в семье Валерии, все было хорошо: «Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастия этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний».
Но дальше… дальше начиналось постепенно то, что предвидел Лев Толстой, то, из-за чего он и принял решение прервать отношения с Валерией.
Снова рассказ от имени главной героини Маши…
«Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому». Прошла любовь? Нет!
«Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни; не нарушать нашего счастия. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастие это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я все для него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали мне любить, и я все-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство были заняты, но было другое чувство – молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор; вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут, передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя – мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни, и все те же были мы друг перед другом; а там где-то, в блеске, в шуме, волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходившем существовании.
…Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться».
Маша рвалась в город. А что же Валерия? Она ведь тоже рвалась в город, только несколько больше времени прошло до этих порывов. В 1859 году она родила сына, которого назвали Леонидом, а затем дочерей Ольгу, Людмилу и еще одного сына Владимира. Родить родила, но ни заботы о детях, ни хозяйство, ни дом ее особенно не волновали. Ее звал Орел, где на улице Борисоглебской был прекрасный дом, где устраивались балы, звали орловские развлечения, а когда особенно везло, то и приключения московские – балы, театры, обеды, литературные и музыкальные салоны. Тут уж и не до детей, и не до семейных забот, и не до хозяйственных.
Героиня в восторге от столичной жизни. Вот чего боялся Лев Толстой, рассматривая вопрос, жениться ли на Валерии… Маша в повести размышляет о своих впечатлениях от жизни в столице: «Я очутилась вдруг в таком новом, счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что и сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. “То было все так, шутки; еще не начиналось; а вот она, настоящая жизнь! Да еще что будет?” – думала я. Беспокойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любуется мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренне дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: “Ай да девочка! Славно! Не робей. Право, хорошо!” И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. “Вы не узнаете Маши, – писал он, – и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, афабельность, даже светский ум и любезность”».
Она начинает терять чувство меры. Когда настает пора ехать в деревню, просит остаться… из-за раута – торжественного светского вечера, в отличие от бала, проводившегося без танцев. Только из-за того, что графиня Р. хотела представить ее принцу М., находившемуся в Петербурге и пожелавшему с нею познакомиться. Он, якобы, «только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала».
Разумеется, нашлись желающие устроить все это в лучшем виде. И поскольку «муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то», обговорить поездку на раут удалось инкогнито.
Колебания Маши были велики. «“Ему уж представляется милый Никольский дом, – думала я, глядя на него, – и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. Нет! – решила я сама с собой, – все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку”. Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица».
Он все понял, видимо, долетели обрывки фраз, и решил не стеснять Машу в ее желании.
«– Ты хочешь ехать в субботу на раут? – спросил он.
– Хотела, – отвечала я, – но тебе это не нравится. Да и все уложено, – прибавила я.
Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной.
– Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, – проговорил он, – поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду».
Тем не менее ссора, короткая, но неприятная, глупая.
Она заявляла:
«Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.
– Ну что ж! Ты жертвуешь (он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастия?
В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщилось мне…»
Ссора, потом примирение. Лев Толстой постепенно ведет героев к разладу, не опуская их отношения до катастрофы. Вот снова примирение и этот злополучный раут…
«Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие, дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.
На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был не долог, ему негде было сесть подле меня, и он, верно, почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону. Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; бог знает, как они могли объяснить это; уж и не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей все, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокаивала меня, говоря, что это ничего не значащая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что я спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его.
Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга».
Как видим, в повести все же Лев Толстой не доводит до серьезных семейных трагедий и драм. Видимо, он еще не предполагал, как может быть на самом деле в жизни. И останавливает размолвку на том рубеже, на котором она остановилась после раута.
«Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше. В эти три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность, и веселье перенес на ребенка».
Героиня «Семейного счастия» выглядит даже куда лучше, нежели Валерия. Ведь она скакала по балам и рвалась на раут, когда еще не была матерью. А что же Валерия? Она, став матерью четырех детей, матерью оказалась лишь по имени, но не по существу.
«Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно».
Маша не прекращала свою светскую жизнь, но не заходила слишком далеко за пределы приличий.
Когда же на водах произошел случай, уже для Маши из ряда вон выходящий, – один из поклонников поцеловал ее – она, наконец, одумалась и бросилась к мужу, требуя немедленного возвращения в Россию. На путь супружеской неверности она не встала!
«Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело».
Ну и завершение повести значительно лучше, нежели развязка в жизни:
«С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту…»
А вот судьба Валерии, ставшей прототипом Маши из «Семейного счастия» стала несколько иной…
На одном из столичных балов она познакомилась с петербургским чиновником Николаем Волковым. И вот тут-то все случилось иначе – ни угрызений совести, ни размышлений о семейном счастье. Сначала тайные свидания, супружеская неверность, затем уже открытая связь.
Какое уж там семейное счастье! Толстой оказался провидцем и вовремя отделался от идеи жениться на этой барышне. А ведь он ей когда-то писал в одном из своих многочисленных писем:
«Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься».
Пока происходили перипетии с Валерией, Толстой убавил прыть в поисках невесты, но на протяжении всего романа он все-таки не забывал Оболенскую. Тем более, время от времени судьба сводила их снова и снова. 6 ноября 1857 года он упомянул в дневнике:
«А. прелесть. Положительно, женщина, более всех других прельщающая меня. Говорил с ней о женитьбе. Зачем я не сказал ей все».
1 декабря очередная запись:
«А. держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее и возвращаюсь домой, полон чем-то, счастьем или грустью – не знаю».
В романе «Анна Каренина» выражены чувства писателя, его отношение к любви и браку:
«Любовь к женщине он (Левин, под которым в данном случае писатель подразумевал себя, выражая свои чувства)… не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для [него] это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».
Там же через своего героя Лев Николаевич делится своими мыслями о том, какой должна быть жена.
«Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была его мать».
И снова поиск…
Одну из попыток женить Льва сделала любимая его сестра Мария Николаевна. На французском курорте Гиере она советовала сделать предложение племяннице вице-президента Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова Екатерине Александровне. Толстой познакомился с княжной в Брюсселе. Признался сестре, что девушка ему приглянулась, ну и Мария Николаевна развила бурную деятельность, пытаясь убедить, что Екатерина Александровна – наилучшая невеста.
Она писала брату:
«Ради Бога, не беги от своего счастья; лучше девушки по себе ты не встретишь; и семейная жизнь окончательно привяжет тебя к Ясной Поляне и к твоему делу.
Приезжай, Левочка, в делах сердца, право, мы (т. е. женщины) лучше знаем, – если ты начнешь рассуждать, то все пропало… Хоть бы кто-нибудь из нашего семейства был счастлив! Не думай, а приезжай… Я со страхом пишу тебе это письмо, боюсь, не уехал ли ты в Россию… Но я именно боюсь в тебе подколесинскую закваску. Если это устроится, вдруг тебе покажется, зачем я это все делаю. К.А., если не влюблена в тебя, чего я не думаю, то, вероятно, полюбит, сделавшись твоей женой, и в ее лета, конечно, можно, наверное, сказать, не разлюбит и имеет все данные, чтоб быть хорошей, понимающей женой и помощницей, и хорошей матерью. Стало быть, с этой стороны ладно. Но чувствуешь ли ты, что серьезно хочешь жениться и заботиться о жене, желать то же, что и другая будет желать, т. е. не делать только исключительно, что тебе хочется, быть менее эгоистом; не придет ли тебе в одно прекрасное утро тихая ненависть к жене и мысль, что вот если бы я не был женат, то… вот что страшно! Впрочем, ради Бога, – не анализируй слишком, потому что ты, если начнешь анализировать, непременно во всяком обыкновенном вопросе найдешь камень преткновения и, не зная, как сам отвечать на что и почему, обратишься в бегство».
Толстой серьезно относился к женитьбе. Позднее, уже в 1896 году он так выразил свои мысли в дневнике: «После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее, безвозвратнее брака. И так же, как смерть только тогда хороша, когда она неизбежна, а всякая нарочная смерть – дурна, так же и брак. Только тогда брак не зло, когда он непреодолим…»
Брак с Екатериной не состоялся. Впрочем, Толстой в те годы влюблялся часто, но не решался на женитьбу. По этому поводу писал: «Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер – я во всех был влюблен».
Он увлекался и другими женщинами. После княжны Екатерины Дондуковой-Корсаковой были сестры Львовы, баронесса Менгден, княжна Трубецкая…
Дольше всех после Арсеньевой занимала его мысли Екатерина Федоровна Тютчева (1835–1882), дочь его любимого поэта. Она была третьей дочерью Федора Ивановича от первого его брака с Элеонорой Петерсон.
Она рано осталась без матери, и ее воспитывала тетка, сестра матери, а затем она училась в Мюнхенском институте. В 1845 году Федор Иванович забрал ее вместе с сестрами в Петербург и определил в Смольный институт. Затем, после выпуска, она жила в семье отца, который был женат… а в 1853 году переехала к своей тетке Дарье Сушковой, жене писателя Н.В. Сушкова.
Сушковы держали литературный салон, и, как отмечал один из современников, «Кити Тютчева очень оживила салон Сушковых. Она была девушкой замечательного ума и образования, у нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и умерла, не выйдя замуж».

Е.Ф. Тютчева. Художник И.К. Макаров
Лев Толстой, увидев ее, был увлечен: «Тютчева начинает спокойно нравиться мне… Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего», но отношения их не сложились.
Князь Петр Андреевич Вяземский посвятил Екатерине Федоровне Тютчевой (уже позднее, в 1865 году) стихотворение «Вечер».
Прелестный вечер! В сладком обаяньи
Душа притихла, словно в чудном сне.
И небеса в безоблачном сияньи,
И вся земля почила в тишине.
Куда б глаза пытливо ни смотрели,
Таинственной завесой мир одет,
Слух звука ждет, – но звуки онемели;
Движенья ищет взор – движенья нет.
Не дрогнет лист, не зарябится влага,
Не проскользнет воздушная струя;
Все тишь!.. Как будто в пресыщеньи блага
Жизнь замерла, и не слыхать ея.
Но в видимом бездейственном покое
Не истощенье сил, не мертвый сон:
Присущны здесь и таинство живое,
И стройного могущества закон.
И молча жизнь кругом благоухает,
И в неподвижной красоте своей
Прохладный вечер молча расточает
Поэзию без звуков, без речей.
И в этот час, когда, в тени немея,
Все, притаясь, глубокий мир хранит,
И тихий ангел, крыльями чуть вея,
Землей любуясь, медленно парит,
Природа вся цветет, красуясь пышно,
И, нас склоня к мечтам и забытью,
Передает незримо и неслышно
Нам всю любовь и душу всю свою.
Тютчева была писательницей, публицисткой и переводчицей – ей принадлежит перевод на английский язык избранных проповедей митрополита Филарета, которые были изданы в Лондоне в 1873 году. Ее перу принадлежат «Рассказы из священной истории Ветхого и Нового Завета», изданные в Москве в 1884 году.
Это было, конечно, позже, но ведь такие таланты, как у Тютчевой, не являются ниоткуда – говорят, что талант – это один процент способностей и 99 процентов труда. Так что Толстой познакомился с Тютчевой, когда она совершала свое восхождение к вершинам творчества. Ее выгодно отличало от Валерии несомненное литературное дарование.
1 января 1858 года, находясь в Москве, сделал такую запись: «Визиты, дома, писал. Вечер у Сушковых. Катя очень мила».
Но все тот же синдром холостяка останавливал Толстого. Колебания: 7 января – «Тютчева, вздор!», 8 января – «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего». А 19 января: «Т. занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести». 20 января: «М. Сухотину с язвительностью говорил про К.Т. И не перестаю думать о ней. Что за дрянь! Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет». 21 января. «К.Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не все равно, а досадно».
За один только месяц столько колебаний! 26 января: «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!» 1 февраля: «С Тютчевой уже есть невольность привычки». 8 февраля – 10 марта: «Был у Тютчевой. Ни то ни се, она дичится». 28 марта: «Увы, холоден к Т. Все другое даже вовсе противно». 31 марта: «Тютчева положительно не нравится».
Вот такие метания от любви к неприязни происходили довольно продолжительное время, а в сентябре Лев Николаевич вдруг решился сделать ей предложение. Готов… Но что же случилось? В дневнике говорится: «Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно холодно приняла меня».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.