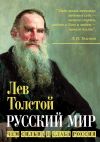Текст книги "Женщины Льва Толстого. В творчестве и в жизни"
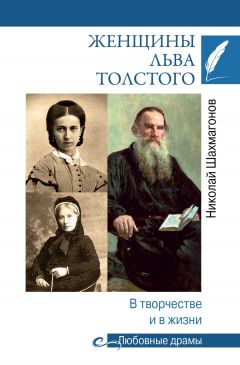
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Возможно, отчасти, аналогом этой дневниковой записи является эпизод в саду. Только признание не на бумаге, а на лице, в нежном шепоте…
«Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! “Не может быть”, – думала я.
– Милая Маша! – повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилось у меня так сильно, и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.
– Однако слезайте, ушибетесь, – сказал он. – Да поправьте волосы; посмотрите, на что вы похожи.
“Зачем он притворяется? Зачем хочет мне делать больно?” – с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу».
Вполне возможно, что Толстой точно угадывал мысли Валерии, вкладывая их в уста рассказчицы-героини «Семейного счастия».
31 октября она снова с утра нехороша, но на балу снова очень мила, и он «почти влюблен».
В «Семейном счастии» отмечено, что все чаще заходили разговоры о любви и об объяснении в любви:
«Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.
– Мужчина может сказать, что он любит, а женщина – нет, – говорила она.
– А мне кажется, что и мужчина не должен, и не может говорить, что он любит, – сказал он.
– Отчего? – спросила я.
– Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп – любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалят. Мне кажется, – продолжал он, – что люди, которые торжественно произносят эти слова: “Я вас люблю”, или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.
– Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? – спросила Катя.
– Этого я не знаю, – отвечал он, – у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится».
29 октября запись, тоже отложившаяся в романе: «…поехал к Арсеньевым. Она (Валерия. – Н.Ш.) была проста, мила, болтали в уголке».
В повести это звучит так. Катя настаивает на откровении:
«– Ну, скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?
– Никогда не говорил и на колено на одно не становился, – отвечал он, смеясь, – и не буду».
Разве не Лев Толстой говорит устами своего героя?
А перелом окончательный все ближе. 30 октября, будучи в гостях, в Судаково, записал с раздражением: «Нечего с ней говорить. Ее ограниченность страшит меня. И злит невольность моего положения».
Видимо, намеки и косые взгляды стали уже чрезмерны. Да и понять можно и Валерию, и ее домочадцев. Что ж это такое? Ездит, ездит, а когда же финал? Остается часто ночевать, кажется, близкий человек. Они еще не знали, что пишет в дневнике. А он: «31 октября. Тула. Ночевал у них. Она нехороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен».
Наконец, Лев Толстой не выдержал и отправился в Москву, чтобы взять паузу, подумать еще раз, еще раз все взвесить. Но по дороге «думал только о Валерии», а приехав, «написал Валерии длинное письмо». Советовался с сестрой Марией Николаевной. Она оказалась «на ее стороне».
В таких вот ситуациях советы иногда действуют достаточно сильно. 2 ноября 1856 года он уже написал письмо из Москвы:
«Вчера приехал ночью, сейчас встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас и что сажусь писать не для того, чтобы исполнить обещание, а потому что хочется, тянет…»
Он писал о том, что хотел «вернуться в Судаково, наговорить […] глупостей и никогда больше не расставаться…».
То есть под глупостями здесь можно понимать объяснение и предложение Валерии Арсеньевой руки и сердца. Но последовала внутренняя борьба: «Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастия. «Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь? – говорил глупый человек, – так зачем же ты лишаешь себя этого счастия, может, тебе только день, только час впереди, может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным, рассудительным чувством на ее чистую, преданную любовь». Все это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала, на все это отвечал вот как: «Во-первых, ты врешь, что с ней счастлив; правда, я испытываю наслаждение слушать ее, смотреть ей в глаза, но это не счастье и даже не хорошее наслаждение, простительное для Мортье, а не для тебя; потом, часто даже мне тяжело бывает с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастия, как ты говоришь, я теперь счастлив ею, хотя не вижу ее».
Два человека боролись в нем и в простейшей, казалось бы, фразе письма: «Ты любишь ее для своего счастия, а я люблю ее для ее счастия» – в ней содержался глубокий смысл.
«Ежели бы я отдался чувству глупого человека и вашему, я знаю, что все, что могло бы произойти от этого, это месяц безалаберного счастия. Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что я становился дурен и недоволен собой; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время. Я благодарю Бога за то, что он внушил мне мысль и поддержал меня в намеренье уехать, потому что я один не мог бы этого сделать.
…Я уже люблю в вас вашу красоту, но я начинаю только любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно – ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничто в мире не дается без труда – даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство. Простите за глупое сравнение. Любить, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, с постоянной педалью, но с чувством, не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое бы давалось так. Все приобретается трудом и лишениями. Но зато, чем тяжелее труд и лишения, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд – понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение. – Неужели вы думаете, что, ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидали громадный овраг и, истратив чувство на глупые нежности, уж ничем его бы не заравняли. Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь; а без этого нет любви. – Я в этом отношении очень много ожидаю от нашей переписки, мы будем рассуждать спокойно; я буду вникать в каждое ваше слово, и вы делайте то же, и я не сомневаюсь, что мы поймем друг друга. Для этого есть все условия – и чувство, и честность с обеих сторон. – Спорьте, доказывайте, учите меня, спрашивайте объяснений. – Вы, пожалуй, скажете, что мы и теперь понимаем друг друга».
Письма следовали одно за другим. Разлука обостряет чувства. А какие-то чувства, конечно же, были. И Толстой писал:
«Любезная Валерия Владимировна.
Вот уже неделя, что я уехал от вас и все не получил еще от вас ни строчки. Получили ли вы мое сладенькое письмо из Москвы? Мне за него совестно. Нынче я приехал в Петербург… В Москве я видел очень мало людей и скучал. О вас я говорил с Машей (сестрой Марией Николаевной), которая, как кажется, очень расположена любить вас…»
Далее рассказал о разговоре с А.А. Волконским, «который вас не знает, но спрашивал у меня, правда ли, что я влюблен в одну барышню, которую он видел у Tremblai (кондитерская в Москве) без шляпы и про которую слышал следующий разговор двух сестер Кислинских – они говорили: «какая гадкая женщина Щербачева (тетка Валерии Арсеньевой по матери) – она выписала свою племянницу, хорошенькую, молоденькую девушку, и решительно губит ее, сводит и влюбляет в какого-то музыканта, от которого эта барышня уже без ума и даже в переписке с ним».
И вот тут камень преткновения. Он никак не может забыть о музыканте Мортье. Ну а напоминания о нем не просто раздражают. Они выводят из себя. Далее в письме речь снова о музыканте: «Вы сами можете догадаться, какое приятное чувство я испытал при этом разговоре. Поверьте, любезная Валерия Владимировна, как это ни грустно, ничто не проходит и ничто не забывается. Когда я с вами, я так слаб, что готов верить тому, что вы никогда не были влюблены в Мортье и что вы имеете ко мне серьезное чувство дружбы; но, когда я рассуждаю спокойно, все мне представляется в другом, более справедливом свете. Будь, что будет, я обещал вам и буду с вами совершенно и неприятно откровенен. – То, что я говорил об глупом и хорошем человеке, справедливо, но все это яснее вот как. До вашего отъезда на коронацию я уважал вполне ваше доброе, чистое сердце, верил вам совершенно и чувствовал к вам спокойную, тихую и чистую дружбу – после истории Мортье я просто люблю вас, влюблен в вас, как сказала В.H., но простите меня за злую откровенность, я не уважаю вас столько, как прежде, и не верю вам…»
Ну что ж, известная старая истина: «Мужчина начинает ценить свою женщину только тогда, когда она начинает нравится кому-то другому».
Видно, что совсем было уже угасающие чувства вдруг стали оживать.
Об этом говорят следующие строки: «Я стараюсь принудить себя верить вам и уважать вас, но против моей воли сомневаюсь. Виноват ли я в этом, судите сами. Вы знали меня уже 3 месяца, видели мою дружбу, только не знали, хочу ли я или нет сделать вам предложение, и влюбились в Мортье, в чем вы сами признавались в то время, потому что вы честны и не могли не признаться в том, что было, потом вы перестали видеть Мортье, но не перестали думать о нем и писать ему, узнали, что я имел намерение предложить вам руку, и вы влюбились в меня и говорите тоже искренно, что вы никогда не любили Мортье. Но которое же чувство было истинно, и разве это чувство? Вы говорите, что в то время, как вы увлекались Мортье, вы не переставали чувствовать ко мне расположение, а что теперь Мортье вам неприятен. Это только доказывает, что Мортье давал вам читать Вертера («Страдания юного Вертера» – повесть Гёте). И поэтому внушает презрение, а я нравственно кокетничал с вами и выказывался всегда самой выгодной стороной, так что вам не за что презирать меня, и ежели вы сами захотите быть искренни, то вы согласитесь, что оба чувства были равны: одно – прежде и с ужасающей для всякой нравственной девушки будущностью, другое – после, с нравственной и приятной будущностью. А оба были равны, как и те, которые были прежде, и третье и тридцать третье, которое будет после. – Любили ли вы истинно Мортье? до чего доходили ваши отношения? Целовал ли он ваши руки? Я видел во сне, что он целует вас Валериановскими губами (речь идет о В.П. Толстом, муже М.Н. Толстой), и с ужасом проснулся; ежели бы это была действительность, и вы бы признались в ней, я бы был рад. Да, я влюблен в вас и от этого я беспрестанно колебаюсь между чувствами к вам – или страстной любви или ненависти и боюсь, и борюсь с этим чувством, и до тех пор не увижу вас, пока оно не пройдет, а то иначе я сделаю ваше несчастие и свое. Что бы я дал, чтобы возвратилось то доверие и уважение, и спокойная дружба, которую я испытывал прежде, но нет, ничего не забывается».
Мы видим, что Валерия отвечает редко и все менее охотно. Недаром создатель классической комедии, знаменитый Жан Батист Мольер (1622–1673) говорил, что «любовь ревнивца более походит на ненависть».
И это иногда чувствуется в письмах.
А Толстой еще не понимает этого и обещает, что чувство «может […] возвратится, но для этого нужно время». Впрочем, он понимает, что может все завершиться и не по его воле: «А вы с вашим характером не выдержите время, и я боюсь, что потеряю вашу дружбу, которая мне теперь дороже всего на свете. Чувствую, что письмо грубо, но не перечитывая посылаю его. Знайте меня, каким я есть, и очень нехорошим. Миллион вещей сделали меня таким, и я не могу притворяться. С самого моего выезда мне во всем неудачи и досады. Ваш Гр. Л. Толстой».
Приехав в Петербург, Толстой сразу – 8 ноября – пишет письмо. Правда, на этот раз, хоть и опять ревнивое и связанное с Мортье, но, по крайней мере, оправданное в некотором отношении: «Любезная Валерия Владимировна! “Что было, того уже не будет вновь”, – сказал Пушкин. Поверьте, ничто не забывается, и не проходит, и не возвращается. Уж никогда мне не испытывать того спокойного чувства привязанности к вам, уважения и доверия, которые я испытывал до вашего отъезда на коронацию. Тогда я с радостью отдавался своему чувству, а теперь я его боюсь.
Сейчас я написал было вам длинное письмо, которое не решился послать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано под влиянием ненависти к вам. В Москве один господин, который вас не знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день были у него, что вы в переписке с ним. – Мне очень неприятно было это слышать, и многое, многое я холодно передумал, и написал по этому случаю в письме, которое не посылаю».
Это сообщение Толстой воспринял, как удар по самолюбию. И снова говорит о возможности возврата к прежнему, правда – «Одно спасенье есть время и время». Оноре де Бальзак писал: «Ревность у мужчины складывается из эгоизма, доведенного до чертиков, из самолюбия, захваченного врасплох, и раздраженного ложного тщеславия». Все эти качества, что следует из дневников, Лев Толстой постоянно находил в себе и объявлял им непримиримую войну.
И завершает: «Жду ваших писем с жадностью. Мне скучно, грустно, тяжело, во всем неудачи, все противно. Но ни за что не увижусь с вами до тех пор, пока не почувствую, что совсем прошло чувство глупого человека, и что я совершенно верю вам, как прежде…»
Но письмо никак не оканчивается, он снова пытается убедить Валерию в ее ошибке. Вряд ли все это могло ей нравиться:
«Хорошего я невольно предполагаю в вас слишком много. Например, ежели бы вы мне рассказали всю историю вашей любви к Мортье с уверенностью, что это чувство было хорошо, с сожалением к этому чувству и даже сказали бы, что у вас осталась еще к нему любовь, мне бы было приятнее, чем это равнодушие и будто бы презрение, с которым вы говорите о нем, и которое доказывает, что вы смотрите на него не спокойно, но под влиянием нового увлечения».
И признание: «…да не дай Бог вам столько и так тяжело перечувствовать, сколько я перечувствовал в эти 5 месяцев». И ведь, судя по письмам, страдал. Александр Дюма недаром писал, что «ревность – это искусство причинять себе еще больше зла, чем другим».
И снова все-таки о возможности любви: «Ведь главный вопрос в том, можем ли мы сойтись и любить друг друга; для этого-то и надо высказывать все дурное, чтоб знать, в состоянии ли мы помириться с ним, а не скрывать его, чтобы потом неожиданно не разочароваться. Мне бы больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлеченья, которое в вас есть ко мне, но уж лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвел ваше несчастие. – Ежели вас интересуют дамы и барышни Петербургские и Московские, то могу вам сказать, что их до сих пор решительно для меня нет.
Ваш Гр. Л. Толстой».
Дороги, дороги! Сколько продумал он за время поездок. Железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом начало действовать в 1851 году. Поезда тогда ходили чуть меньше суток – около 22 часов. К 1856 году особых изменений не произошло. Можно было взять билет в 1 – й, 2 – й и 3 – й классы. У кого денег на такие билеты не было, ездили в товарных вагонах. И все же это удобнее и быстрее, чем на перекладных. За сутки есть время поразмышлять над жизнью, над судьбой. Наверное, уж Толстой не ездил в 3 – м классе, наверное, граф мог позволить себе 1 – й класс.
Дорога между двумя столицами изумительно красива. Природа там несколько иная, нежели в Тульской губернии. Более сурова. Леса, леса, леса – дремучие леса. А сколько рек! Сколько озер!
Немного в ту пору было мостов, но для строящейся Николаевской железной дороги мост в Твери был сооружен уже в 1850 году. Дорогу изначально делали без паромных переправ, которые крайне замедляли путь следования. Какие грандиозные стройки!
В Петербурге Толстому нет дела ни до чего, ни до каких «сладострастных» удовольствий. В мыслях одна Валерия. Написал резкое письмо. И сразу на попятную: «9 ноября. Мне так больно подумать о вчерашнем моем письме к вам, милая Валерия Владимировна, что теперь не знаю, как приняться за письмо, а думать о вас мне мало – писать так и тянет».
Заглаживая вину, тем не менее, проводит свою главную линию – жена должна соответствовать по своему умственному складу. А Валерия не начитана, не приучена к чтению. Это непорядок. Это необходимо исправить. И Толстой пишет: «Посылаю вам книги, попробуйте читать, начните с маленьких, с сказок – они прелестны; и напишите свое искреннее мнение… Посылаю вам еще Повести Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно – опять, по-моему, почти все прелестно, а ваше мнение все-таки катайте прямо, как бы оно ни было нелепо. – Wage nur zu irren zu träumen! (нем. “Дерзай заблуждаться и мечтать!” – строка из стихотворения Шиллера “Тэкла”. – Н.Ш.) Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины. Ну, да для вас это еще непонятно и рано. Отчего вы мне не пишете, хоть бы такие же мерзкие письма, как я, отчего вы мне не пишете?»
И размышления о жизни: «…вы еще не жили, не наслаждались, не страдали, а веселились и грустили. Иные всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий – моральных, разумеется. Часто мне кажется, что вы такая натура, и мне ужасно это больно. Скажите, ежели вы ясно понимаете вопрос, такая вы или нет? Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Отчего вы мне не пишете? Все, что я хотел вам писать об образе жизни Храповицких (Храповицкими Толстой звал себя и Валерию. – Н.Ш.), я не решаюсь писать без отголоска от вас и особенно на второе письмо. Однако, по правде сказать – руку на сердце – я теперь уже много меньше и спокойнее думаю о вас, чем первые дни, однако все-таки больше, чем когда-нибудь я думал о какой-нибудь женщине. Пожалуйста, на этот вопрос отвечайте мне, сколько можете искренно в каждом письме: в какой степени и в каком роде вы думаете обо мне? Особенное чувство мое в отношении вас, которое я ни к кому не испытывал, вот какое: как только со мной случается маленькая или большая неприятность – неудача, щелчок самолюбию и т. п., я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю – «все это вздор – там есть одна барышня, и мне все ничего». Это приятное чувство. Как вы живете? Работаете ли вы? Ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом работать. Работать умно, полезно, с целью добра – превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, – но в этом первое условие нравственной, хорошей жизни и поэтому счастия…»
Большие, длинные, неровные по содержанию письма. Он объясняет их тем, что не знает «до сих пор вы мне больше доставили: страданий моральных или наслаждений».
То просит писать каждый день, то говорит, что «если нет потребности, не пишите».
И все-таки поучает: «Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься».
Нужно ли все это Валерии? Трудиться?
Хорошо видно, что Толстой уже собирается завершить письмо, а не может. Он не мог забыть и разговоры с сестрой в Москве. Мария Николаевна действительно была сторонницей женитьбы брата Льва на Валерии. Она и подсказала брату то, что девушка любит его и мало того, что любит, старается быть лучше день ото дня. Это Лев Николаевич отметил в повести «Семейное счастье», словно показывая великую силу любви, облагораживающей человека, делавшей его лучше и лучше.
Великолепны рассуждения героини:
«И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя я на все стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и все только оттого, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их…»
Но это из области Толстовской мечты… Валерия, в отличие от литературной героини Маши, книг не читала или, во всяком случае, не читала тех, которые хотелось бы Льву Николаевичу, чтобы читала. И это уже минус…
Не случайно в одном из писем Толстой прямо сказал:
«Ведь главный вопрос в том, можем ли мы сойтись и любить друг друга; для этого и надо высказывать все дурное, чтоб знать, в состоянии ли мы помириться с ним, а не скрывать его, чтобы потом неожиданно не разочароваться».
Героиня «Семейного счастья» – Маша – тоже ведь совершенствовалась постепенно и не без влияния Сергея Михайлыча:
«Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком – и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, – я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне все не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего созданья, поняла все, чем я обязана ей; и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня. Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Все то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только прийти, чтобы все то же заговорило и наперерыв запросилось в душу».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.