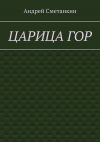Текст книги "Чертополох. Репортаж из поднебесья"

Автор книги: Родион Рахимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Последнее испытание
Ироническая проза
– Все, женюсь, – сказал я, придя на работу.
– Жениться – дело нехитрое. Подумай еще раз, – говорил мне знакомый прораб, наученный горьким опытом. – Ты ел пищу, приготовленную ее руками?
– Пока нет, – сказал я и задумался.
Со Светланой мы познакомились в тресте, куда я пришел работать по распределению. Она была умна и красива. Язык ее, хорошо подвешенный, молотил без устали в любое время суток. Мне было интересно с ней. И мне казалось, что она была достойной кандидатурой в спутницы жизни. И поэтому я не жалел ни времени, ни денег чтобы узнать ее поближе. В городе уже не осталось ни одного театра и кафе, в котором мы не побывали. Но вот выявить ее кулинарные способности не представилось случая. И вот – такая возможность свалилась как снег на голову, разлетевшимся весной тополиным пухом. После трудовой недели весь наш трест выехал за город на спортивные соревнования с ночевкой в палатках.
– Ура-а-а! – ликовал я, шествуя впереди всех с туго набитым рюкзаком. За мной с букетиком полевых цветов, беззаботно, на одной ножке скакала моя суженая. К нашему приходу лагерь был уже разбит. И место было хорошее. Лес. Речка рядом. И птицы поют. Но все же на душе у меня было неспокойно.
Но природа делает свое дело. Раз в год вырвавшись за город, я бегал и прыгал как ребенок. Участвовал во всех мероприятиях, где нужно было показать силу и ловкость. Светочка гордилась мной. И окрыленный ее влюбленными глазами, я соглашался на новые авантюры – на пятикилометровый кросс.
Вечером на следующий день очередь готовить ужин подошла моей ненаглядной, и еще одной, которая тоже яростно отнекивалась от кашеварства, откладывая на более поздний срок, думая, что пронесет.
– Ага, попались! – засмеялись ребята. Я навострил уши. И они вдвоем, вооружившись ножами, сели за ведро с картошкой. Моя кормилица, немного постругав картофелину, о чем-то задумалась.
– Обо мне думает, – гордился я, поглядывая в окошечко палатки, где лежал чуть живой после пятикилометрового кросса.
По палатке забарабанил дождь. И напарница ее, Марина, побежала за штормовкой. И пока она искала штормовку, висевшую у всех на виду, моя лапочка под проливным дождем думала обо мне.
Тут вернулась из деревни с продуктами Зинаида, «наша Мама», как мы называли ее за глаза, взвалившая на свои худенькие плечи, кроме всего прочего, еще и обязанности завхоза.
– Ой, девчонки, – сказала она, – скоро мальчики придут, голодные. А у вас еще картошка не чищена. Они же вас самих съедят! Давайте веселее.
– Я не могу. Я устала, – сказала моя прелесть, перекладывая картофелину из рук в руки. Явно не желая, а может быть, и не зная, как к ней подступиться. – Я целый день играла в волейбол, и у меня руки болят.
Зина улыбнулась.
– Ну, что смеешься? – она обиженно надула губки. – В самом деле, при чистке картофеля работают вот эти мышцы. Вот-вот. А я их уже использовала при игре в волейбол, – и, взглянув в сторону моей палатки, добавила. – А почему ребята не почистят картошку? Неужели им трудно?
– Они уже отбыли свою вахту. И давайте, девочки, пошустрее, а я пойду, поболею за ребят.
– Все. Квакнулся ужин, – сказал я, пытаясь встать с надувного матраца. Ужинали ночью при тлеющем свете костра, запивая пересоленную картошку в «мундире» сладким чаем, в котором плавали угольки от костра, словно символы потухших надежд.
На следующий день я одиноко шагал по направлению к городу. Навстречу холостяцкой жизни.
Сон в руку
Фельетон
Старший прораб Парамонов встрепенулся от прикосновения чьих-то ног.
«Ходят тут всякие», – подумал он сквозь дрему, пропуская кого-то через себя.
Это пробирался к трибуне очередной оратор.
«Товарищи, – начал он. – Велики простои механизмов по нашей вине. С этим надо как-то кончать».
«Да, кончишь, – подумал про себя Парамонов, удобнее устраиваясь в кресле.
– Не ты первый, не ты последний! Говорили уже об этом».
Урчание вентилятора и монотонная речь оратора убаюкивали и клонили ко сну. Но Парамонову не спалось. Что-то тревожило. Ему надо было что-то сделать. А что именно, он не мог вспомнить.
«Нет хозяина на стройке, – доносилось до ушей старшего прораба. – Не умеем экономить в большом деле и малом… и надо как-то строже спрашивать за недогляд с мастеров и прорабов».
Несмотря на открытые двери и окна, в зале было тепло и даже жарко. Система отопления, как бы желая угодить своим хозяевам, сидящим в зале, работала во всю мощь, располагая к приятному отдыху. Но Парамонову не спалось.
Он огляделся. Все дремали, как могли, кто на плече соседа, кто – подложив под голову портфель. Не до сна было только ведущему собрание. Ему по долгу службы приходилось следить за регламентом. Будить то и дело засыпающего оратора и приглашать других.
Увидев за столом президиума клюющего носом председателя постройкома Потапова, он вспомнил, что собирался поговорить с ним об улучшении жилищных условий. Вот уже десять лет он с женой и двумя детьми ютился в коммуналке.
В задних рядах кто-то захрапел. И его тут же вывели из зала.
«Молодцы дружинники, – улыбнулся Парамонов. Ему никогда не нравилось, когда кто-нибудь храпел. – Спать – спи. Но зачем же храпеть? Другим мешать? Чего доброго, проснется кто-нибудь и начнет выдвигать предложения. А эти предложения, как беда, одни не ходят. Обязательно какие-нибудь замечания, а то и выговор с собой припрут, если не выполнишь поручения к сроку. И это опять-таки работать надо! Ночами не спать. А при бессоннице какие только мысли в голову не лезут? Хочется весь мир перевернуть… Нет уж, лучше не надо! Тише едешь – дальше будешь. А будешь выступать, чего доброго, критиковать, то можно и головы лишиться. Высокое дерево издалека видать, его и пилят…»
«Нередки случаи пьянства на рабочем месте, – перебил его мысли очередной оратор, – к концу рабочего дня. Особенно в дни получки и аванса…»
«Это точно, – подумал он, поднимая неизвестно когда упавшую шапку. – Бригадир Куропаткин вчера так нализался, что еле домой увели.
Хорошо бы один, а то всей бригадой пьют. День рождения говорит, отмечали. Врут, конечно! У них каждый день праздник! И ничего не поделаешь! Прижмешь, работать не будут…»
«Народному контролю совместно с Комсомольским прожектором регулярно проводить рейды по объектам и выводить все недостатки», – загудела трибуна уже другим голосом, заставив Парамонова вздрогнуть.
«Читают постановление, – подумал он. – Значит, скоро домой! Завтра надо будет прийти на работу пораньше и закидать снежком машину бетона, которую вчера вывалили в яму из-за ненадобности ив спешке забыли замаскировать от посторонних глаз. Хотя и говорил этому Куропаткину, что будет комиссия… А его хоть самого зарывай! А то эти „прожектористы“ – народ дотошный, во все дырки лезут, вынюхивают и фотографируют. Чего доброго, и на бетон наткнутся. Хорошо еще, что заранее предупреждают о предстоящем визите. И мы уже за неделю знаем не только о времени прибытия на объект, но и во что они будут одеты…»
Парамонов проснулся окончательно. И долго не мог сориентироваться во времени и пространстве. Голова раскалывалась надвое. Во рту было гадко. Огляделся. Часы на руках показывали шесть часов утра.
– Надо же! Проспал в прорабской, – проговорил он. – Ну, собаки, все-таки накачали меня, – он сильно потряс головой, чтобы окончательно прийти в себя. И вспомнив о предстоящей комиссии, пулей вылетел из прорабской и закидал снежком бетон.
Но на этот день комиссии не было. Тогда он велел оградить все проемы и одеть всех в каски. На следующий день он предупредил всех любителей выпить, чтоб – ни-ни. К концу недели, в ожидании комиссии, он поднял на ноги всю снабженческую службу и обеспечил всех работой. Через неделю производительность труда подскочила на сто пятьдесят процентов. Не стало и прогулов.
Обещанная комиссия появилась только через месяц и признала работу участка самой лучшей. Администрация управления премировала Парамонова ордером на трехкомнатную квартиру.
Японское воспитание
Ироническая проза
Весна. Птицы потянулись с юга. Вместе с весною – и грязь, прилепившись к ногам: в дома, в магазины, в метро. В туго набитом вагоне ехала женщина лет тридцати с огромным тортом и букетом красных роз на коленях. Рядом рыжий мальчик лет пяти в грязных ботинках, избалованный до чрезвычайности, который капризничает, вертится, желая встать на коленки, чтобы посмотреть в окно.
Перед ними интеллигентного вида женщина с набитыми сумками в дорогой шубе, она пытается отстраниться от грязных ног ребенка, но тщетно:
– Мамаша, вы не могли бы сказать вашему ребенку, чтобы он не болтал ногами, пачкает же…
– До десяти лет я ему ничего не запрещаю – японское воспитание, – отвечает мать ребенка, картинно поправив пышную прическу.
– До пяти, – поправляет женщина в шубе.
– Что – до пяти?
– В Японии только до пяти лет разрешают всё. А потом…
– Мой ребенок. Как хочу, так и воспитываю.
Пассажиры понимающе переглянулись, сочувствуя хозяйке шубы. Рядом сидел мужчина лет сорока в кожаной куртке с заклепками, увешанный цепями и кольцами на куртке, плавно переходящими на лицо и уши, разноцветным ирокезом на голове, жуя жвачку, довольно-таки большого размера, и то и дело, выдувая огромный пузырь.
Мальчишка уже не только болтал ногами, а стал пинать женщину в шубе.
– Ну, мамаша, сделайте что-нибудь, – сказала она, пытаясь отойти.
Мама ребенка руками остановила грязные маятники. Но ненадолго.
Пассажиры, видя все это, уже стали тихо возмущаться.
– …Следующая остановка – «Площадь революции»…
Тут поднимается обладатель ирокеза, достает изо рта жвачку, несколько раз демонстративно растягивает ее рукой, придерживая зубами, а потом берет – и медленно и смачно вкручивает большим пальцем в волосы на лбу мамаши.
– Мне тоже в детстве все разрешали, – и выходит на остановке, сорвав аплодисменты половины вагона.
Курилка
Ироническая проза
Николай Фиофанович Филюлькин по прозвищу «Ляля», тридцати шести лет от роду, среднего роста, с рыжими усами и веселыми глазами на конопатом лице, был душой курилки. Много читал, занимался разведением аквариумных рыбок – меченосцев, лупиков, и кактусов – мимиллярии эхинопсис, а главное, любил поговорить – «ля-ля» потравить, за что и был прозван друзьями-строителями. Для других, в основном, приезжих, он казался странноватым интеллигентом, из-за улучшения жилищных условий вляпавшимся в эту неожиданность под названием «стройка». Хотя и посмеивались над ним, но все же уважали за то, что не отлынивал и работал наравне со всеми. Подходил, Ляля к курильщикам тихо, подсаживался и внимательно слушал, о чем идет разговор. Закуривал исключительно от костра, доставая уголек или подпалив лучину, говорил: «Кощунственно это, закуривать спичкой у костра. Неуважение огня получается, мля». Стройка – это почти каторжный труд: в жару и холод, в слякоть и стужу, когда рабочая одежда уже мокрая от пота и дождя. Когда руки уже не держат лопату или мастерок и от тяжести носилок вытягиваются до колен, как у макаки. Когда все осточертело и хочется послать всех далеко и надолго – курилка становится единственной отдушиной, где можно немного расслабиться и душу излить. Поругать начальство за нерасторопность – отсутствие материала и низкую зарплату, приводя примеры западной, «сказочной» жизни.
Ляля всегда выжидал, пока не выскажутся все, и только тогда начинал свой неторопливый рассказ:
– К нам недавно из Сыктывкара приехала теща… – тут он делал паузу. В тишине было слышно, как потрескивали дрова в срезанной наполовину бочке. Шум дождя по перекрытию недостроенного этажа, звуки падающих капель от подтаявшего снега и воя ветра за стеной. Зябко. А у костра импровизированной курилки было тепло и даже жарко. От мокрых колен сидящих поднимался пар. Искры из бочки, потревоженной брошенным поленом, красным роем взлетали и затухали где-то под бетонным потолком. – «Теперь есть, кому погулять с Маринкой», – обрадовалась моя жена Ольга Николаевна, вернувшись из библиотеки, где она работала, домой. Теще понравился город. И она каждый день с внучкой совершала прогулки по Тверскому бульвару (я в центре живу, кремлевские звезды в окошко видать), любуясь архитектурой и вечерними огнями, все больше и больше расширяя район прогулок. Гуляет и гуляет. И месяц, и два. Но через полгода я начал подумывать о том, как бы сплавить тещу домой. Нет-нет! Мария Михайловна была теща мировая, и в нашу с Ольгой Николаевной жизнь не вмешивалась. Но комната, мля… хотя и была большая, двадцать пять метров, но она была одна. И ширма, естественно, звуковым барьером служить не могла… И поэтому у нас с Ольгой Николаевной… возникали некоторые нюансы по ночам, в смысле, «книжки почитать», мля… Теща была прописана у нас гостевой пропиской. И вскоре ею заинтересовался участковый. А это было как раз перед Олимпиадой. И вызвав в отделение милиции, ее спросили, долго ли она собирается оставаться в городе? Она неопределенно пожала плечами. Я искал случая. И случай представился нежданно-негаданно. На днях женился молодой каменщик из нашей бригады. Ну как же не отметить такой случай? Отметили в бытовке, после работы. Оказалось мало. Потом куда-то пошли. Куда, не помню. Поскребли по сусекам – наскребли еще на одну бутылку «беленькой». Но «раздавить» было уже негде, и темень кругом. После долгих совместных поисков облюбовали многоэтажный жилой дом в Теплом стане. И молодожен этот еще хотел позвонить своей невесте, что, мол, задерживается на работе, дорабатывать бетон. А жилец с первого этажа сказал, что дом еще не подключен к телефонной сети, а телефон-автомат только через три дома за углом. Решил не ходить – далеко. Взобравшись под самый чердак, чтобы не мешать людям, спать, начали вспоминать, зачем пришли. Вспомнив, выпили. И закусив рукавами, начали спорить. Спорили долго, в основном, о том, что нас плохо обеспечивают строительным материалом. И даже пообещали по этому поводу кое-кому что-то показать. А что, не помню. Помню только, когда зашел спор о том, посещали ли нашу землю инопланетяне, нас забрали. Видимо, мы кому-то сильно мешали. И он не поленился же в три часа ночи сбегать к телефону-автомату! Приехал целый отряд. На каждого – по одному милиционеру. А меня вели даже двое. Видимо, мля… я уже плохо ходил. Шагал по ступенькам вниз (лифт уже не работал), тронутый таким вниманием к собственной персоне, и про себя размышлял: премию и тринадцатую зарплату в нашем управлении давно уже не давали, а вот очередь на получение квартиры могли отодвинуть, мля… В отделении милиции нас не стали долго держать. Узнав у каждого место работы, адреса и фамилии, выгнали в шею. Жене, конечно, я соврал, что оставался во вторую смену и дорабатывал бетон. Дня через три из милиции пришла «телега». Чтобы, значит, я уплатил штраф за распитие спиртных напитков в неположенном месте, в размере тридцати рублей, мля… Мы с женой были на работе. А теща не врубилась, что к чему, и уплатила штраф, думая, что ее штрафанули за нарушение паспортного режима. Вечером за ужином она проговорилась: «Вот ведь оно как вышло. Участковый-то штрафанул меня за нарушение паспортного режиму… Ну, хватит, погостила. Надо домой ехать. Небось, опять квитанция придет?» – «Да поживи еще, мама, – говорила Ольга Николаевна, наливая теще чай. – Кто тебя гонит-то? А с участковым договоримся». – «Да нет уж, доченька, наверное, уже и дома заждались». Я улыбался из-под ложки, уткнувшись в тарелку со щами. Через день теща уехала, мля.
Тут грянул смех, распугав ворон и голубей, укрывшихся под навесом от непогоды.
1980 год
Попутчица
Ироническая проза
Рабиндранат Тагирович Валеев, пятидесяти лет отроду, названный так продвинутыми родителями, учителями местной школы, в честь великого индийского поэта, никакого отношения к литературе не имел; но он купил машину. Какую хотел, «Жигули» шестой модели, долго откладывая деньги: выращивая картошку, отвоевывая каждый клубень у полосатого заморского жука, бегая за скотиной почти все лето, выходя по очереди за общественным скотом.
Купив, как положено, обмыли, с друзьями. И предложение Фугаса как его называли «однокашники» после некоторой трансформации: «Гранат» и «Бомба» поехать в субботу в город за магнитолой для машины друзья приняли с энтузиазмом, у каждого нашлись дела. И если не учитывать того, что нельзя было курить в салоне, хлопать дверями и пачкать коврики, – можно было съездить в город на халяву, и если удастся, возвращаться уже под музыку. До города путь неблизкий, езды – с остановками: покурить, попить – часов на пять. И они, увидев на обочине голосующую девушку в коротенькой юбочке и с пышными грудями, обрадовались, особенно пассажиры заднего сиденья.
– А давайте возьмем, – в один голос сказали они. – Дорога-то длинная, будет хоть с кем поговорить!
Машина, взвизгнув тормозами и поднимая пыль, остановилась возле умопомрачительных ног, распахнув заднюю дверь.
– Вы до города? – спросила она, сверкнув белыми как жемчужины зубами.
– Да, – ответили в один голос пассажиры заднего сиденья.
– Одного пассажира до города возьмете?
– Да! – весело крикнули все.
– Дядя, идите. До города едут, – сказала она, махнув загорелой ручкой в сторону придорожных кустов.
А из кустов выходит мужчина весом в полтора центнера, как бегемот, раздвигая кусты, и, припечатав двух пассажиров к левой дверце заднего сиденья, садится в машину.
– Вот спасибо, мужики! Сегодня автобус почему-то не пришел…
Машина, натружено рыча, царапая днищем и издавая странные звуки, при которых водитель как гусь нервно втягивал шею, тронулась в путь по изрытой грузовиками дороге. Ехали долго, в полной тишине и с кислыми минами. Первым тишину нарушил водитель Фугас:
– Ну, что вы не разговариваете? Разговаривайте, разговаривайте, гуляки старые!
Пепельница
Ироническая проза
Велико мироздание. Можно быть золотым пером в руках великого поэта, телеграфным столбом, космическим кораблем и бороздить просторы вселенной, но я всего лишь пепельница. Да, я пепельница. А вы думаете, легко быть пепельницей, когда в тебя тушат слюнявые сигареты сотни раз в день, а то и ночью, особенно пепельницей человека, возомнившего себя писателем. Но он одержим, одержим идеей спасения человечества от самого человека. Одержим идеей заставить человека бросить топор и слезть с того самого сука. А у самого даже денег нет. Заплатить за телефон и квартиру нечем, чай без сахара пьет. Но зато он обложился книгами, пишет и пишет, пишет и пишет. Может, он подумал, что его кроваво-красная луна пошла к закату и хочет оставить след после себя, хотя бы в словах, друг за другом написанных на бумаге, и потом втиснутых в какую-нибудь книжечку типа «В помощь садоводу», если не смог в другом? Дерево не посадил, дом не построил, нет ни семьи, ни детей. Впрочем, семья была, были и дети. Но он оказался никому не нужным, и теперь влачил жалкое существование в коммунальной квартире с безработной соседкой-алкоголичкой, с кавказской гостеприимностью, пускавшей на постой гастарбайтеров то с Украины, то с солнечного Таджикистана, и превратила квартиру в проходной двор. А было время, когда он курил только дорогие сигареты «Мальборо», и ещё «Золотое руно», которые нравились мне больше всех. Бывало, положит на одну из моих четырех ложбинок сигарету и зачитается. А она лежит на мне, такая красивая и тонкая, излучая тепло и аромат. Я, конечно, не какая-нибудь там импортная извращенка, но все же было приятнее в коллективе, чем быть одной, обкуренной, с кучей замученных окурков на себе и забытой на подоконнике, с которого видно только кусочек неба, с время от времени идущими на посадку в аэропорт Домодедово усталыми самолетами, и облупившийся фасад дома-башни напротив, – одна скукота. Но бывают особенные дни, когда я оказываюсь на стопке его настольных книг: Библии, Корана, Есенина, Булгакова, орфографических словарей, Чехова, Достоевского и Кувалдина. Которые пишут длинно и нудно, но мне кажется, в них присутствует глубина мысли и философия. Как бы ни было, главное – «высокохудожественно»; и виден весь двор, кольцевая дорога и совхозные сады, расцветающие и испускающие по весне аромат яблонь, а ещё – задворки магазина «Патэрсон» с шумными и вечно пьяными грузчиками, разгружающими продукты, и инкассаторами, в холщовых мешках увозящих деньги в бронированных фургонах. Выпивающих мужиков за горой ящиков. Иногда – длинноногих продавщиц с крашеными ногтями, курящих на крыльце черного хода, при виде которых мне всегда хотелось, чтобы они тушили об меня. Не знаю, почему мне нравились девчата, может, оттого, что я раньше была песком мужского рода?
Да, много воды утекло с тех пор, когда меня с горящей лавой выбросило на поверхность. Остывала, видела динозавров, замерзала подо льдом, летала в вихре различных революций и войн, пока нас не собрали в одну кучу и не бросили в плавильную печь, на окраине города Гусь-Хрустальный и не попала я в руки художника-стеклодува. Была вазой, лебедем, набором рюмок-сапожков и, наконец, тем, кем я стала, пепельницей: эксклюзивный заказ правительства, весь фиолетовый с белыми вкраплениями звезд-пузырьков внутри, что-то вроде вселенной в миниатюре, последним пристанищем для окурков. Да, долго меня носило по всей Тартарии, и ветром, и под копытами коней, от Скандинавии до Чукотки, по территории страны и цивилизации, еще до египетских и до римских. Теперь учёные доказали, что русский язык был праязыком всех народов. Да, они, может, и правы! Но они подзабыли, что до русских уже были татары или «тартары». Тогда был один язык, тартарский, давший начало всем языкам мира, и теперь существующий в наречии всех языков, созвучных тартарскому, его можно услышать в несколько измененном виде у народностей Крайнего Севера, Урала и Средней Азии. Возьмем, к примеру, имя первого попавшегося писателя сверху лежащей книжки, Юрия Кувалдина. Юрий, переводится – жури – понарошку, Кув – куп – много, и алдин – алды – взял. Получается: понарошку много взял. Взять-то взял, донесет ли, вот в чем вопрос? Шутка ли, в одиночку решил издавать журнал! Или Ким Чен Ир – буквально: «Кто ты, мужчина». Или Жугдэрдэмидийн Гуррагча – переводится как «Нет, тебе говорю, на погребение деньги», и т. д. Не стало той цивилизации, потому что была воинственной, от которой даже китайцы, отделившись, потом огородились стеной. Да и позже – завоеватели, как Македонский, Батый, Наполеон и Гитлер, и их страны, праздновавшие победу, потом перестали быть как великие. И правильно, кто с мечом придет… Это я так, чтоб не заносились и не забывали уроки истории. Признаться, я не очень-то и хотела, чтобы мой хозяин курил и отравлял свои легкие никотином. Нам-то что, стряхнул пепел, смыл водой, и все. А он курит и пишет, пишет и курит, одну за другой, значит, волнуется и нервничает, представляю, какие у него теперь легкие, табачные рудники с никотиновыми сводами. А принесла меня ему толстушка Оля на пятидесятилетний юбилей хозяина, где присутствовали она и я, помытая с мылом по такому случаю. Бывало, сядет она у окна за столом напротив, откинет черные кудряшки, подопрет своими пухлыми ручонками розовые щечки, уставится на него черными, как ночь глазами и смотрит, не отводя взгляда, пока он стучит на старенькой машинке. А потом выключали свет, и я уже ничего не видела, только слышала, как скрипели диванные пружины, и слегка приглушенные стоны Оленьки до утра… и ни одной выкуренной сигареты. А до этого я лежала на столике курилки Госдумы, место – врагу не пожелаешь. Где я видела и слышала такое, что лучше бы не видеть и не слышать. И благодарна тому депутату, который завернул меня в туалетную бумагу и сунул в кейс. Потом я долго каталась в бардачке его машины среди, аудиокассет и презервативов, пока он не подарил меня одной певице. Тут пошла жизнь веселая, концерты, тусовки, заграница – тушили об меня все кому не лень, в основном, попса, музыку которых и музыкой не назовешь, один кошачий вой!
Потом каталась в лимузине, лежала в предбаннике, о котором лучше умолчать, пока не попала в дом какого-то слащавого профессора с толстыми, как две сардельки, губами, в Барвихе, где Оля, устроившись через агентство по найму, нянчила его сопливого трехлетнего внука. Профессор то и дело пристраивался к Оле, лапал потными руками и лез целоваться. Но молодец Оля, не поддалась его уговорам, и даже такому подарку, как я. И вот теперь я, помытая с «Фейри», на пирамиде из книг любуюсь через окно белым выпавшим снегом на крыше магазина, пьяной возней грузчиков во дворе, девчонками на крыльце в полушубках, накинутых на хрупкие плечики, машинами, снующими по Кольцевой дороге, и мандариновым диском заходящего солнца… скоро Новый год, однако.
P.S. Из воспоминаний современника А. П. Чехова: «Антон Павлович как-то поспорил со мной, что сможет написать рассказ о чем угодно, хоть бы вот об этой пепельнице. Он замолчал и стал пристально смотреть на пепельницу. Я тоже посмотрел на пепельницу, и мне показалось, что я вижу, как над ней уже роится облачком замысел чеховского рассказа».