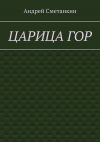Текст книги "Чертополох. Репортаж из поднебесья"

Автор книги: Родион Рахимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Подушка, или Крик в тишине
Эротический рассказ
Звонкая весна, проявившись на деревьях золотыми почками, осыпала нежно-зеленой листвой все, что можно было осыпать. Хотя солнце и светило почти по-летнему, но земля была еще холодная, и мама Сюзанны, женщина добрая, вместе с корзиной с продуктами и вином для пикника дала в дорогу покрывало и небольшую диванную подушку, расшитую драконами, чтобы, если что, на холодную землю не садилась.
Прикручивая всю поклажу на багажник старенького велосипеда, Аркадий насвистывал какую-то мелодию, предвкушая предстоящую поездку на окраину дачного поселка, туда, где никого не было. Туда, где пел ошалевший соловей, выводя свои весенние рулады. Женщины украдкой любовались его мощным задом, обтянутым спортивными штанами, когда он наклонялся.
«Дожили, – подумала про себя Вера Сергеевна, – насмотрелись голливудской чепухи, начали мужиков по заду определять, раньше мужиков по кошельку и носам выбирали. Вообще-то он мне определенно нравится. Наконец-то я довольна выбором дочери. Ну и что, что водитель. Зато дальнобойщик, чем реже будут видеться, тем дольше проживут. А то характер её – мамин, с завитушками, но зато добрее и отходчивее».
Велосипед Сью был еще новым и летел впереди, сверкая спицами. Надо отметить, что в коллекции Аркадия еще не было такого замечательного имени – Сюзанна, или, как её называла мама, просто Сью.
Сью легко нажимала на педали, и в такт движениям её обтянутые джинсами два сладких арбуза перекатывались слева направо. Из-под коротенькой футболки и джинсовой куртки виднелась тонкая и белая как снег талия. Белокурый хвост волос, выбившись из-под бейсболки, болтался туда-сюда.
Слушая скрип своего несмазанного велосипеда, Аркадий вспоминал другой, вчерашний скрип кровати. Мама Сью, за стенкой сделав телевизор тише, прислушивалась к возне молодых и тактично молчала, втайне желая счастья единственной дочери, жизнь которой как-то не складывалась. Те четверо парней, которые были еще до Аркадия, то и дело названивающие по телефону, отошли на второй план не только для дочери, но и для неё.
Сью не спешила с замужеством, хотя мать и торопила её, намекая на возраст. И на то, что неплохо было бы ей понянчить внуков. И что в свои двадцать шесть лет она уже имела двухлетнюю Сью, и воспитывала она её, не бросая институт.
Воспитала, как могла, но принцип: «Если иметь – так миллион, любить – так Короля», видимо, для Сюзанны не работал. Да и для неё самой тоже, вот уже который год была одна.
И было бы все нормально, если бы не пресловутый квартирный вопрос! Поговорка «в тесноте, да не в обиде» не сработала. И они, сами не зная почему, разошлись с отцом Сюзанны. Видимо, однокомнатная была тесна для двоих не уступающих никому в своих суждениях. Потом пробовала выйти замуж, но тоже не клеилось, и она в свои пятьдесят четыре года решила, что доживет одна, целиком отдавая себя дочери. Хорошо хоть от последнего мужа, умершего от сердечной недостаточности, осталась дача. И они вместе с его сыном разделили ее на две равные части, поставив перегородку. И она была благодарна ему за то, что теперь у неё было место, где можно было отдохнуть от бывшего мужа, хотя и разведенного, но проживающего с ними на одной площади.
– Устал? – улыбнулась Сью, откидывая край одеяла и демонстрируя шелковый халат с золотыми драконами. – Хочешь, я тебе массаж сделаю?
– Тайский?
– Какой получится.
В комнате пахло благовониями от тлеющих палочек, от настольной лампы исходил ровный зеленый свет, лилась тихая восточная музыка, располагая к приятному отдыху.
Аркаша нырнул под теплое одеяло, поцеловал её толстые мягкие губы и лег на живот. Ощутил, как нежная и теплая рука Сью прошлась по спине. Обнаружив резинку трусов, она сдвинула ее вниз и потом совсем сняла. Когда она села верхом на него, он ощутил ее влажную наготу. Нежно поглаживая обеими руками, она чувствовала его напряженное под её тяжестью тело.
– Расслабься, – шепнула она, нежно поцеловав его в ухо. – Ты устал, ты сегодня работал в саду, перекопал все грядки, сходил в магазин и приготовил вкусный шашлык на ужин.
Её убаюкивающий шепот заставил его расслабиться.
Скинув халатик, она пару раз прошлась по его спине спелыми дынями, заставив его сладко ахнуть. И целую вечность, как показалось Аркадию, она нежно массировала его тело.
– Повернись.
Он повернулся и лег на спину – и сразу ощутил её не себе. Страстный поцелуй вернул его к действительности. От неё исходил аромат – такой, какой, наверное, исходит только от богинь. Шершавыми руками он погладил её по спине, заставив вздрогнуть и мелко задрожать. Нежно притянул к себе. Губы нашли друг друга и сцепились в бесконечном поцелуе.
Потом она, дразнясь, высовывала язык, и когда он губами ловил язычок, она позволяла ему втянуть в себя. Потом все это происходило в обратном порядке. Аркаша и не подозревал раньше, как это было забавно и приятно. Что можно, играя одним языком, получать столько наслаждения.
Она целовала Аркаше губы, глаза, шею и грудь, опускаясь все ниже и ниже…
К тому времени его одноглазый змей, подняв голову, застыл в приятном ожидании.
Сью не заставила долго ждать и накрыла его головку нежным поцелуем. Потом медленно, словно удав, проглотила его целиком, заставив Аркашу приглушенно взвыть от удовольствия. Потом она, мелко вибрируя язычком, прошлась по нижней стороне, имитируя игру на флейте. Аркаша от удовольствия замотал головой по подушке, разгоняя вышитых драконов. Поняв, что попала в точку, Сью проделывала эту операцию еще и еще, украдкой наблюдая за довольной метаморфозой его лица, до тех пор, пока он нежно не отстранил её от своего Фудзиямы, готового брызнуть лавой.
Аркадий нежно поцеловал и положил ее на спину. Покрывая поцелуями, приложился к упругим розовым дыням и втянул в себя, желая проглотить целиком. Не получилось. И он, потеребив языком их по очереди и целуя живот, медленно, словно жаждущий путник в пустыне приближался к оазису, обозначенному редкими зарослями в виде стрелочки, указывающей направление, от чего Сью вздрогнула, поджала колени и сдвинула ноги. Вера Сергеевна за стенкой прислушивалась к возне молодых, вспоминая свою молодость, незаметно для себя оголяясь и лаская себя…
«Не на того напали», – про себя подумал Аркаша, целуя Сью, раздвигая руками колени и уже твердо фиксируя свою ногу между её бедер. Небольшое сопротивление с её стороны распалило ещё больше, и он, не церемонясь, раздвинул ей ноги и вставил свое весло в её скользкую и влажную уключину. Она оттолкнула его, потом обняла, впилась в него губами, как прожорливая рыба, готовая проглотить наживку. И их лодка закачалась на волнах любви, сопровождаемая всплеском весел и скрипом стонущих пружин. Когда лодка раскачивалась и готова была перевернуться, он «табанил» веслом чтобы не опрокинуться на преждевременной волне. Она тихо стонала, мотала головой, и когда крик о спасении подступал к горлу, он подносил к её губам руку. Она с остервенением грызла ребро его мозолистой ладони и изгибалась как мурена, выпуская из себя стоны удовольствия.
Аркаша невольно вспоминал всех своих подруг, и подруг, желающих прокатиться автостопом, – всех, встретившихся ему за его недолгую холостяцкую жизнь, когда колесил он по просторам страны, – представляя каждую перед собой на месте Сью, меняя картинки, как на экране слайда. Одних – с благодарностью, других – не очень. Мстя тем, кто бросил его, и как бы извиняясь перед теми, с кем расстался по глупости. И их было больше сотни.
Когда меняли позу, и он заходил с кормы, она зарывалась под подушку и закусывала одеяло зубами, чтобы не закричать. Аркаша работал монотонно и добросовестно, как каменщик укладывает кирпичи, кирпичик к кирпичику, возводя стены семейного счастья. Как плотник забивает гвозди. Удар за ударом, вбивая гвозди в крышку гроба холостяцкой жизни. Вера Сергеевна за стенкой сладко ахнула, а потом тихо выдохнула, почувствовав, как подкатило к ней, то недавно знакомое чувство, от которого становится мокро и хочется кричать.
И когда девятый вал накрыл обоих, он упал на неё – и долго лежал без движения, наслаждаясь «прогулкой по волнам».
– Хочу кричать, и не могу, – прошептала она, когда немного отдышались от кругосветного путешествия. – Отвези меня туда, где можно кричать, никого не опасаясь. Тут не только мама, а еще и соседи за стенкой, стыдно как-то, и я не могу, как следует расслабиться.
И вот, со скрипом нажимая на педали, они ехали туда, где была тишина, и никого не было.
Ехали по шоссе с редко проезжавшими машинами. Сюзанна весело крутила педали, с улыбкой оборачивалась:
– Слабо обогнать!
А он и не хотел обгонять, потому что ехать сзади, и любоваться её спелыми ягодками было куда приятнее, чем пыхтеть впереди.
Он эти ягодки заметил неделю назад на обочине кольцевой дороги, в амбразуре раскрытого багажника вишневой «семерки», куда она полезла в поисках аварийного знака среди коробок с помидорной рассадой. Недолго думая, притормозил за ней, прижавшись к обочине, прикрыв её сзади от доброхотов. Тут же появились желающие помощь, особенно со стороны водителей-кавказцев на ржавых «Жигулях», увидевших белокурую копну волос. Но его огромный «Мерседес-Бенц» с никелированным глушителем над кабиной был внушительным аргументом против желающих помочь. И они проезжали мимо. Поломка была пустяковая, отошел контакт моторчика вентилятора радиатора, и он закипел в «пробке». Пока Аркаша «искал» причину, успели познакомиться и обменяться не только комплиментами, но и телефонами, на всякий случай. И такой случай представился уже через неделю: она пригласила его на свою дачу поправить парники.
Так получилось, что ягодки Сью, обтянутые зелеными джинсами на фоне оранжевых мигающих «авариек», её белокурые волосы, синие глаза, и вся она сама, замаячившая случайно на дороге, стали для его уставшего корабля тихой гаванью от жизненных невзгод и постоянных скитаний. И он прочувствовал это интуитивно. Правда, мысли о беззаботной холостяцкой жизни еще витали в воздухе, но другая, прагматичная, одержала победу. Он все больше и больше запутывался в любовных сетях Сью, даже без малейшего сопротивления. И решение бросить якорь как-то само собой возникло где-то в глубине его души, обретая осмысленность и оправданность действий. И он теперь не жалел об этом, зная про железо, которое надо ковать, пока горячо.
Свернув с шоссе, поехали по еле заметной тропинке. Аркадий интуитивно командовал, куда надо ехать.
А вот и место, где они могли бы отдохнуть. Небольшая полянка, заросшая густым кустарником, между двумя полотнами железной дороги, куда никто не ходил, и которую не было видно из окон проезжающих поездов и подмосковных электричек.
Сью быстро «накрыла поляну» на покрывале и весело хлопнув подушкой Аркашку, села на неё и подняла бокал с красным вином:
– За нас?
– За нас! – Аркадий следил, как она жадно пила вино, словно воду, потом облизала губы и потянулась к нему. Ему ничего не оставалось, как притянуть к себе и поцеловать. При поцелуе она передала ему глоток вина, и, что интересно, это понравилось ему.
Потом выпили еще, закусывали и весело смеялись, болтая всякую чушь. Аркадий, вытерев салфеткой, верхние зубы и смешно завернув губы, изображал японца, заставляя Сью покатываться от смеха.
Мимо с грохотом проносились поезда, заглушая одинокого соловья, выводившего рулады где-то недалеко, почти рядом.
Это была самая прекрасная пора. Когда было тепло и не было ни комаров, ни мошек, готовых впиться в любое оголенное тело.
Расправившись с содержимым корзины, сползли на покрывало и стали целоваться, а потом без всякого стеснения занялись любовью. Раздеваться полностью было некогда. Аркаша стянул с нее одну штанину джинсов вместе с колготками и направил свой поршень в горячий цилиндр, полный смазки. Вспомнив про наказ матери о холодной земле, она засунула под себя подушку. И вот они, набирая обороты, отправились в путь. Соловей наяривал на ветке, пташки вторили ему, старясь перепеть. Одинокий муравей, таща на себе какую-то мошку и желая сократить путь, направился было по покрывалу, но быстро одумался и свернул на прошлогодние сухие листья с уже проклюнувшейся из-под них зеленой травой, от греха подальше.
Загудели провода, электричка, звонко посвистывая и стуча колёсами, приближалась к ним. Аркаша, положив её ноги на плечи, высекал из неё искры, чтобы зажечь огонь в топке. Сью тихонько стонала.
– Да, да. Ещё, ещё!
Электричка была уже рядом, когда Сью перешла на крик, стараясь перекричать шум колес. Как змея извивалась под ним, умоляя не останавливаться. И крикнула, протяжно, почти визжа:
– Да-а-а!
Электричка ответила протяжным гудком.
Электричка была короткой. Аркаша сбавил ход и потихоньку, как только было это возможно, подбрасывал дрова, полено за поленом, в её горячую топку, ожидая следующий состав.
Это был пассажирский, судя по тому, как он стучал колесами и давал гудки, низко и протяжно.
Было жарко, и Сью срывала с себя одежду, и футболку – с «машиниста». Пот катил ручьем с обоих. И это был пот трудовой. Слабый ветерок донес до них запах цветущей неподалеку черемухи, открыв второе дыхание.
И по следующему гудку тепловоза Аркаша тоже надавил на газ. Сью кричала от удовольствия, так, как будто хотела перекричать шум надвигающихся колес.
– Да, милый, да! Да-а-а!
Тепловоз, как бы слыша ее, ответил двумя гудками.
Аркаша уже был на пике наслаждения. Но зная Сью и её потребности, он притормаживал, чтобы в конце пути поставить жирную точку.
Шестнадцать пассажирских вагонов проскочили быстро, но дольше, чем электричка. И Аркаша ждал, как алкаши ждут открытия магазина, как соловей лета, как ждут в засуху дождя. И тот не заставил себя долго ждать.
Товарный поезд появился с юга, груженый углем. Мощный, со спаренным тепловозом. Издалека дав протяжный гудок, сотрясая всю округу, тяжело громыхая на стыках…
Аркаша проверил скакуна, немного остудил, поцеловал Сью, отпил вина и прямо изо рта дал Сью. Она, благодарно улыбнувшись, томно закрыла синие глаза, готовясь к последнему прыжку, прислушиваясь к надвигающейся неизбежной стихии.
Состав был уже близок, и Аркаша, ещё раз проверив иноходца на готовность, нырнул в её слегка остывший омут, чтобы разогреть. Его гнедой скользнул туда, как по мокрой траве после летнего дождя, где было хорошо, мягко и сладко, от которого у него потекли даже слюнки и капнули на грудь Сью. Сью, набирая обороты, помогала наезднику, бросившему вызов железной машине, желая вместе с ней обогнать тепловоз.
Началась скачка. Аркаша вспомнил собаку, которая у дороги наперегонки бегала с машинами, возвращаясь к одному и тому же месту на газоне, срывалась с места, соревнуясь с ними, и нередко брала верх. Аркаша решил обогнать всех: и собаку, и машину, и даже тепловоз.
Мчались долго. Сюзанна кричала и мотала головой, разметая прошлогодние листья, хватала землю и тонкие березы, осыпая почки, приближалась к конечной остановке и, крикнув из последних сил: «Да-а-а», – обмякла вместе с ним одновременно.
«Товарняк» ответил двумя короткими и одним длинным гудком.
Долго лежали без всякого движения, приходя в себя.
Когда Аркаша встал, отряхнул колени от прошлогодних листьев и поставил гнедого в стойло, то с удивлением заметил длинный пропаханный след от своих ног. Колею упирающихся об землю кроссовок далеко от покрывала, метрах в десяти, где они, по идее, должны были лежать, и подушку с драконами, которую Сюзанна, довольная и обнаженная, лежавшая, раскинув руки, на залитой солнцем поляне, умудрилась не выпустить из рук, вернее, из-под себя.
– У тебя как фамилия? – вдруг спросил он.
– Криворучко. А что? – удивилась она.
– А не хотела бы ты поменять свою фамилию?
– Я сейчас согласна на все… а как твоя фамилия?
– Толстопальцев!
– А можно подумать? – рассмеялась она, наглядно изображая кривые руки и толстый палец, и обреченно махнула рукой.
– Можно… только недолго.
Цицерон Марсель Шукаев
Ироническая проза
– Как бы не так! Дудки! – блеснув золотой коронкой, пенсионер Марсель Шукаев по прозвищу Цицерон зорким глазом принялся выискивать очередную жертву.
И слегка покачиваясь от тяжести знания всей подноготной односельчан и изрядно принятого вчера «на грудь», старательно обходя канавы с грязной водой, изрытые колхозной техникой, обутый в глубокие калоши на босу ногу, в поношенном трико и когда-то чистом пиджаке от шевиотового костюма с колодками и орденом Красной звезды на груди поверх непонятного цвета майки, шел к своей главной трибуне – ступенькам магазина.
Жизнь по мере его движения по длинной и кривой улице, похожей на мокрый след племенного быка на пыльной дороге, возвращающегося за стадом с пастбищ, замирала – и начинала оживать и хлопать калитками, когда он скрывался из виду.
Еще бы. Цицерон, который впоследствии из-за плохой дикции старушек и местных хохмачей превратился в «Це-серуна», встав напротив ворот, тренировал свою луженую глотку в адрес жителей деревни, до седьмого колена, и они в такие дни старались с ним не встречаться, от греха подальше.
И даже куры, увидев его, с паническим криком бросались в подворотни.
– А-а, курица Фазлыахмета, – говорил он с ехидцей, – что, не кормит тебя твой хозяин? Рискуя попасть под колеса, клюешь из-под ног! А чем ему кормить-то, если он не работает нигде? Отморозил руки по пьяни и сидит теперь дома на пенсии. Лодырь! И что взять-то с него, кроме анализов… Таким же лодырем был его отец, царство ему небесное, – колхозный сторож, всю жизнь на мешках с ружьем просидел. И как только не отморозил… Лодырь! И таких лодырей с полдеревни. И скажи хозяину, пусть пятьдесят рублей вернет.
Хотя вслед ему и говорили, чтобы он провалился в канаву с грязью, наглотался и сдох, но в душе желали, чтобы он жил и здравствовал: от кого еще услышишь правду о себе, тем более о соседях.
Шестидесятисемилетний Марсель Шукаев, колхозный пасечник, пил редко, после того, как дела уже были сделаны, или еще предстояло делать, но нескоро. И он от нечего делать, а скорей – для куража, позволял себе, как он выражался, «небольшой расслабон». По натуре своей был молчалив, но стоило выпить, как его начинало заносить. Хозяйство у него было крепкое. Дом из бруса, обшитый тесом, на бетонном фундаменте, огороженный глухим высоким крашеным забором, был не меньше дома председателя колхоза «Светлый путь» Абдулхабибрахманова Мухаметгалия Минифазылмухамедовича, которого звали просто «Пред», работающего последний год перед пенсией. Председатель знал, что на днях была пенсия, и многие односельчане, которые на это имели заслуженное право, получили на почте свои кровные рубли, и теперь, несмотря на страду-сенокос и его запрет, отметили это событие. Но он никак не ожидал, что это совпадет с расширенным совещанием актива колхоза, посвященным уборке, где присутствовала вся местная интеллигенция во главе с директором средней школы, а также представитель из района с корреспондентом областной газеты, – и с выступлением Цицерона на крыльце магазина.
– Да я вижу, тут у вас на Доске показателей повысились надои, – говорил Цицерон, зажав в руке початую «чекушку», завернутую в оберточную бумагу. – И как не повыситься, если каждый день флягами собирают у народа и пишут в колхозную копилку. Луноход они запустили! Лучше бы его запустили по нашей улице и потом сетями бы искали, ха-ха! Да, у меня есть деньги. И хватит на три автомобиля «Волга». Но тут не машину надо покупать, вертолет, ха-ха! Культура! Да какая тут к чертям культура, если я к магазину не могу пройтись, чтоб не испачкать парадные калоши. Культура будет тогда, когда от моих ворот до магазина будет лежать асфальтированная дорога, ха-ха! Да, выпил я, имею право! Я на пенсии. Получаю пенсию, которой хватило два раза сходить в сельпо. Но завтра я как штык на пасеке, первый медосбор, липа расцвела. И не забудьте мне выделить Народного контролера, чтобы я не своровал колхозный мед. А зачем он мне нужен, если у меня своих пятьдесят голов? Коммунизм они строят. Да построишь тут с вами Коммунизм!
– Во дает, – то и дело высказывались участники совещания, слушая выступления Цицерона через раскрытые по случаю жары окна, в то же время завидуя ему, что он безнаказанно может говорить.
И в самом деле, было в нем что-то древнеримское: короткая стрижка с оттопыренными ушами, быстрые пытливые глаза, небольшой с горбинкой нос придавали его худощавому лицу поразительное сходство с древним оратором. И даже сверток в руке напоминал папирус. И голос, такой, что если он вечером шерстил кого-то из соседей, то было слышно у Правления колхоза, и все знали, кому «повезло».
Председатель, краснея, пытался вести собрание, но внимание всех было на улице. И теперь он готов был пристрелить Цицерона, и даже думал, где лежит его патронташ с картечью, дома или на заимке у егеря, куда пригласил его новый секретарь райкома, отдохнуть и поближе познакомиться. Но знакомство закончилось очередным возлиянием и стрельбой по бутылкам вместо охоты на кабана.
Когда, уже придерживаясь регламента, перелили из пустого в порожнее все, вынесли решение: «Работать еще лучше», – и хотели объявить собрание закрытым, но тут председатель сельсовета Вафин спросил:
– А кого мы выделим Цицерону на завтра?
– Некого, все при деле, – сказал «Пред». – А кто у нас был председателем Народного контроля?
– Шаймуратов, секретарь комсомольского бюро, теперь он в армии, – ответил Вафин. Упоминание однофамильца великого конноармейца вызвало всеобщий смех.
– А кто теперь секретарь?
– Медведь-Культура, – под общий хохот ответил он. – Э-э, Эльгизар Романович, директор Дома культуры.
– Значит, он же будет и председателем Народного контроля, если он не против? Голосуем. Кто против? Все – За! Поздравляем!
«Итак, к пухлому портфелю директора Дома культуры, – подумал Эльгизар Аюпов, – прибавились еще два, секретаря комсомола и председателя НК, – общественные должности без оклада, от которых нельзя отказываться, назвался груздем – в кузов».
Это было то время, когда Эльгизар, только-только вернувшись из города, начал работать директором Дома культуры. И все колхозное руководство здоровалось за руку, и ни в чем не отказывали – в надежде, что он им отремонтирует обветшалый Фонд и поднимет культурный уровень до небывалых высот; да и сам он был полон оптимизма и еще не помышлял удрать с колхоза. После таких собраний он, после семилетнего отсутствия в деревне, вновь чувствовал себя «хозяином земли», проезжая по полям на велосипеде, останавливался и по-хозяйски мял в ладонях колосья пшеницы, как это делали в кино председатели колхозов, и пробовал на вкус. С любовью хлопал по бокам колхозных коров, хотя у него в сарае были только коза и с десяток кур.
– А-а, привет, Культура, – издали закричал Цицерон, увидев Эльгизара в костюме и галстуке, одетого по такому случаю, как бы предвосхищая значимость того факта, что Народный контроль – это не шухры-мухры, – мы уже готовы, только тебя ждем.
Цицерон, хотя от него и несло перегаром, был бодр и свеж, управлял повозкой, в которой была его жена, все четверо детей и соседская девчонка лет пятнадцати, дочь зоотехника Мартынова синеглазая Светлана, и он. Пока ехали, Цицерон сокрушался:
– Перестали варить «кумушку», как это делали раньше. А вот в соседней марийской деревне, за три километра через гору, еще умеют варить, правда, добавляют туда всякую гадость: куриный помет, табак и еще что-то. От которого голова остается свежей, а через полчаса отключаются ноги, и именно на вершине горы. Успел дойти до вершины, значит, ты дома, ноги под гору сами несут. Не успел, ночуешь там.
Светлана сидела через младшую дочь Цицерона, свесив, как и все, ноги, в китайских кедах, то и дело, кося взглядом на Эльгизара. А он вспоминал, как он её еще совсем маленькую тащил на руках от речки. Стояла небывалая жара, и все кому не лень купались на пруду Ульяновской мельницы, в километре от деревни, и дети прыгали с моста на мелководье. И Светлана занозила ногу и, усевшись на берегу, тихо плакала, не зная, что делать. Эльгизар как отличник боевой и политической подготовки был награжден десятидневным отпуском и, изнывая от жары, спасался на речке.
– Так, в чем тут дело? – спросил он, выйдя из воды и увидев её синие заплаканные глаза.
– Кто тебя обидел?
– Заноза, – сказала она, всхлипывая и утирая слезы.
– Не плачь, – сказал он вполне серьезно, – от слез помутнеют глазки, и никто замуж не возьмет, дай-ка посмотрю. Да ты не бойсь, солдат ребенка не обидит.
Заноза была большая и глубокая, без булавки не обойтись. У купающихся ничего похожего не оказалось. Надо было идти в деревню. Света идти не могла, и он половину дороги нес её на руках, потом – на раме велосипеда соседского мальчишки. У себя дома, усадив на крыльце, оказал ей первую помощь – вытащил занозу, обработал зеленкой и, замотав бинтом, на велосипеде отвез до дома. А теперь она подросла и стала почти девушкой с такими же синими глазами, небольшими пока еще грудями, выпирающими из-под голубой, под цвет глаз, блузки и круглыми коленками, на которые она, смущаясь и краснея, пыталась натянуть коротенькую ситцевую, в красных цветочках, юбочку.
Ехали около часа по полям и лесной дороге, пока, наконец, не запахло цветущими липами, свежескошенной травой и воском. Разгрузившись, сразу приступили к делу. Увидев фронт работы, больше ста ульев с гудящими насекомыми, Эльгизар понял, что здесь наблюдающим начальником быть не придется, снял костюм и засучил рукава.
Выдали когда-то белый, но чистый халат и накомарник. Его задача была в омшанике крутить центрифугу и сливать мед в молочные бидоны. А соты в специальных носилках приносили и уносили дети. К часу дня восемь фляг, наполненные до отказа медом и опломбированные, стояли у входа, уже готовые к отправке в колхозный амбар. Решили пообедать. Между тем за обедом, который состоял из вареного мяса с картошкой и чая со смородиновыми листьями, заправленного молоком, Эльгизар узнал от Цицерона, почему пчелы считаются по головам. Оказывается, по голове пчелиной матки – одна матка, одна семья. Что у них есть свои солдаты-охранники, пчелы-труженики, свои заведующие детским садом, как они с помощью танцев и запахов общаются между собой. Как они организованы и как у них распределены обязанности. Секретарь парткома Шмаков не раз агитировал Эльгизара вступить в партию. «Я бы лично вступил в партию пчел, – подумал он. – Если бы, конечно, приняли». Не успел и подумать об этом, как одна из пчел влепила ему в глаз, прямо в переносицу, над дужкой солнцезащитных очков. Сразу дав понять, что не быть ему в партии пчел, и так, мол, полно дармоедов, своих трутней хватает.
Он сразу почувствовал неладное в организме. Давно не кусали его пчелы, за семь лет отсутствия организм забыл пчелиные инъекции и стал неуклюже протестовать, чесаться и тошнить. Поняв, что из него теперь помощник хреновый, а контролер вообще никакой – хоть всю пасеку уноси, решил отлежаться в сторожке, подальше от разъяренных членов партии пчел.
Чувствуя, как опухают щеки и губы, а язык еле ворочается во рту, он вспомнил, как кто-то в соседней деревне даже умер от укуса пчелы, вспомнил академика Павлова, который перед смертью созвал своих студентов и до последней минуты диктовал им весь процесс… У него учеников не было, но все же нашел карандаш, листок бумаги и, пока совсем не заплыли глаза, записывал для потомков, о том, как он «умирал» в сторожке…
Цицерон то и дело забегал в сторожку, интересовался самочувствием «Культуры», предлагал отвезти в медпункт, напоминал о том несчастном из соседней деревни. И ему становилось еще хуже. Заходила и Светлана, откинув накомарник, интересовалась, что ему нужно, щупала лоб и трогала ноги. Его бросало то в жар, то в холод. В очередной раз она обнаружила его холодные ноги и, не на шутку перепугавшись, начала растирать их. Он был в какой-то полудреме, в полусознании, и он почему-то подумал, что его одевают в последний путь, начиная с ног…
– Ну вот, теперь совсем холодный, – говорила Светлана, растирая его ноги, покрытые аллергической сыпью, – умирать он тут собрался, а ну не сметь! Я ещё помню, как ты меня нес на руках и пел дурацкую песню: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», и я старалась не плакать, чтобы не помутнели глаза, и выйти за тебя замуж, дурак! Помирать он вздумал. А ну не сметь! Не для этого я ждала тебя столько лет и стащила твою фотографию у твоей мамы. Хочешь сказать, что я маленькая? Не бойся, я вырасту. Я уже большая и целоваться умею, хочешь, покажу?
Эльгизар, почувствовав поцелуй, подумал: «Поцелуй смерти… тогда почему он не холодный, как пишут в романах, а такой горячий и долгий»? И ощущая нежность девичьих губ, почувствовал, как по его телу расплывается тепло…
Часа через два понемногу начало отпускать. Еще через час он уже ходил, но видел только одним глазом и держался подальше от пчел.
Закончив работу, поехали в деревню. До своего дома он пробирался огородами, чтоб никто не видел его расплывшееся словно блин лицо.
1975 г.