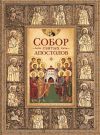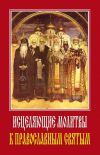Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Этому принципу подчинились как раз костюмы и знаки достоинства: они должны были характеризовать тех персонажей, чьи физические особенности еще не обладали никакой индивидуальностью. Можно сказать, что они выполняют прежде всего историческую задачу: представить набор узнаваемых знаков, вместе с надписью удостоверявших личность покойного, разумеется, «образцовую», если воспользоваться выражением Дюрана, его добродетели. Растущая точность в отображении этих знаков привела к тому, что персонажи уже не были взаимозаменяемыми. Историк Средневековья долго использовал эти памятники как эпиграфические или геральдические документы, необходимые для фиксирования биографических дат. Как уже отмечал Буркхардт, социальная группа, к которой принадлежал усопший, значила гораздо больше, чем его собственная индивидуальность.
Зарождение готического портрета заслуживает специального изучения, которое еще не предпринималось. Я остановлюсь лишь на двух моментах. Первый – «криптопортрет». Этот тип «скрытого портрета» в некоторых случаях вполне различим в XV в., но все гораздо сложнее в XIII в. У Бамбергского всадника отсутствуют черты Фридриха II, иначе нужно согласиться с тем, что один из королей в трансепте реймсского собора также должен считаться портретом этого императора из династии Штауфенов. Можно также заметить, что лицо Фридриха II с капуанских врат сильно напоминает «портрет» Людовика Святого в церкви Менвиля. Это типы, точно такие же как на медалях, а вовсе не портреты. Мы видим, что художник, выполняющий такое изображение, всегда использует две-три формы носа или подбородка. Следует различать экспрессию и портретность: творчество Николая Верденского, а потом реймсская скульптура 30-х годов XIII в., вдохновлявшиеся античными образцами, характеризуются поиском такой выразительности, которая требовала ярко выраженных физиогномических черт, далеких от портретности. Упоминавшиеся выше фигуры из западного хора собора в Наумбурге являют собой наиболее красноречивый пример этого разделения: достаточно отметить сходство головы Уты и головы одной из женщин композиции Страшного суда из Майнца, чтобы окончательно отказаться от идеи, что перед нами цикл портретов. Целое течение в скульптуре отказалось от идеализации, свойственной XIII в. Это Девы разумные и неразумные в Магдебурге и Эрфурте, статуи в Наумбурге, страсбургские пророки, а также искусство Пизано. Но и этот экспрессивный, патетический стиль был отброшен вместе с идеальной красотой ради новой концепции человеческой фигуры, задачей которой, если воспользоваться аристотелевским определением из «Поэтики», было изображение людей не лучше и не хуже, чем они есть, но такими, какие они есть. Отсюда и родился портрет.
Мы видели, что «принцип реальности» постепенно освободил гробницу от ее чисто абстрактного, эпиграфического характера. Последовательные фазы этой эволюции: изображение псевдолежащей или лежащей фигуры с ее костюмом и инсигниями, переход от псевдолежащего к собственно лежащему изображению с закрытыми глазами вместо открытых и, наконец, портрет[47]47
Первые лежащие статуи с закрытыми глазами появились во Франции лишь в первой половине XIV в.: предполагаемая голова Робера Жюмьежского, возможно, немного старше головы епископа Гильома де Шанака († 1343) в Лувре.
[Закрыть]. Это развитие шло неодинаково в разных странах, в частности, в Англии и особенно в Италии, где в надгробиях из металла глаза стали изображать закрытыми гораздо раньше, чем во Франции.
При Людовике IX в программе королевских могил и при Филиппе IV в парижских статуях идеология монархической власти нашла свое прямое выражение. И тот и другой опирались на историографическую традицию Сен-Дени. Размещение могил в 1264 г. ставило своей целью создание некрополя королей – создателей и благодетелей аббатства, из которого их некоронованные дети были выдворены в Руайомон[48]48
Дж. Райт настаивает на инициативе монастыря Сен-Дени и считает, что роль Людовика Святого была менее значительной (Wright G.S. A Royal Tomb Program in the Reign of St. Louis // Te Art Bulletin. 1974. Vol. 56. P. 224–243). Его гипотеза кажется нам более правдоподобной, чем обычно принимаемая идея, согласно которой автором программы некрополя был Людовик Святой (см., напр.: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М.: Ладомир, 2001).
[Закрыть]. Цикл королевского дворца, в свою очередь, был разработан по хронологии, содержащейся в истории и чудесах Сен-Дени. Написанное по заказу Филиппа IV, но законченное лишь после его смерти, в 1317 г., сочинение Ива из Сен-Дени должно было показать роль заступничества св. Дионисия в судьбе королей Франции. Другой монах Сен-Дени, Гильом из Нанжиса, в «Сокращенной хронике» (Chronicon abreviatum) описал их генеалогию; Гильяр Орлеанский назвал свою стихотворную хронику «Ветвью королевских линьяжей» (La Branche des royaus lignages). Юрист Петр Дюбуа настаивал на том, что король «должен всегда оставаться в своей стране, чтобы, к вящей славе Господней, производить потомство, заниматься его воспитанием и образованием, а также заботиться об армии». Все эти писания делают акцент на династическом принципе, а циклы надгробий и статуй воплотили эту идею в камне. Однако Людовик Святой и Филипп IV по-разному относились к Сен-Дени. Если первый, судя по всему, доверил аббатству увековечить королевское покровительство, которым оно так гордилось, в создании некрополя, то Филипп IV оспаривал у него владение останками своего отца. Сам он, как мы видели, завещал похоронить свое сердце в Пуасси. Если Людовик IX в качестве регента избрал Матвея Вандомского, аббата Сен-Дени, то при Филиппе Красивом ни один монах этого монастыря не был политическим советником, на что, кстати, жаловался Ив. Даже если он, следуя примеру предков, рекрутировал официальных историографов королевства в Сен-Дени, видно, что он сохранял дистанцию по отношению к этому «монополисту».
Все эти факты свидетельствуют о том, что патриотическое чувство и индивидуалистическое сознание росли одновременно. Последнее отразилось в надгробиях и статуях. В случае с Филиппом Красивым многочисленные изображения государя и акцент на династической преемственности были двумя психологическими признаками веры в бессмертие. Нет ничего удивительного в том, что в таком богословско-политическом контексте развилась и концепция королевского образа, эффективного в силу сходства с образом святого: аналогия между статуями королей и коллегией апостолов в стоявшей совсем рядом Сент-Шапель бросалась в глаза каждому. Эта аналогия была тем более важна, что Филипп IV выполнял священную функцию короля-целителя. Мы присутствуем при зарождении идолопоклоннического культа индивидуальной фигуры, воплощавшей в себе власть: у истоков современного государства неизбежно должно было стоять изображение Государственного Человека. Это изображение имело такое соотношение с реальностью, что невозможно понять, чем изображение обязано королю, а чем король обязан своему изображению. Епископ Сессэ, говоря о своем сюзерене, странным образом выразил это единство: «Наш король… – самый красивый человек в мире, но он умеет лишь молча смотреть на людей… Это не человек и не зверь – это статуя»[49]49
Уже в IV в. Аммиан Марцеллин описывал Констанция II как статую (Castelnuovo E. Portraît et société dans la peinture italienne. P., 1993. P. 9).
[Закрыть].
В первой версии «Эмиля» Жан-Жак Руссо писал: «Я воздержусь от того, чтобы приписать ему такого учителя рисования, который давал бы ему для копирования одни лишь рисунки, я хочу, чтобы у него не было иного учителя кроме природы и иной модели кроме предметов. Я хочу, чтобы перед глазами его был сам предмет, а не его изображение на бумаге; он должен рисовать дом, глядя на дом, дерево, глядя на дерево, человека, глядя на человека, тогда он привыкнет изучать тело и его признаки и не принимать его полную условностей имитацию за настоящее подражание. Я даже запрещу ему изображать что-либо по памяти, до того как многократное созерцание не запечатлеет в его воображении четкие образы фигур. Все это ради того, чтобы, заменяя истинные вещи странными фантастическими образами, он не потерял знания пропорций и вкуса к красотам природы». Этим педагогическим проектом Руссо, как ему казалось, порывал с традицией художественного образования, зафиксированной начиная со Cредних веков. Он хотел отвлечь ученика от двух источников, на которых могла бы строиться работа художника: внешнего источника – пластической модели и внутреннего – памяти. Тем самым Руссо отказывался от концепции платоновского происхождения, согласно которой искусство всегда воспроизводит лишь видимость, а не сущность. Для Платона художник – имитатор имитированной формы, поскольку он фиксирует лишь видимость реальности, «мимолетное воспроизведение существующих прообразов». Кроме того, произведение искусства немое до тех пор, пока какой-нибудь интерпретатор не заставит его говорить. Эту герменевтику, рассмотренную в «Федре», мы находим у бл. Августина: искусство художника являет такую форму красоты, которая не просто воспроизводит творения Природы; эта форма живет внутри художника, и изображенная им красота не более чем посредник между Богом и материальным миром.
Именно с этой проблемы идеи или образа, который художник должен был хранить в себе, и начался бесконечный спор, в который включились не сами художники, а философы и мистики. Если творческий акт подчинен внутреннему образу, значит, нужно вслед за Майстером Экхартом допустить, что Бог также творит согласно «существовавшим ранее образам» (vorgëndiu bilde). В отличие от Бога, человек обладает лишь «квазиидеями», говорил св. Фома. «Идея по-гречески значит то, что мы называем по-латински формой (forma). Под идеей, следовательно, понимается форма вещей, существующая вне самих вещей. Форма вещи вне вещи может играть две роли. Она может быть образцом (exemplar) той вещи, по которой она названа, а может быть принципом ее познания, поскольку говорят, что формы познаваемого сущих вещей содержатся в сущем, которое их познает». Далее св. Фома упоминает некоторых «мыслителей, по мнению которых Бог сотворил лишь первое сущее, которое в свою очередь сотворило второе и так далее до известного ныне множества». Он полемизирует с Авиценной, которому противопоставляет тот аргумент, что у Бога была идея порядка и всемирной гармонии уже в момент Творения. Причинно-следственной цепочке томизм противопоставлял универсальный план. По аналогии можно сказать, что Авиценна ближе к средневековой концепции exemplum, чем томизм. Но это различие связано именно с тем фактом, что для св. Фомы исключительно важны отличия идеи от «квазиидеи», эти два понятия соответствуют божественному творению и творчеству человека.
Схоластика подчиняет искусство видимой модели, при этом она имеет в виду не конкретный объект природы, а произведение искусства, похожее на то, которое, как писал св. Фома в трактате «Об истине», задумано «художником, когда он, измыслив некую форму, старается по ней создать собственную». Если художник хочет создать изображение, говорил Таулер, «он прежде всего рассматривает другое изображение, накладывает все линии и точки на свой материал и формирует собственное изображение, максимально верно копируя оригинал». Майстер Экхарт передавал мистический опыт как постоянный переход от внешнего объекта к его внутреннему прообразу: мы мыслим образами, выражаемся ими, в них познаем и запоминаем мир. Таулер считал мудрецом человека, «лишенного мысленных образов» (bildlos). Иными словами, мудрец всегда живет в настоящем, без памяти и без сознания времени. Мистики уделяли большое внимание изображениям, ни один из них категорически не отрицал их дидактического значения. Будучи материальной реальностью, они должны были соответствовать «образцам» (exempla), предложенным художественной традицией; будучи подспорьем в благочестии, они должны были соответствовать духовной традиции.
Фундаментальная работа, отчасти прояснившая наши знания в области средневекового искусства, была проделана Юлиусом фон Шлоссером. Многие из его сочинений посвящены «художественной традиции», но самым важным из них остается то, которое он опубликовал в 1902 г. Опираясь на «начатки эмпирической психологии искусства» и отказавшись от «биологии искусства», Шлоссер видел зарождение понятия искусства в двух источниках. Один из них полностью средневековый, и в нем главным рычагом психологии творчества стал «мысленный образ» (Gedankenbild); этот термин исследователь использовал иногда для обозначения ментального образа, иногда мнемонического (Erinnerungsbild). Другой источник относится в XIV в., это непосредственное изучение природы. Следует напомнить, что Шлоссер использовал здесь ряд научных наблюдений, в частности, сделанных Вильгельмом Вундтом и Эманюэлем Лёви, а также сочинения Готфрида Земпера. Иными способами, прибегая к другим методам и примерам, эти исследователи говорили о необходимости интерпретировать изображения, созданные в периоды, называемые «архаическими», в обществах, называемых «примитивными». Обращение к геометрическим структурам позволило описать художественную деятельность как систему воспроизводства архетипов, именно знание геометрии позволяло художнику одновременно и понимать, и копировать их. «Мысленный образ» стал «тонкой дымкой» между природой и глазом, которая вела рукой художника. Ссылаясь на мистиков XIV в., Шлоссер видел в этой ментальной проекции внешнее выражение личности (Gestalt), Образа (Bild), а также Формы, которую, если вспомнить Майстера Экхарта, человек носил внутри себя.
В работах Земпера и особенно Вёльфлина понятие полярности приобрело значение парадигмы истории искусства как истории стиля. С этой точки зрения, стили всех эпох балансировали между двумя полюсами, которые различал уже Витрувий и которые Вёльфлин назвал «классицизмом» и «барокко». В XIX в. верили, что всякая художественная форма начинает со стилизации, постепенно двигаясь к натурализму; художник якобы постепенно освобождал свой дух от геометрии, чтобы все более верным взглядом смотреть на природу. Когда Ригль писал о тенденциях осязания и оптики, он вовсе не отказывался от этой биполярной схемы.
Эта схема, ведшая художников от «стилистики», как сказал бы Анри Фосийон, к натурализму, даже реализму, считалась доказанной описанием двух больших периодов – романского и готического; более того, внутри готического периода было даже выделено два полюса в начале и в конце – «идеализм» и «натурализм» (Дворжак).
Развитие так называемой готической скульптуры – между королевским порталом Сен-Дени и 1500 г. – неизбежно ставит под вопрос правильность этой схемы. Конечно, если взять портрет, следует признать, что взглядом мастера, старавшегося схватить мельчайшие физиогномические детали, управлял «принцип реальности». Причины этого изменения можно видеть во влиянии, с одной стороны, куртуазной литературы (с ее страстью к описаниям) и, с другой стороны, трактатов по астрологии, в которых, в глазах государей, важное место занимала физиогномика. Однако если учесть то, что действительно определяло пластичность скульптуры, т. е. драпировку, тогда нужно признаться, что натуралистическая тенденция выразилась, скорее, где-то в самом начале пути, чтобы постепенно уступить общей тенденции к абстрагированию. Изучая литературу, Георг Вайзе очень четко продемонстрировал, что «деконкретизация» была характерна как для миннезанга, так и для языка мистиков; оба позволяют определить готического человека, идеал которого был в «крайней тонкости и хрупкости телесного строения, в отказе от какой бы то ни было сознательной силы, с которой… связана манерная искусственность поз и жестов». Драпировка развивалась в русле ее собственной глубоко антинатуралистичной архитектоники. Спекуляция над формой преобладала над поиском естественности и даже правдоподобия.
Вопрос об exempla в готике не может ставиться равнозначно для зарождения портрета и работы с драпировкой. Попробуем разобраться с этим противоречием.
Что мы называем «моделью»? То, что скульптор намеревается копировать и на что ориентируется в работе. Модель можно найти в природе (мужчина или женщина, позирующие в мастерской, животное) или в различных областях искусства (живопись, мозаика, миниатюра, ткань). Это может быть и более или менее тщательный рисунок художника, оригинальный макет из глины, гипса или воска, уменьшенного масштаба или в полную величину, т. е. окончательное произведение из любого материала или репродукция. Каждая техника скульптуры требовала выбора и использования особой модели.
Итак, моделью могло быть произведение искусства того же рода, в котором мастер собирался создать свое произведение. Он мог также заказать транскрипцию, например, если модель представляла собой рисунок или эскиз для произведения в камне или из дерева. Модель могла быть навязана художественной традицией, в упрочении которой она участвует. В таком случае мы назовем эту модель типологической. Она могла быть выбрана также исходя из специфического содержания, в качестве средства передачи особых идей и значений. Такую модель назовем культурной. Существование самих произведений искусства – необходимая предпосылка правомерности всех этих классификаций: культурное и типологическое настолько неразрывно связаны, что их разделение остается чисто теоретической операцией.
Конец Средневековья оставил нам много свидетельств связи типологического и культурного, в особенности в области погребальной скульптуры. Людовик де Маль, граф Фландрский, писал в своем завещании 1381 г.: «Мы выбрали себе место погребения в коллегиальной церкви в Куртре, в капелле св. Екатерины, построенной нашими заботами; мы хотим, чтобы по заказу упоминаемых ниже наших приказчиков и по их усмотрению было сделано надгробие над нашим телом…» В договоре на изготовление усыпальницы Иоанна Бесстрашного, заключенном Клаусом де Верве в 1410 г., уточняется: «могила, похожая на могилу моего покойного отца»; а в контракте 1443 г. Хуан де ла Уэрта получил задание создать «прекрасную гробницу, такой же длины и высоты и из таких же качественных камней и иных материалов, как гробница светлой памяти достославного покойного герцога Филиппа», а также ввести некоторые изменения: «кроме того он должен поставить табернакли над каждой сидящей фигурой ангела, чего нет на гробнице покойного герцога Филиппа».
Могила Филиппа Смелого считается культурной и, следовательно, типологической моделью. Она стала прообразом для целой серии аристократических надгробных памятников. В то же время эта модель могла претерпевать изменения, «улучшения», как тогда говорили. Значимость модели никогда не абсолютизировалась, именно эта относительность и объясняет бесконечность вариаций, обогащавших мир форм. Искусство погребений лучше всего документировано в завещаниях и контрактах, но множество примеров для более раннего времени можно было бы привести и из других областей: в 1390 г. Жак де Бэрз (Baerze) принял от Филиппа Смелого заказ на изготовление двух заалтарных образов, идентичных тем, которые он написал для церкви в Термонде и для аббатства Билок близ Гента.
Контракты, подробно описывающие все детали заказываемого произведения, встречаются довольно редко. Контракты Хуана де ла Уэрта на церковь Сен-Жан в Дижоне 1444 г., художника Каспара Изенманна на главный алтарь Сен-Мартен в Кольмаре и Тильмана Рименшнайдера на мюннерштадтский алтарь содержат подробные указания и, можно предполагать, были лишены рисунков. Напротив, контракт, заключенный Уэртой на изготовление гробницы Иоанна Бесстрашного в 1443 г., был одновременно подробным и должен был быть соблюден, как подчеркивает скульптор, «согласно указаниям моего патрона на этом рисунке… на листе пергамена». Этот случай особенно примечателен, поскольку скульптор, как мы видели, получил четкое указание ориентироваться в качестве модели на гробницу Филиппа Смелого. Этот документ обозначает границы верности модели и те новшества, которые скульптор мог привнести.
Нет ничего удивительного в том, что королевские или княжеские гробницы указывались в качестве моделей. Ведь это был окончательный облик, который принимал образ государя, и ему, естественно, уделялось особое внимание. Иногда требовалось воспроизвести просто размеры модели, как это было в случае с двойной гробницей Карла Бурбона и герцогини Агнессы в Сувиньи в 1448 г., которая ориентировалась на бургундский образец.
При выполнении любой программы художник располагал таким множеством иконографических вариаций, что только заказчик должен был принимать решение. Герцог Баварии-Ингольштадт Людвиг Бородатый в 1435 г. предоставил скульптору заботу изобразить его на надгробии молящимся Пресвятой Троице и «преклонившим одно колено или оба».
Модель, подкрепленная контрактом, конечно, и культурная модель, результат сознательного выбора типа произведения, выбора, в котором не последнее место занимал эстетический вкус, даже если он упоминался лишь косвенно. Могила Филиппа Смелого смогла стать прообразом, в том числе, и благодаря своим формальным достоинствам, созданным руками Жана де Марвиля, Клауса Слютера и Клауса де Верве.
Соперничество городов в позднее Средневековье отразилось в обогащении художественных форм. Городской совет Базеля заказал художнику Гансу Тифенталю декоративную программу, аналогичную дижонской обители. В 1511 г. город Кеферинг в Баварии заказал одному витражисту изготовление геральдического витража, похожего, согласно контракту, на те, которые были созданы в Нюрнберге, Ингольштадте, Ландсхуте, Штраубинге и Регенсбурге. Для Ньивекерк в Делфте Адриан Ван Везель должен был изготовить в 1484 г. заалтарный образ по образцу того, что он сделал для собора в Утрехте. Еще удивительнее документ 1546 г., из которого мы узнаем, как аббат Воклера близ Лана заказал антверпенскому скульптору Пьеру Кентену заалтарный образ, такой же, какой «сегодня видела в Антверпене» комиссия из трех человек. То, что низшие слои общества избирают для своих заказов модели, заимствованные в высших слоях, это нормальный механизм самоутверждения и самооправдания. Непонятно, почему появлялись очень богатые заказы, состоявшие из очевидно рабских копий и плагиата. Таков, например, роскошный часовник из бывшей коллекции графа Энтони Сейлерна, миниатюры которого списаны с композиций «Прекрасного часовника» и «Роскошного часовника» герцога Беррийского. Характерно, что художник «Часовника Сейлерна», настоящий compilator, не просто прибегает к типологическим заимствованиям, но и скрывает свой собственный стиль под стилем своих образцов. Как и в случае с добавлениями, сделанными в XIV в. в заалтарном образе из Клостернойбурга, перед нами очевидное доказательство осознания истории стилей.
Заказчик такой книги – типичный клиент позднего Средневековья. Стилистическое единство произведения – понятие, мало о чем ему говорившее, даже, скорее, чуждое. Позднесредневековые алтари яркое тому свидетельство, несмотря на заботу, проявлявшуюся по отношению к этому единству со стороны гильдий и корпораций.
Как мы видели в случае с Маго д’Артуа, иногда заказчики проявляли особый интерес к историчности изображений. Можно себе представить, что, например, доспехи имели некоторое геральдическое значение и что их соответствие исторической реальности было тем более желательным. Такое вмешательство, обычно считающееся несоответствующим духу Средневековья, предполагало иное отношение художника к тому типу конного рыцаря (exemplum), который к 1320 г. уже имел за плечами солидную иконографическую традицию.
Модель гробницы Филиппа Смелого должна считаться культурной и типологической благодаря фигурам плакальщиков: тип стал здесь средством передачи культурного содержания. То же самое касается всех больших погребальных циклов, например, некрополя епископов Майнца. Фигура покойного в богатом облачении стоит на консоли, держа в руках посох и книгу. Над ней раскинут балдахин, а по бокам ее огибают откосы с расположенными друг над другом нишами, в которых размещены статуэтки святых. Лишь архитектурные мотивы и стиль фигур позволяют определить разницу в датах. Этот образец, приписываемый окружению Мадерна Гертнера, продержался более века, вплоть до изображения Бертольда фон Хеннеберга работы Ганса Бакофена. Такая устойчивость интересна не только с точки зрения выработанной в ней типологии надгробного памятника, но и потому, что все изображения выполнены в одной мастерской. В каждой готической мастерской часто сохранялась художественная традиция, гораздо сильнее ощущавшаяся в типологии, чем в стиле: художники придерживались моделей, унаследованных от далеких предшественников. Статуи в капелле св. Екатерины в страсбургском соборе воспроизводят мотивы, заимствованные у пророков западного портала, несмотря на то что их разделяет не менее пятидесяти лет и у них нет ничего общего в стиле. В кёльнском соборе гениальный создатель статуэток в архивольте западного портала вдохновлялся, что хорошо видно в фигурке ангела с колокольчиком, изображениями на сиденьях в хоре. Между ними также прошло несколько поколений. Большая мастерская обладала немалым количеством изображений и, следовательно, могла предложить на выбор значительный запас мотивов.
Детали надгробных памятников зачастую лучше, чем ансамбль в целом, позволяют нам понять, что такое типологическая модель и как она использовалась. Один из самых интересных примеров – это плакальщики[50]50
Мы придерживаемся этого термина (pleurants), зафиксированного старыми текстами, вместо «траурных фигур» (deuillants).
[Закрыть] на могилах Филиппа Смелого и Иоанна Бесстрашного (илл. 26, 27). Прежде всего надо вспомнить, что письменные источники прямо говорят о том, что первый памятник послужил образцом для второго. Но сопоставление одной за другой всех фигур приводит к следующим двум выводам. Первые восемь статуэток второго памятника воспроизводят почти один в один статуэтки первого; потом параллелизм исчезает и повторяется лишь в пяти местах. Вообще нельзя говорить о соответствии между иконографическим типом и стилем внутри каждого комплекса: фигуры диаконов, епископов и каноников в начале процессии обладают характерными для них формальными чертами, но в них невозможно определить типологию. Сравнение двух надгробий позволяет скорее оценить значение стиля в дифференциации модели и ее репродукции. Поскольку в данном случае репродукция, по сравнению с оригиналом, ниже по качеству, разница между ними могла бы легко быть приписана различным рукам, если бы нам не были известны даты изготовления обоих ансамблей. Здесь соприкасаются проблема модели и проблема стиля. Относительно плакальщиков Филиппа Смелого невозможно сказать точно, сколько мастеров над ними работало: два или больше. Слютер, вне всякого сомнения, закончил не более двух фигур, и неизвестно, оставил ли он Клаусу де Верве рисунки, т. е. типологию. Можно просто отметить, что у скорбящих ангелов «Шанмольской голгофы», которую письменные свидетельства позволяют с большой долей уверенности приписать Клаусу де Верве, можно видеть такие же жесты, как у некоторых плакальщиков, но стиль их драпировки с живыми складками скорее напоминает две статуэтки, хранящиеся сейчас в Кливленде.

ИЛЛ. 26. Гробница герцога Филиппа Смелого. Плакальщики. Начало XV в. Дижон. Аббатство Шанмоль. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Dijon_ Philippe_le_Hardi_Tombeau5.jpg?uselang=ru>
Другие статуэтки – гробницы Иоанна Бесстрашного – предлагают не более чем вариации на тему статуэток могилы Филиппа Смелого, свидетельствуя об упрощении пластичности модели: левый бок двух плакальщиков, поддерживающих рукой плащ, трактован теми же складками, что и ниспадающий на пол плащ (илл. 27).

ИЛЛ. 27. Хуан де ла Уэрта. Плакальщик. Гробница герцога Иоанна Бесстрашного. 1443 г. Дижон. Аббатство Шанмоль. <http://commons.wikimedia.org/ wiki/File: Pleurant,_tombeau_de_Jean_sans_Peur,_51.JPG?uselang=ru>
Изучение плакальщиков показывает, что некоторые формальные мотивы могли иметь варианты или объединяться с другими по принципу коллажа. Например, мотив продолговатого треугольника, образуемого складками плаща от лица до пола. В гробнице Филиппа Смелого он появляется в двух статуэтках, в гробнице Иоанна – в четырех. Точнее говоря, мотивом эта форма становится именно в последних, так как в первой она настолько хорошо интегрирована в архитектуру драпировки, что ее невозможно выделить. Только в статуэтках второй гробницы мы можем отдать себе отчет в том, как данная форма может быть сопряжена с другими и в какой степени ощутима при этом потеря ее внутренней связанности. Изолированная от своего первоначального формального контекста, она становится мотивом, приставленным к остальным. В отличие от автора модели скульпторы Иоанна Бесстрашного поняли форму как результат напластования мотивов.
Эта аддитивная концепция произведения подтверждается в больших почитаемых образах, как «Пьета» или «Мария с Младенцем». В диссертации 1933 г. Йоханна Хайнрих предложила для корпуса северофранцузских мадонн 1250–1350 гг. биполярную интерпретацию и классификацию, делившую их на два типа: «классические», восходящие к «Деве Марии» на северном портале собора Парижской Богоматери, и золотые «Марии», тяготеющие к «барокко». Этот вельфлинианский схематизм учитывает, конечно, лишь экспрессивные данные, а не типологическую специфику, которую могло бы подчеркнуть изучение, например, трактовки фигуры Младенца в обоих случаях. Роберт Зукале показал бесперспективность, в силу фрагментарности нашего корпуса, попыток сгруппировать огромную художественную продукцию XIV в. в генеалогию, восходящую к единому прототипу. Группы могут выделяться по таким значительным признакам, как трактовка одежды, но она также должна сопоставляться с Младенцем – его положением по отношению к Матери, с его движениями. «Мадонны», созданные после 1270 г., в отличие от их предшественниц уже не представляют собой иконографические типы, но лишь композиционные (Kompositionstyp). Филиация композиционных принципов показывает, как и в случае с дижонскими плакальщиками, что позднее Средневековье довольствуется комбинациями мотивов, их перераспределением и различными способами артикуляции в фигурах. Величайшие произведения – это, конечно, те, в которых комбинирование проявилось меньше всего, но в обычных предметах мы имеем все возможности его разглядеть. Обратим внимание на статую из Леша (деп. Сена и Марна), и нас поразит разрозненность формы: различные мотивы в ней совершенно не сочетаются. Судя по надписи, это статуя 1370 г. Ясно, что эта дата ничем нам не поможет, если мы захотим, отталкиваясь от нее, восстановить какую-то хронологию. Временная дистанция, отделяющая ее от модели, может быть и короткой, и длинной, потому что все в этом типе противоречит тому, что нам известно об эволюции форм в XIV в. Сознательная ретроспекция, характерная для некоторых произведений этого столетия, также должна учитываться – она была весьма распространена в придворной живописи. Если «Мадонна с Младенцем» из Лувра восходит к первой четверти XIV в., в ней следует видеть реплику статуэтки из Сент-Шапель 1265 г., также хранящейся в Лувре.
Если попытаться выделить формальные мотивы и проследить их бытование на большом временнóм отрезке, можно будет заметить, что некоторые из них возникли в конкретном контексте, но использовались и доводились до совершенства гораздо позже. Сравнение «Мадонны» из Палезо (деп. Эссонна) и «Прекрасной Мадонны» из Торуни показывает, что мотив большой складки, спускающейся до земли, и накрывающей ее большой корытообразной складки во второй статуе, с формальной точки зрения является логическим завершением того же мотива в первой. То же можно сказать о каскаде ткани, падающем на руку, держащую Младенца. «Мадонна» из Нёйе-Пон-Пьер (деп. Эндр и Луара) датируется серединой XIV в. и стоит, следовательно, на полпути между «Мадоннами» из Палезо и Торуни. В ней есть тот же мотив каскада, но плащ с передником придает фигуре характер более компактный и архаизирующий по сравнению со скульптурой из Палезо. «Мадонна» из Нёйе-Пон-Пьер отличается от этой филиации другой важной чертой: ее наклон незначителен, в то время как у «Прекрасной Мадонны» из Палезо он ярко выражен. Механическое обоснование этого наклона следует искать в желании установить равновесие между Богородицей и сидящим у нее на руках Младенцем, который отклоняется от ее груди. Но в том, что касается пластичности, фигуры из Торуни и Палезо схожи в динамической связи между плащом и телом, скорлупой и ядром. Мадонна из собора в Труа, напротив, показывает, что тип Нёйе мог быть подвергнут и более сильному изгибу в сочетании с отклонением тела Младенца, но без усиления пластичности фигуры Мадонны.