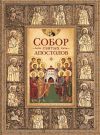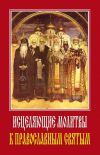Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
И средневековая концепция времени, и ритуал не придавали рассказу особого значения. Новаторство «готики» – в переоценке нарратива, нашедшего себе место рядом с ритуалом или за ним.
Вопрос о реальном присутствии Христа, который мы поднимали в связи с евхаристическим таинством, напрямую связан со скульптурным образом. В отличие от живописи скульптурное тело само по себе есть форма реального присутствия. В этом, как нам кажется, готика коренным образом отличалась от византийского искусства, где преобладал живописный образ. Икона лишь дверь, ведущая к божественному. Статуя – контратип человеческого тела в пространстве, подменяющий собой изображенного.
В «Чудесах св. Веры» клирик Бернард Анжерский признавал возможность делать в качестве святых изображений только распятия, «чтобы направить наше религиозное рвение к Страстям». Святые могут фигурировать на стенах, но Бернард присоединялся к тем, кто считал языческим суеверием изображения святых из драгоценного металла и помещение в них мощей. Вообще-то дозволенными должны были быть лишь распятия, а место святых – в книгах и во фресках. Скульптурные образы он признавал только потому, что народ к ним давно привык и не потерпел бы никакого посягательства на эти фигуры. Бернард Анжерский без обиняков сравнивал изображение святых с языческими идолами.
Однажды он побывал в Конке в день, когда был открыт доступ в культовое пространство статуи-реликвария св. Веры, и толпа, устремившись туда, бросилась ниц перед ней; было так тесно, что Бернарду пришлось остаться стоять. В то же время ему пришлось признать, что эта статуя была не «пустым идолом», а «памятником благочестия», который располагал к настоящему поклонению.
Написанный в XI в., рассказ Бернарда Анжерского очень ценен тем, что повествует о трехмерном изображении святого, когда такие статуи были еще довольно редки. Подчеркнем, что автор возводит к язычеству генеалогию этого христианского «идола», который за счет своей трехмерной формы сильнее возбуждал фанатизм толпы. Причиной силы этого изображения было его правдоподобие.
На протяжении всего Средневековья симулякр всегда упоминался вместе с местом, в котором он находился. Это единство места и предмета отнимало у последнего всякую возможность перемещаться и саму трехмерность: принципом пластики оставалась фронтальность. Даже круглые статуи, стоящие в нишах порталов, немыслимы без тени, выделяющей их на стене, к которой они присоединены. Всякой выступающей форме давалось в сопровождение углубление, подчеркивавшее ее пластичность. Этому закону подчинялась как обработка профиля, так и монументальная скульптура.
Все части церкви трактовались как плоскости, как стены, на которых выделялись пластические формы, более или менее осязаемые в зависимости от того, были они вырезаны или нарисованы. Откос портала, верхний ярус стены нефа и хора – все это плоскости. Каждая круглая статуя в большей мере сочленение плоскостей, чем форма в пространстве. Скульптурные модели передавались именно благодаря сведению их к плоскости, рис у нк у, чис т ом у конт у р у.
Витраж получил такое значительное развитие в XII–XIII вв. не потому, что он отвечал требованиям аллегорезы на тему света, а потому, что соответствовал концепции формы, основанной исключительно на двух измерениях. При разном освещении соотношение фигура/фон смягчалось или даже становилось обратным.
Взгляд бежит по внутреннему пространству церкви или скорее по стенам из камня и стекла и может все охватить: нет ничего «за» видимыми формами. Незримое, на которое они указывают, находится в ином регистре, оно не прячется за видимым. Никто так четко не отразил сложное соотношение видимого и невидимого, как Роджер Бэкон, когда он говорил о том, что таинство евхаристии в области веры обладает той же «доказующей» силой, какой в физике обладает оптика. Эта аналогия не случайна: она указывает на то, что в XIII в. видимый мир был призван засвидетельствовать истинность вещей. Это один уровень истины. Другой был связан с озарением, в котором участвовал внутренний свет, ведущий нас к единственной истине, к которой следует стремиться: Богу.
Предположить, что непроницаемый для взгляда видимый мир открывается по мере того, как взгляд изучает его содержание, означало признать бесконечность духовного поиска. Только двухмерный мир позволял избежать «обманки» (trompe-l’oeil). Фигуры и сцены размещались в нем на одном плане, скрепляя фон и фигуру.
Высшее достижение такой концепции формы представлено в живописи фламандцев. На «Меродском алтаре» Флемальский Мастер изобразил Деву Марию в сложной архитектуре складок и, что очень важно, обвел весь ее силуэт яркой теневой линией. Эта тень свела трехмерную фигуру к плоскости картины или рамы, а лежащие на столе предметы находятся скорее в проекции стола, чем картины.
Новаторство перспективной системы флорентийцев состояло в том, что эта плоскость была у них планом не проекции, а сечения (визуальной пирамиды), дающего нам почувствовать глубину пространства. В оптике XIII в. луч, исходя из глаза, встречался с «чувственным образом» объекта зрения, а во флорентийской перспективе объект видим лишь благодаря теоретическому существованию «точки схода», настоящего двойника человеческого глаза. Точка схода – это второй глаз, расположенный симметрично по отношению к нашему, на максимальном, недостижимом отдалении. Эти два полюса позволяли удостовериться в существовании того, что находилось между ними. Такая система немыслима там, где видимое имеет лишь анагогическое значение, поскольку форма, которую человеческий глаз не охватывает полностью, не может быть эквивалентом невидимой реальности, не терпящей границ. Перспектива с центральной точкой схода, скажем, у Брунеллески с помощью иллюзионизма, трактует мир как фрагмент. Фрагмент, конечно же, полностью подчиненный тому, что художник хотел сделать видимым, в какой-то мере фрагмент счастливой случайности – и все же лишь фрагмент. Двухмерная видимость готического искусства была не фрагментом, а analogon. Она несла в себе и свое начало, и свой конец, она была целым.
В XII–XV вв. возможность изображения мира осмыслялась в рамках Боговоплощения. Облекшись в видимую форму, Бог освятил свидетельство воочию и, следовательно, изобразительные искусства. Но на путь мимесиса средневековое искусство смогло встать лишь благодаря нарративной разработке мистики Страстей.
Все же искусство этих веков располагало визуальной конструкцией, позволявшей иерархически упорядочить моменты истории Спасения. Мало распространенной формой была mappa mundi, доступной всем – церковь. В отличие от «карты мира» храм был двусторонней системой: его внешний вид был опорой этого иерархического порядка, интерьер – его осью. Вся эта архитектурная композиция, организация элементов, при желании разборных, служила идеальной основой для «театра памяти». Но интерьер церкви был еще и перспективной системой, как об этом напоминают некоторые фламандские полотна. Интерьер был единственным элементом, который роднил это искусство с флорентийским. В нем очевидно осознание удаленности и близости, присутствия и отсутствия, поскольку, точно так же как на полу в виде шахматной доски, значимость форм здесь относительна, она зависит от высоты, ширины и степени удаленности. Но в отличие от пространства, изображавшегося на итальянских полотнах после 1425 г., пространство церкви не беспредельно: главный алтарь со стоящим на нем крестом или заалтарным образом являлся его настоящим топографическим и символическим центром, замыкал пространственную систему.
Между XII и XV вв. на севере Европы единственным перспективным пространством оставался храм, но в отличие от иллюзионистского пространства Кватроченто это реальное пространство. Ни одна последующая архитектурная система не подчеркивала столь явно свою ось, по той простой причине, что лежавшая в ее основе религиозность ушла в прошлое на заре XVI столетия. Перспективное пространство собора могло бы исчезнуть после 1430 г., но флорентийская геометрическая перспектива долго не могла укорениться к северу от Альп. Почти целый век двухмерное изображение и «готическая» концепция архитектурного пространства сосуществовали.
На самом деле осевой план восходит к античной архитектуре, он был воспринят в раннехристианскую эпоху: Шартр, Реймс и Амьен его в какой-то степени сублимировали. Парадоксальным образом в Клюни и в Бурже, которые воспроизводят величие римских базилик, эффект перспективы ослабился. Причина проста: оба храма искали распространения вширь: отсюда пять нефов вместо трех. Это наименее «классические» из наших памятников. В Бурже придумали переплетенную структуру из соединенных друг с другом элементов с одинаковым сечением, но с разными размерами и функциями. Никогда еще архитектура не уделяла такого значения зрению даже в самых незначительных деталях.
Чтобы появилась нужда в таких визуальных эффектах, они должны были стать объектом рассмотрения, суждений, сравнений, оценок, имитаций. Ошибка, которая часто допускается исследователями, состоит в том, что, по их мнению, эти эффекты якобы были рассчитаны на всех верующих, приходивших в храм. Чтобы попытаться навести какой-то порядок в вопросе о «публике», мы обратимся к одному касающемуся амьенского собора тексту, который история искусства оставила без внимания. Однако это текст первостепенного значения: самая длинная проповедь на романском языке, которая дошла до нас от XIII столетия, в ней проповедник (без сомнения, доминиканец) старается убедить паству покупать индульгенции[58]58
Текст не датирован, но в нем говорится о двадцати шести аббатствах амьенского диоцеза, следовательно, он не мог возникнуть ранее 1276 г. (Zink M. La prédication en langue romane avant 1300. P.: Champion, 1976. P. 206 ss.). Хотя строительство собора к этому моменту было в целом завершено, отделочные работы, в частности установка витражей, еще продолжались. Поэтому поиск свидетельств, возникших чуть позднее 1276 г., вполне оправдан. Стивен Мерри, который, кажется, не знаком с работой Мишеля Зенка, старается найти соответствие между содержанием проповеди и иконографической программой собора, исходя из гипотезы, что проповедь вполне могла читаться внутри храма (Murray S. Notre-Dame Cathedral of Amiens. Te Power of Change in Gothic. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 116 f.).
[Закрыть].
Эта проповедь была произнесена однажды утром перед немногочисленными собравшимися не в соборе, а лишь для сбора средств на его строительство, в одной из церквей диоцеза. Она построена с совершенным риторическим искусством, рассчитанным на убедительность для публики. Поскольку «милая Магдалина давала милостыню по Богу, а не по миру сему, и она, знайте это, получила за то воздаяние в вышнем рае», проповедник призывает к тому же и своих слушателей: «Знайте, что всем своим благодетелям церковь Пресвятой Богоматери в Амьене дает 140 дней отпущения грехов для облегчения покаяния, которое вы должны нести из страха огня чистилища;…в течение 140 дней вы будете ближе к раю, чем были вчера». В частности, от греха скверноприбытчества будут освобождены те, кто отдаст все неправедно нажитое имущество или его часть не его прежнему обладателю, а «Пресвятой Богоматери Марии Амьенской, вашей матери церкви».
Текст состоит из четырех разделов. Можно предположить, что в зависимости от публики и длительности проповеди автор мог сократить ту или иную часть, не упуская из вида тему индульгенций в пользу амьенского собора.
Историка искусства прежде всего поражает то, что эта проповедь, необычно длинная и свидетельствующая об умении проповедника обращаться к крестьянам, даже не намекает на идущие в Амьене строительные работы и на красоту украшающих церковь произведений искусства. Чтобы получить деньги для завершения здания – одного из самых значительных соборов Франции, – монах говорит не об объекте, а о пастве. Это все равно что купец – и сравнение это вовсе не тривиально – начал бы убеждать своего клиента, рассказывая ему не о самом товаре, а о том, зачем его покупать и какие выгоды он мог бы извлечь из покупки.
Конечно, жиденькая группка, собравшаяся послушать доминиканца, – это свидетельство того экономического кризиса, который переживали все великие стройки Северной Франции после 1276 г. Крушение собора в Бове – еще одно тому свидетельство: не только финансовые, но и технические проблемы оказались непреодолимыми. Но рассмотренный здесь казус церкви в амьенском диоцезе, где собралось несколько верующих и проповедник, вроде бы противоречит нашему тезису об искусстве, которое было рассчитано на зрение. Дело в том, что искусство предназначалось другой публике: не верующим, которым до него дела не было, а группе людей, объединенных общим эстетическим чувством. Было бы ошибкой считать, что это лишь заказчики. Туда входили прелаты, художники и некоторые интеллектуалы, группа критиков, готовых дискутировать и спорить, но и распространять информацию. Эта элита, наподобие рафинированных ценителей лирики трубадуров, обладала системой референций, необходимой для понимания всякого нового художественного начинания: в Сен-Дени, в Сансе, в парижском соборе, в Бурже и в Уэллсе мы уже предчувствуем появление этих кружков. В этом контексте в 70–80-х годах XII в. утверждается роль архитектора по отношению к заказу.
Существование таких групп мыслителей не зафиксировано текстами: аббат Сугерий, Генрих из Блуа, епископ винчестерский, собиравший антики, Матвей Парижский могли участвовать в них, судя по тому, что нам о них известно. Архитекторы XII в., ювелиры вроде Годфруа де Юи образовывали другие группы. Во всяком случае их существование молчаливо засвидетельствовано самим развитием архитектуры и изобразительных искусств. Явные заимствования некоторых форм, подчеркнутое примыкание к той или иной традиции, ссылка на Античность или вообще на древность – все это гарантировало верность традиции, все это было частью художественного языка.
Согласно определению св. Бонавентуры, ни архитектор, ни художник ничего не создавали, не согласуясь с традицией: будь он компилятором, комментатором или автором, каждый раз он должен был определить свое место в связи с auctoritas. И это должно было быть хорошо видно. Виллар де Онкур простой компилятор; Готье де Варенфруа, по крайней мере в Эвре, настоящий комментатор, предоставивший свое творение для сохранения того, что уже было сделано до него. Но несомненно, что ни один готический мастер не был тем, кого мы сейчас назовем «творцом». Величайшие из них – Мастер Сен-Дени 1230 г., Мастер витража св. Евстафия в Шартре, скульптор апостолов в парижской Сент-Шапель – должны быть названы «интерпретаторами» традиции, их гений выразился в этой интерпретации.
Клир постоянно старался сдержать проявления ереси и идолопоклонства, представляя взорам верующих все более богатую иконографию, включая в нее и реликвии, и тонкую игру покрывал; точно так же и художники выполняли заказы, трактуя саму художественную форму как означаемое, независимо от содержания. Этот уровень значения был рассчитан и на чувства illitterati, хотя аллюзии и перекрестные отсылки, задуманные художниками, оставались доступными лишь «ценителям», кругу, лишь отчасти совпадавшему с litterati.
Избыток произведений искусства всегда вызывал подозрение у клира: именно поэтому аббат Сугерий постоянно говорит о себе, чтобы показать, что его затраты необходимы на пути ко Спасению. Художник сам не смог бы вынести ответственность за такое дорогостоящее предприятие перед лицом такого критика, как, например, Бернард Клервоский. Искусство осуждается, если оно становится самоцелью.
В узком, – но настолько важном, – кругу, для которого создавались произведения искусства, зарождалась новая форма восприятия. Усиление визуального эффекта влекло за собой усиление внимательности и остроты зрения, которое следовало постоянно упражнять. Взгляд учился различать тот уровень формального значения, который мы описали. Прежде чем обратиться к изучению видимого мира, этот взгляд все более старательно рассматривал изображение этого мира. В этом он оттачивался. Взгляд, порожденный искусством и направленный на него же, стимулировал преумножение различных эффектов в самом произведении искусства. Без него разработка такой системы, как иллюзионистическое трехмерное изображение мира, была бы немыслимой.
Приложение. Предмет истории искусства[59]59
Лекция, прочитанная профессором Роланом Рехтом в четверг, 14 марта 2002 г. в связи со вступлением в должность заведующего кафедрой истории средневекового и современного искусства Европы в Коллеж де Франс.
[Закрыть]
Господин администратор, дорогие коллеги!
Создание кафедры, предназначенной для меня, свидетельствует о стремлении обеспечить преемственность в преподавании истории искусства. В этом решении, наверное, не только знак внимания к одной из главных составляющих человеческой деятельности, художественному творчеству, но и свойственная вашей коллегии убежденность в том, что изучение визуальных искусств требует тех же высоких требований и того же свободного исследования, как и любом другом виде знаний, в равной мере характерных для Коллеж де Франс.
Выражая вам благодарность – именно с нее хотелось бы начать эту лекцию, – я говорю от имени всей нашей дисциплины. Вместе со мной вы принимаете в свои ряды целое научное сообщество, в тот самый момент, когда оно, после многолетних усилий, предпринимавшихся начиная с 1983 г. одним из моих выдающихся предшественников, Андре Шастелем, получило государственное признание в виде создания Национального института истории искусства – в тот момент, когда, пусть не в должной мере, но конкретнее, чем когда-либо до сих пор, для истории искусства нашлось место и в школе.
В Коллеж де Франс история искусства более или менее систематически изучается начиная с 1878 г. Кафедра эстетики и истории искусства была создана для Шарля Блана в знак признания его деятельности по созданию модели полноценного художественного воспитания гражданина. Ему наследовал Анри Гийом, скульптор и историк, что свидетельствует о неопределенности в восприятии дисциплины, еще не имевшей тогда, по крайней мере во Франции, строго определенного статуса. История искусства стремилась установить свое исследовательское поле и свои методы по отношению, с одной стороны, к эстетике, пропитанной гегельянством, с другой – к археологии. Но с тех пор она закрепилась здесь навсегда. Добавлю к вышеперечисленным именам Жоржа Лафенестра, Андре Мишеля, Габриэля Милле, Поля Леона, Анри Фосийона, Рене Юига, Андре Шастеля: все они прославили нашу науку с совершенно различных методических позиций. В 1998 г. Жак Тюийе после двадцати лет преподавания покинул Коллеж де Франс, но его роль в продвижении здесь истории искусства оказалась настолько значительной, что вы решили сохранить эту кафедру, последовав инициативе Марка Фюмароли, который и сам отдает ей изрядную долю своего известного всем дарования. По предложению Пьера Тубера и Мишеля Зенка вы высказались за создание кафедры под названием «История европейского искусства в Средние века и Новое время». Тем самым вы не только проявили интерес ко времени большой длительности – ведь по определению историков этот период подводит нас к кануну Французской революции, – но и выразили желание преодолеть национальные границы в рамках этой длительной истории. Если бы ваше собрание сочло меня всеведущим, меня бы это сильно встревожило. Тем более, что сегодня я постараюсь продемонстрировать вам, какого смирения на самом деле требует моя профессия. Но речь не об этом. Если я правильно вас понял, ваше решение не плод простой веры в мою способность объять необъятное, способность, которой я не обладаю, за ним, скорее, стоит желание, чтобы я связал воедино и углубил интерпретацию явлений, приведших меня из XX столетия к XIX, из Франции в Центральную Европу, от археологии памятников к историографии искусства, от университетского преподавания к руководству большим музейным комплексом.
В благодарность за оказанную мне честь быть среди вас я хотел бы прямо во вступительной лекции применить на практике прекрасное предписание Мерло-Понти, выгравированное золотыми буквами на этом здании: не усвоенные истины, а свободное исследование. И позволю себе говорить не об учебной программе, но об идеях, лежащих в ее основе. Отсюда и название лекции: «Предмет истории искусства».
Будучи убежденным в том, что мы должны регулярно возвращаться к вопросам, возникавшим перед нашей наукой в прошлом, даже в период ее наибольшей неопределенности, я хотел бы сначала постараться выделить ее основополагающие стадии, а затем место, которое она занимает в рамках крупных систем мышления. Во второй части я остановлюсь на понятии стиля, изучение которого традиционно считается основной задачей нашей дисциплины, в частности на стиле готическом. В конце я предложу теоретическую базу, на которой мне хотелось бы построить мое преподавание в Коллеж де Франс.
Дамы и господа, дорогие друзья!
Подозреваю, что название моей вступительной лекции, «Предмет истории искусства», может шокировать тех из вас – а сегодня вечером таких много, – кто исследует или преподает эту общепризнанную, хотя иногда оспариваемую, науку: историю искусства. Разве само слово «искусство», стоящее здесь в родительном падеже, не указывает этому историческому жанру исследования на его предмет, т. е. на «искусство» во всех его визуальных проявлениях? Разве нужно искать какой-то еще предмет? Скажем иначе: мы исследуем историю или искусство?
Этот вопрос занимает центральное место уже в сочинении, которое принято считать первым трудом по истории искусства. Книга «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари приводится со времен ее первой публикации в 1550 г., чтобы доказать – или, наоборот, оспорить – основательность и историографическую легитимность биографии художника. Здесь на фоне индивидуальных биографий легко прочитывается точный контур «идеального стиля», абсолютной модели. Перед нами основа нормативной истории искусства, построенной исходя из единого художественного канона – классицизма. Границы ее компетенций исключили все формы отклонений от нормы, в первую очередь готику.
Однако эта модель сформировалась в историческом контексте, благоприятном для прославления и возвеличивания города: флорентийский историк Филиппо Виллани, видимо, первым выделил художникам место среди uomini famosi[60]60
Знаменитых мужей (итал.). – Примеч. пер.
[Закрыть] родного города, и это произошло в самом начале XV в. В той же Флоренции были сделаны и другие открытия: критика искусства у Пьетро Аретино и посвященная основным памятникам топография каноника Сан-Лоренцо Франческо Альбертини. Таким образом, биография мастера и монументальная топография позволяют, каждая по-своему, постичь локальное своеобразие. Биографический жанр предполагает убеждение в том, что историю искусства творят выдающиеся личности. В таком диахронном взгляде каждому произведению предназначено определенное место в творчестве художника, более или менее почетное, в большей или меньшей степени характеризующее его специфику. Так намечается «идеальный стиль», утверждающий флорентийскую модель. В синхронистических рамках картины памятников одного города, написанной в один конкретный момент, отдельные произведения становятся свидетелями истории, некой общей истории, а отдельно взятый художник является лишь ее составной частью и может полностью раствориться в ней при анализе множества произведений. Однако самую свежую мысль, по сей день оправдывающую существование науки, изучающей произведения искусства, следует искать у Леона Баттисты Альберти: в «Десяти книгах о зодчестве» он видит основу развития искусства не в фигуре творца, а в самом его произведении.
Возвращаясь к Вазари и его эпохе, мы найдем не одно, а несколько оснований нашей дисциплины, указывающих на ее будущие разветвления, но и некоторым образом закладывающих перспективу, в свете которой искусство можно интерпретировать именно исторически. Разве не заслуживают удивления усилия, объединенные в одном и том же городе, чтобы обеспечить место искусству не только в повседневной жизни, но и в памяти его жителей? Возникает отчетливое ощущение, что история искусства с самого начала поставлена на службу коллективной памяти, призвана укрепить коммуникацию общества, основанного на политических и исторических связях.
В Северной Европе, возможно, в силу отсутствия явной преемственности между миром древних – классическим миром – и Новым временем очень рано наметился конфликт эпистемологического характера между антикварием, занимающимся вещами, и историком. Статус материальных следов прошлого, по-видимому, меняется между концом XVII и концом XIX в., когда они превращаются из неязыковых документов, историческую ценность которых необходимо установить, в памятники, на службу которым становится историческое понимание.
Такой сдвиг произошел сначала в связи с приданием ценности национальным древностям и принятием историками методов антикварной эрудиции. Затем деятельность антиквария, как и коллекционера, составляющего кабинет редкостей, была направлена на достижение той же цели: собирание предметов с целью производства знания, которое никогда не будет закрытым и будет распространяться как на artifciosa[61]61
Искусственные вещи (лат.). – Примеч. пер.
[Закрыть], так и на naturalia[62]62
Естественные вещи (лат.). – Примеч. пер.
[Закрыть]. Подобно тому как кабинет редкостей есть уменьшенная модель мира, самый незначительный археологический фрагмент может вмещать в себя целый пласт информации. Коллекционер и антикварий не истолковывают мир, они его просто описывают.
Именно поэтому на обоих рано ополчились историки-философы, вознамерившиеся превзойти их историописание, создав историю цивилизаций. Именно в рамках такой истории искусство найдет свое место, покинув кабинет антиквария, освободившись и от аналогий с естественными науками, и от подчинения описательной истории.
Зияющие прорехи в тексте Вазари, оставляющие в тени целые века художественного творчества, а именно Средневековье, были фундаментальным препятствием для складывания систематической истории искусства. Хотя эти столетия не могли стать объектом последовательного исторического объяснения за неимением знаний и, скажем так, в силу отсутствия насущных эстетических задач, попытки найти в художественных произведениях следы человеческой истории все же делались – не ради их художественной ценности, но в поисках исторических источников. В аббатстве Сен-Жермен-де-Пре мавристы разрабатывали методику критики подлинности текстов, что привело к появлению «О дипломатике» Жана Мабильона (1681). Уже под влиянием таких итальянских ученых, как Джованни Чампини, Мабильон понял значимость иконографии произведений искусства, но именно мавристы первыми применили к их анализу строгие методы дипломатики и палеографии. Важно отметить, что Мабильон или Монфокон отбирали средневековые произведения для изучения не за их красоту, и все же в их работе, наконец, нашлось место для тех памятников, которые доминирующая эстетическая норма и вазариевская историография отвергали вовсе.
Опираясь на эту методологическую традицию, некоторые антикварии попытались углубить материальное и историческое знание следов прошлого. Таков граф де Кейлюс. Он прежде всего стремился подтвердить подлинность предметов, попадавших ему в руки. Бесчисленное количество продуктов человеческой деятельности он подвергал внимательному изучению и эксперименту. Тщательный анализ, проверка на подлинность, методическое описание, сравнение – таковы последовательные действия в рамках его подхода к единичному объекту, вдохновленного примером естествознания.
Попытка Кейлюса осталась изолированной по причине враждебности, которую она встретила в лице противников: их звали Дидро и Винкельман. Дело в том, что в середине XVIII в. одновременно происходит рождение новой философской дисциплины – эстетики – и искусствоведческой критики, связанной с салонами и с историей искусства в современном понимании. Изу чение этой эпохи позволяет также выявить существование двух кланов, уверенно отстаивавших свои решительно несовместимые позиции: с одной стороны – граф де Кейлюс и его друзья, для них антикварий – это физик, внимательный к мельчайшему фрагменту, который мог бы постепенно заполнить обширные лакуны, существующие в истории памятников. С другой – клан философов, сформированный Дидро, Мармонтелем и Гриммом, стремящийся, как мы сказали бы сегодня, к глобальной истории, готовый даже произвольно вычеркнуть неизведанные земли, лишь бы поставить историю прошлого на службу настоящему. Отсутствию видения истории искусства у Кейлюса мы правомерно можем противопоставить не только критику искусства Дидро, но и историю искусства Винкельмана, основанную на системе, благодаря которой он, словами Катремера-де-Кенси, «сумел придать цельность тому, что было лишь нагромождением обломков». Винкельман, в свою очередь, разделял с философами видение искусства как поиска свободы и концепцию истории как упорядоченного и порожденного этим поиском рассказа. Обратим внимание на эту общность взглядов у историка искусства и писателей-философов в противовес антиквариям-археологам. Перед нами конфликт между двумя концепциями истории искусства, одна из которых исключала другую.
Будучи предметом, произведение не сводимо к предметности. Оно – произведение искусства. Будучи предметом познания, оно одновременно судится исходя из вкуса. Оно одинаково принадлежит миру артефактов и миру искусства. Придя из отдаленного прошлого, произведение искусства предстает перед нашим взглядом как сгусток материи, отнятый у другого времени. Прикасаясь к нему, мы прикасаемся к прошлому. Но каков его статус, когда он предстает перед нами? По какому вердикту он стал произведением искусства, которому можно задавать все те вопросы, что мы придумали в поисках всепоглощающего знания? Бауле из Кот-Дивуара, создавшие несколько лучших образцов африканской скульптуры, не придумали слова для искусства. Верующие какой-нибудь церкви XV в. наверняка не воспринимали реликварии или статуи на алтарях как произведения искусства, но как предметы религиозного почитания. Предметы, создававшиеся в самых разных обстоятельствах, радуют, очаровывают нас. Но как только они подвергаются критическому анализу и исследованию историка, целый комплекс признаков помогает превратить их в объект познания. Став произведениями искусства, предметы, если можно так выразиться, уже не могут вернуться вспять. Они оказываются в сложном сплетении не подвластных им значений. Как раз это переплетение и указывает на их бесценное значение. В рамках истории искусства единичное произведение становится предметом рассуждения и обретает тем самым уже не только вещественное, но и интеллектуальное существование.
Поиск пути к этой области исторического знания занимает центральное место в философии Гегеля. Он провозглашает Vergangenheitscharakter искусства, иными словами, его принадлежность прошлому, а значит, история искусства может этим прошлым овладеть. Во введении к «Лекциям по эстетике» мы находим первую попытку определить исследовательское поле, принадлежащее истории искусства. Известно, что история для Гегеля – прогресс, и «непрерывная история искусства показывает нам картину прогрессивной эволюции человеческого духа». Вслед за рассуждением о прекрасном Гегель различает и другой путь, ведущий того, кто стремится к приобретению эрудитского знания в научном подходе к искусству, который отталкивается от эмпирического. Таким образом, он порывает с противопоставлением эрудиции антиквария историческому жанру, унаследованному искусством. В то время как теории об искусстве и связанные с ними абстракции следует считать устаревшими, Гегель утверждает, что «лишь накопление знаний в истории искусства сохраняет свою ценность, и мы должны тем более этому радоваться, что сфера ее интересов расширилась во всех направлениях благодаря уже отмеченным достижениям в духовной восприимчивости. Ее задача и ее призвание состоят в оценке эстетических качеств отдельных произведений искусства и в выявлении исторических обстоятельств… Только она может открыть доступ к индивидуальному характеру произведения».