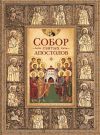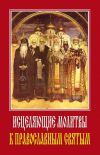Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Робер Кампен создал большую алтарную программу, относящуюся к пасхальным паралитургическим действам. Это «Триптих графа Сейлерна» в Лондоне, который эрудиты единодушно датируют 1410–1415 гг. (илл. 24): в центральной части представлено Положение во гроб, слева – молящийся донатор у подножия опустевшего креста, справа – Воскресение Христа. Благочестивый донатор лицезреет Положение во гроб, и связь между двумя сценами выражена фигурой ангела с копьем в левой части центрального панно, стоящей за спиной Иосифа Аримафейского: взглядом, полным скорби, он смотрит на донатора, поднося руку к губам. Еще одна фигура в центральной сцене играет схожую роль. Это одна из трех Марий, изображенная со спины: склонившись перед гробом, она держит саван. Этой фигуре, лица которой мы не видим, Кампен придал наибольшую физическую весомость в композиции. Если согласно предполагаемой последовательности осмотра двигаться взглядом от левой створки через центральную к правой, то можно заметить, что центральная сцена с ее монументальными фигурами задумана как наиболее близко стоящая к верующему, в то время как пустой крест и Воскресение имеют второстепенное значение.

ИЛЛ. 24. Робер Кампен. Триптих Сейлерна. Лондон. Галереи Института Курто. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Triptych-with-the-entombment-of-christ-1822.jpg?uselang=ru>
Стиль Робера Кампена сформировался под влиянием скульптуры. Это уже не раз повторялось. Однако в сейлернском триптихе столь свойственная ему пластичность нашла еще одно подкрепление. В начале XV в. для пасхальных обрядов – Adoratio, Depositio и Elevatio Crucis – больше подходили трехмерные распятия. Положение во гроб, созданное Слютером для обители Шанмоль, известное по упоминанию 1408 г., должно было стать прототипом для всей длинной генеалогии этих монументальных сцен, известных в Бургундии и в регионах, находившихся под ее влиянием. Кампен, несомненно, знал и слютеровскую группу, и мозельские кресты-реликварии XII в., из которых он заимствовал раму с четырьмя круглыми арками. Золотой фон всех трех створок его заалтарного образа подкрепляет гипотезу об ориентации на ювелирные произведения с рельефами.
Когда Рогир ван дер Вейден создавал ту же композицию по заказу лувенских арбалетчиков, он также недвусмысленно намекал на пластическую традицию Depositio. В отличие от Кампена он поместил сцену не на золотой фон, но в совершенно неожиданный реальный «декор»: его «Снятие с креста» (илл. 25) изображено в trompe l’oeil внутри неглубокого корпуса, аркатуры которого также прорисованы. Рогир показывает нам не само событие, но то, как это событие изображено, создавая иллюзию третьего измерения. Тем самым он утверждает превосходство живописи над скульптурой как искусства иллюзии: ему хотелось подчеркнуть, что живопись лучше, чем ее соперница скульптура, способна отобразить сцену, столь важную в паралитургических действах конца Средневековья.

ИЛЛ. 25. Рогир ван дер Вейден. Снятие с креста. Мадрид. Музей Прадо. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Weyden_Deposition. jpg?uselang=ru>
Вернемся к гризайли. Применив ее на внешних створках «Алтаря мистического Агнца» в Генте, братья Ван Эйки ввели новый уровень реальности. Их фигуры святых уже не миметические изображения исторических персонажей, а почти что статуи. Пространство, которое они занимают в иллюзионистических нишах, репродуцирует в заалтарном образе помещение храма, снаружи украшенное скульптурной программой. Образ стал своего рода отражением церкви.
С конца XV в. в землях Империи получают распространение скульптурные заалтарные образы, в которых одноцветность подчеркивала обнаженные части тела, зрачки, иногда края одежд. Эта техника роднит их с изображениями, выполненными в полугризайли, которая использовалась не ради экономии, но, возможно, потому, что отвечала желанию реформировать систему культовых изображений: полихромия воспринималась негативно как выражение вкуса к роскоши и дороговизне. Фигуры и сцены, сохранившие естественный едва тронутый краской цвет дерева, тяготели к дематериализации и обретению того духовного значения, которое они потеряли в течение XV столетия. Реформация, естественно, способствовала развитию этого нового типа изображений.
Драпировка фигуры не зависела напрямую от ее выразительности. Это важный стилистический признак, который, на наш взгляд, слишком часто рассматривался вне связи с другими факторами. Он настолько идентифицировался со стилем вообще, что при этом забывалось о том, как драпировка воспроизводила ту или иную ткань: тонкий хлопок или шелк образуют не такие складки, как более тяжелый и толстый лен. Скульптор был многим обязан изменениям в ткачестве.
Разбросанные беспорядочно складки одежды, настолько широкой, что тело кажется запутанным в них, – это вовсе не историческая реальность. Начиная с момента своего появления в нидерландской живописи в 20-х годах XV в. и в скульптуре на два десятилетия позже, этот прием стал эстетическим выражением желания художника придаться особой игре с формой, наиболее яркое выражение которой мы находим у Дюрера.
Трактовка одежды была тем более важна, что скульптура старалась стереть тело или, во всяком случае, никак не подчеркивать его ценность. В отличие от ренессансной готическая статуя не подчинялась в своих общих принципах архитектуре человеческого тела. Только выставление бедра было унаследовано от античного контрапоста и определило основные линии драпировки. Готическая драпировка – не миметическая система; ее форма самодостаточна, создает собственную логику и концентрирует формальные особенности, характерные для конкретного мастера. Легко можно убедиться, что в больших программах фасадов Реймса, Амьена и трансепта Шартра ритмическое равновесие статуй зиждется на игре складок. Свойства ткани здесь почти не учитываются. Создается ощущение, что реальная одежда, которую носили мужчины и женщины, становилась все более гибкой, давая им большую свободу движения, а фигуративные искусства все больше старались придать светской одежде структурированные и независимые от тела формы.
Драпировка – не только яркое выражение ритмики портала. Ее следует сопоставить с архитектурой, в частности с профилем резьбы. Углубленные части складок оптически более или менее явно выделяли выступающие складки, в результате чего возникала система, аналогичная торусам и шейкам. Такая аналогия никогда не проводилась, и из нее, конечно, не надо выстраивать какую-либо систему; но можно сказать, что складки – это фактически абстрактная версия архитектурного профиля, поскольку они тоже служили для обработки выступающей формы – складки, аналогичной валику, – огибая ее с двух сторон подчеркнутой тенью. Не следует забывать также о том, что и цвет усиливал эффект глубины складок, направленных внутрь, или с помощью иных средств рельефность выступающих частей ткани. То же самое было характерно для колонок на фоне их опор.
Эти аналогии не должны заходить слишком далеко. Очень тонкая плиссировка платьев на многих статуях начала XIII в. не имеет эквивалента в профиле, несмотря на то что срез миндалевидного профиля, который в то же время зафиксирован в архитектуре, также был весьма изящен по рисунку, что сближало его со складками «стиля 1200 г.». Складки одежд расправились и стали автономной, независимой от тела формальной системой к 40-м годам XIII в. Наиболее красноречивым примером тому снова могут служить апостолы парижской Сент-Шапель. Выступающие складки сочетаются здесь с профилем настоящего вертикального торуса, похожего на трубу органа. Возросшая пластичность драпировки в будущем получила такое архитектоническое развитие, которое, начиная с Клауса Слютера, стало одной из основных характеристик финальной фазы североевропейской готики. И снова нужно учитывать различные формулировки внутри одной системы, подтверждающие, что эта система построена на «способах выражения» (genera dicendi). Как ни странно, доказательством тому служат художники Хуберт и Ян Ван Эйки с их уже упоминавшимся полиптихом для церкви Св. Бавона в Генте (закончен в 1432 г.). Складки одежды реальных исторических персонажей – донатора Йоса Вейта и его жены Элизабет Барлют – тяжеловесны и широки; они трактованы достаточно реалистично: угловатые складки сконцентрированы внизу, где одежда расстилается по полу. А статуи двух святых Иоаннов, написанные в tromple l’oeil, будто из камня, одеты в скорлупу из складок, похожих на органные трубы, полностью, сверху донизу, скрывшие человеческие фигуры. На них уже не действует закон тяготения, которому подчинены одежды мирян. Эти святые стоят у истоков своего рода «серьезного стиля» (stilus gravis), антинатуралистичного по своей природе, в котором художник отдавался чистой спекуляции над формами. Вскоре после того как ванэйковский образ был установлен в гентской церкви, Альберти опубликовал трактат «О живописи» (De pictura), в котором есть интересный пассаж о «складках одежд», включенный во вторую книгу, где рассказывается о «движении живых существ»: «Поскольку мы хотим придать тканям некое движение, а они, будучи по природе тяжелыми, не хотят гнуться, свисая вниз к земле, нужно изобразить в одном углу картины Зефира и Австра, дующих среди облаков и тем направляющих все ткани в противоположную сторону. Так мы добьемся грациозного эффекта: тело, тронутое ветром, с одного боку обнажится под разбросанными им складками одежды. С другого боку мы увидим, как прекрасно развевается в воздухе материя. Но следует проследить за тем, чтобы движения не были направлены против ветра, чтобы они не были ни слишком сбивчивыми, ни слишком напряженными».
Альберти описывает драпировку как живой аксессуар (если воспользоваться выражением Варбурга), который, позволяя телу демонстрировать себя, вводит в изображение движение. Тяжелые ткани фламандцев не подчинены никакой внешней силе, они формируют неподвижную архитектуру, ритмизованную сложной игрой декорации. В их трактовке есть что-то от кубизма, не только потому, что эти прямые и угловатые линии напрашиваются на сравнение с сеткой пересекающихся линий на картине Брака или Пикассо, но еще и потому, что царящее здесь представление о пространстве противоположно тому, которое мы найдем в определениях Альберти. У фламандцев драпировка призвана свести объем ткани к единому плану. Изобильная материя будто растекается по поверхности картины и подчиняется чистой игре форм, которая одновременно свидетельствует о stilus gravis, подобающем для фигуры святого, и о высшей точке развития самого благородного искусства, рассчитанного на оценку «знатоков».
Схожие формальные решения можно видеть и в «Мадонне каноника Ван дер Пале» (Брюгге) или в «сидящих мадоннах» вроде «Мадонны канцлера Ролена» (Лувр): плащ написан как отдельный предмет, отвечающий особой орнаментальной логике. В том же «стиле» выполнены «Мадонны» Флемальского Мастера (в Лондоне и Мадриде) и франкфуртская «Вероника». Сильно контрастирующие детали драпировки позволили свести к единому плану всю переднюю поверхность плаща, сделав из ломаных складок орнаментальную сетку. Дюрер довел этот принцип абстракции до полной дематериализации: он представлялся ему настолько самодостаточным, лишенным какого бы то ни было отношения к телу, что он стал использовать его уже не в платьях или плащах, а в подушках.
Шесть таких подушек можно видеть на лицевой стороне листа, хранящегося в Нью-Йорке, на оборотной стороне которого изображены сам художник, его увеличенная кисть руки, будто держащая в сведенных большом, среднем и указательном пальцах свинцовый грифель, и подушка. Сочетание автопортрета в виде рисовальщика с этими предметами подкрепляет гипотезу, что ломаные складки навязаны традицией. Когда знаешь, каким успехом ломаные ткани пользовались в искусстве с начала XV в., насколько велико их значение в «серьезном стиле», возникает искушение видеть в этюде Дюрера, в этой его физиогномике складок, настоящую насмешку.
Двойственность в отношениях между изображением костюма и пластической формой, такой, какой ее хотел отразить художник, показана Дюрером с поразительной ясностью. В одном рисунке, приобретенном в позапрошлом веке Пассаваном, Дюрер изобразил двух прогуливающихся дам – жительницу Нюрнберга и венецианку. Первая, пониже ростом, выступает вперед, бросая на соседку восторженный взгляд. Венецианка, напротив, не обращает на нее никакого внимания. Обе одеты роскошно, но платье венецианки, затянутое под грудью ремнем, длинными прямыми складками ниспадает до самого пола, в то время как ее спутница поддерживает полу своего наряда левой рукой. Этим жестом, распространенным в статуях святых XV в., она показывает на уровне бедер на треугольный карман, обозначающий границу ломаных складок. Как уже отмечал Панофский, Дюрер не просто противопоставил два различных общества, но и два типа женщин. Фигура жительницы Нюрнберга позволила ему выделить физиогномические черты позднего готического «стиля». Обе кокетливые мещанки похожи друг на друга, но трактованы стилистически по-разному. «Смиренный стиль» (stilus humilis) немки еще более принижен в присутствии современницы-венецианки. Родословная этой жительницы Нюрнберга восходит к Северной Франции первой половины XIII столетия.
VI. Модели, традиция форм и типов, методы работы
В XII в. интерес к природе проявлялся только в антикизирующем искусстве. Крестильная купель из Льежа работы гениального мозельского ювелира Ренье де Юи свидетельствует о таком внимании к анатомии человеческого тела, которое могло исходить только из знакомства с античной бронзой. Но одного этого знакомства недостаточно, чтобы объяснить ту легкость, с которой фигуры движутся в пространстве: Ренье, несомненно, умел наблюдать человеческое тело. Его произведение датируется 1117 г., т. е. фактически тем же периодом, что и фигуры усопших на отенском тимпане.
В творчестве Николая Верденского, сформировавшегося в том же кругу, схожее восприятие естественных форм в меньшей степени связано с Античностью. Художники, работавшие в Южной Италии для императора Фридриха II Гогенштауфена, напротив, больше ориентировались на классику. Их произведения стилизованы по принципам поздней Античности. В бюсте из берлинского музея усы и борода стилистически напоминают романскую пластику. Он датируется приблизительно 1240 г. и близок к статуям, заказанным Фридрихом II для монументальных ворот в Капуе, прямых предшественников которых следует искать в эпохе Антонинов. Несмотря на применение буравчика для обработки некоторых частей головы, волосы трактованы ювелирно. Геометризация оставалась характерной чертой этого искусства, даже в знаменитом антикизирующем бюсте из Барлетты, возможно, изображавшем самого императора. Первые известные нам портреты XIII в. выполнены в скульптуре, и нужно ждать середины XIV в., чтобы увидеть их в живописи. Причина проста: скульптура представляет собой контратип биологического тела, и считалось, что именно она может передать черты, жесты и осанку.
Но искусство скульптурного портрета обладало совершенно неожиданными для нас характеристиками: физиогномическое сходство не было конечной целью скульпторов, даже когда они изготавливали портрет. Формы распространялись, фиксировались, конечно, подвергаясь незначительным изменениям; всякий мастер не просто старался включиться в фигуративную традицию, но и должен был подчинить свою концепцию формы особым навязанным этой традицией способам работы. Если филиация форм хорошо известна, то механизмы этой филиации до сих пор остаются загадочными. Только внимательное изучение каждого памятника, его фактуры и одновременно общего облика, может предложить эскиз ответа.
Новая модель: королевский портретВ длинной истории зарождения королевского портрета решающую роль, судя по последним исследованиям, сыграло правление Филиппа Красивого. Произведений сохранилось немного, но общую картину можно воссоздать на основании письменных свидетельств. Ни один его предшественник на троне Французского королевства не возводил идеологию власти на такую высоту. Филипп Красивый уделял своим собственным изображениям не меньше внимания, чем изображениям предшественников. В большом зале дворца на острове Сите по его приказанию были размещены статуи французских королей, начиная с Фарамунда: этот комплекс, приписываемый Энгеррану де Мариньи, был поручен Эврару Орлеанскому. Большинство статуй должно было находиться на месте в момент смерти короля в 1314 г. В приорской церкви Пуасси около 1300 г. появились фигуры Людовика IX, шести его детей и Маргариты Провансальской. Во дворце Филипп IV был изображен также в Торговой галерее рядом с Энгерраном де Мариньи. В 1304 г. его статуя появилась в основанном им Наваррском колледже. В одном из боковых нефов собора Парижской Богоматери его можно было видеть в позе коленопреклоненного донатора вместе с Жанной Наваррской.
Государь пожелал иконографически увековечить и свою посмертную славу. Похоронный ритуал был изменен: в отличие от Людовика Святого, тело короля, усопшего на собственной земле, было забальзамировано, лицо оставлено открытым. Тело облачили в тунику в соответствии с «Уставом помазания» 1260 г., в правую руку вложили скипетр, в левую – «руку правосудия», голову украсили короной. Таким его изобразил скульптор, выполнивший усыпальницу для его сердца в Пуасси не позднее 1327 г. Выставление регалий и «руки правосудия» известно в иконографии позднего Средневековья.
В 1300 г. по приказанию Робера д’Артуа в Эденском замке (Hesdin) был размещен ряд гипсовых изображений голов французских королей и королев. Эта галерея обновлялась – в связи с восшествием на престол Карла IV в 1322 г. была сделана «новая голова короля, который сейчас правит»[44]44
В 1300 г. были заказаны гипс и воск «для лепки голов в этой комнате»; через семь лет они были снабжены оловянными коронами, а в 1316 г. закуплено стекло, «чтобы сделать эмали для этих голов». Маго заказала копию этой галереи в свою собственную комнату. См.: Richard J.M. Mahaut, comtesse d’Artois et de Bourgogne (1302–1329). P.: Champion, 1887. P. 331–343.
[Закрыть]. В 1308 г. графиня Маго заказала для булонской церкви изображение (статую?) своего мужа в рыцарском облачении «в память монсеньора д’Артуа».
Новейшая черта многих из этих программ состояла в появлении актуальности. Скульптор иногда должен был изображать персонажей, умерших много веков назад, вместе со своими современниками: например, Робер Клермонский был еще жив, когда Филипп IV поместил его портрет в трансепт. Изображения самого государя можно было видеть повсюду в зданиях, которые он основал или облагодетельствовал. Существовало две концепции королевского образа: одна из них была основана на общем принципе идеализации (ретроспективный портрет), другой прибегал и к изображению «с натуры» (ad vivum), так что Иоанн Жанденский около 1323 г. мог написать о королях в большом зале, что «они сделаны с таким совершенством, что на первый взгляд выглядят живыми» (sunt ibidem adeo perfecte representationis proprietate formata, ut primitus inspiciens ipsa fere judicet quasi viva). В те же годы Данте восхвалял изображения на плиточном полу за то, что они соперничали с реальностью.
Именно в погребальной скульптуре мы можем увидеть, какие проблемы вставали перед мастерами около 1300 г. Если верить хронистам, скульптор работал с натурой. Известно, что епископ регенсбургский заказал себе «гроб с похожим на него изображением» (supulchrum similiter sibi). Еще более известен длинный рассказ «Хроники Оттокара» о могиле Рудольфа Габсбургского: никогда не было видано человеческого изображения, более схожего с оригиналом (daz er nie bild hier gesehen/einem manne sô gelîch), «искусный скульптор» (kluoger stemmetze) проявил такую верность в отображении черт лица, что даже посчитал все морщины императора. По мере того как государь старел, мастер вносил изменения в портрет. Хронист сравнивал это изображение с эпитафией, для написания которой не хватило бы, по его словам, целой стены собора. Передача физических черт императора и восхваление его моральных достоинств кажутся здесь двумя смежными задачами, но разной трудности[45]45
Подобное противопоставление текста и живописного образа можно найти в знаменитом портрете Эразма Роттердамского, гравированного Дюрером: латинская надпись гласит, что портрет был сделан ad vivum, а греческая утверждает, что его писания оставили гораздо более верное изображение их автора.
[Закрыть].
В XIII в. возрос вкус к пышным похоронам и роскошным гробницам, что обсуждалось в литературе. К словам бл. Августина о том, что «все, что делается для тел усопших, не более чем долг гуманности, ничем не помогающий в их вечной жизни», св. Фома прибавил, что погребение имеет двоякий смысл. Один для живых: во-первых, их тела не должны страдать от зрелища и запаха трупов; во-вторых, их души должны укрепиться в вере в Воскресение. Другой для мертвых: могилы были напоминанием о них, перед ними совершались молитвы об усопших». Созерцая красивую гробницу, «зрители побуждались к состраданию и молитве». Человек должен любить свое тело, поэтому «беспокойство о том, что будет с телом после смерти, вполне естественно». Развитие искусства погребений должно изучаться наряду с активными философскими дискуссиями о душе и теле: последнему придавали большое значение такие мыслители, как Альберт Великий и Фома Аквинский, для которого тело – это орудие души. Но видеть в этом вслед за Панофским лишь эсхатологический арьер-план недостаточно: «Дополнение» к «Сумме теологии» св. Фомы воспроизводит исидоровскую этимологию «монумента» из monere и mentem (mentem moneat ad defuncti memoriam), т. е. «заставлять душу вспоминать об усопшем». Функция поминовения была ярко выражена в погребальном памятнике. Кроме того, расположение могил было частью настоящей исторической топографии: в цикле королевских могил, созданном в 1264 г. Людовиком Святым, был строго соблюден порядок захоронений в соответствии с исторической ролью каждой коронованной особы. Этот порядок был нарушен его наследниками, но Людовик IX развернул на полу монастырской церкви Сен-Дени своего рода историческое полотно, целью которого была демонстрация единства монархического принципа и которое обладало, возможно, также и мнемотехнической функцией, облегчая запоминание генеалогий и династий.
Филипп Август стал первым французским монархом, которому были возданы похоронные почести. Когда в Англии к власти пришли Плантагенеты, уже зарождались специфические черты английского ритуала королевских похорон. Покойный король с короной на голове и со скипетром в руке облачался в королевский плащ, лицо его оставлялось открытым. Присутствие знаков отличия намекало на связь помазания и похорон. В 1218 г. тело Оттона IV также было выставлено на всеобщее обозрение с инсигниями и в коронационной одежде. В 1252 г. этот церемониал во Франции был распространен и на королев. Если во время военных операций монарх умирал вдали от своих земель, выставление тела с инсигниями становилось невозможным: тело Филиппа Смелого было подвергнуто эвисцерации, его внутренности находятся в Нарбонне, а тело в Сен-Дени. Против этой практики выступал Гильом Дюран, утверждая, что «у человека не может быть две могилы».
Около 1300 г. раздельное захоронение стало встречаться чаще, причем к нему прибегали не только, когда король умирал вне границ королевства. Филипп IV умер в Фонтенбло, но еще в своем завещании 1311 г. он пожелал, чтобы его тело покоилось в Сен-Дени, а сердце в Пуасси. В Англии новые особенности погребения возникли в промежуток времени между кончиной и погребением Эдуарда II в 1327 г.: подвергнутое эвисцерации и забальзамированное тело сопровождалось «королевским изображением» (roial representation), положенным на крышку закрытого гроба вместе с инсигниями. Во Францию такой обычай проник, кажется, лишь в 1422 г., в связи с похоронами Карла VI. Пластическое изображение покойного на его саркофаге фиксировало точный облик его, в то время как плоское изображение должно было в какой-то мере заменить физическое тело репрезентативной функцией.
Эта по сути своей совершенно нечестивая идея расщепления тела ради устройства нескольких гробниц – для сердца, для внутренностей, для плоти – заслуживает изучения в общей перспективе антропологии позднего Средневековья. Роль изображения в ней состояла в том, чтобы восстановить органические внешние качества тела, потерянные из-за смерти, и способствовать почитанию покойного. Этот погребальный обычай требовал вскрытия тела: перед нами что-то вроде символической диссекции, которая исторически предшествует диссекции научной. В программе королевских могил в Сен-Дени взаимосвязь монументальной скульптуры и погребального комплекса очевидна. Большинство надгробий украшают фигуры, имитирующие лежащее тело. Формальное различие между лежащим и стоящим положением фигуры было достигнуто лишь в конце века: первое свидетельство – это могила Изабеллы Арагонской в Сен-Дени. Складки одежд уже не падают прямыми линиями вдоль вертикальной оси тела, а опускаются на плиту. Другое новшество, заметное и в надгробии Филиппа III Смелого: фигура вырезана из белого мрамора, а подножие – из черного. В этих двух особенностях выразилась та пластическая эстетика, которая отличала надгробия от монументальной скульптуры фасадов: лежащая фигура достаточно уплощена, но использование разного материала препятствовало возникновению эффекта плоскости. Этот иллюзионизм – основной признак того, что мы назовем «принципом реальности»[46]46
При применении двух разных материалов для базы и тела полихромия могла играть лишь второстепенную роль. Она выделяла некоторые детали, в частности геральдику.
[Закрыть].
Если верить письменным источникам, использование погребальной маски – явление пóзднее. Эденская галерея свидетельствует о том, что голова лишь одного персонажа в 1300 г. считалась достойной представлять собой все тело человека. Символическая функция головы засвидетельствована также попыткой хирурга Филиппа Красивого, Анри де Мондевиля, иерархизировать различные части тела: на вершине – голова, в середине – сердце. Некоторые части тела благороднее благодаря своей хрупкости, например, лицо. В иерархии мощей голове принадлежало главенствующее положение. Выбор головы для того, чтобы представлять всю персону короля, как мы увидим в дальнейшем, не случаен: уже в литературе XII в. это метафора короля, а его тело – метафора всего общества.
Автор эденского цикла обладал способностью отражать индивидуальные черты, которой не было у исполнителей гробниц в Сен-Дени. Изучение индивидуальной физиогномики в XIII в. стало наукой: один из ученых при дворе Фридриха II, Михаил Скот, написал трактат по астрологии, в который входил раздел о физиогномике. Альбертино да Муссато точно описал облик императора в начале XIV в. В куртуазной поэзии все чаще говорилось о теле и лице: Конрад фон Шенк использовал не менее восьми синонимов слова «рот». То, что тело перевозилось с открытым лицом (как это было с Филиппом Красивым) доказывает, что индивидуальные черты приобрели особое значение. Даже если сегодня мы согласимся с тем, что гримаса в скульптурном изображении Изабеллы Арагонской в Козенце просто вызвана неправильностью поврежденного камня, нельзя игнорировать использование в это время посмертной маски. Современное состояние наших знаний позволяет говорить, что именно в погребальной скульптуре раньше всего, в 1320–1380 гг., проявился «соблазн портрета», даже если он еще подчинялся принципам идеализации, унаследованным от XIII в. Лежащая фигура Филиппа Смелого († 1285) свидетельствует если не о стремлении соблюсти физиогномические черты покойного, то, по крайней мере, о желании индивидуализации, которое заметно также в надгробии епископа аугсбургского Вольфхарта Рота († 1302) и уже в 70-х годах XIII в. в надгробии папы Климента IV в Витербо. Вообще-то желание передавать индивидуальные черты, возможно, проявилось сначала не в скульптуре гробниц. В надгробных изображениях мастер должен был упорно держаться за принцип идеализации: передача некрасивых черт лица была приемлема в регистре экспрессивности (реймсские гримасы), а не на могиле. В «Дополнении» к «Сумме теологии», посвященном Воскресению, ученики св. Фомы задают следующий вопрос: Все ли в момент воскресения будут иметь один возраст – молодость? Будут ли они одного роста? Будут ли они одного – мужского – пола? А осужденные воскреснут с их телесными недостатками? Все эти вопросы достаточно явно указывают на важность «изображения» покойного в представлениях XIII в. Интерес к физиогномике, вызванный трактатом псевдо-Аристотеля, возрос во второй половине XIII в. благодаря переводу Варфоломея Мессинского (1258–1266). Сочинение Альберта Великого «О животных» и приписывавшийся св. Фоме трактат «О физиогномике» свидетельствуют о том, что схоластика также интересовалась этими проблемами.
Интерес к индивидуальным чертам имел еще одну составляющую. Удивительным мастерам, работавшим в реймсском трансепте, удалось схватить особенности лиц с помощью выразительной мимики. Это течение, прошедшее через Реймс, несомненно, ориентировалось на античные образцы, к нему же восходят и статуи наумбургских донаторов. Королевские галереи соборов Парижа, Шартра, Амьена и Реймса сыграли решающую роль в появлении комплекса парижского дворца. Кто же перед нами: цари иудейские или короли Франции? Каков бы ни был ответ, трансформацию статуи короля не объяснить вне соотношения изображения современного государя с изображением «исторического» персонажа.
Взаимодействие «реального» и «воображаемого» заметно в костюме. В галерее собора Парижской Богоматери некоторые короли одеты в античные тоги, другие же – в платья, затянутые поясом, и плащи на подвязках. Инсигнии ограничены короной и скипетром. Такую же смесь антикизирующих и современных одежд можно наблюдать в трансепте Реймса. Лежащая статуя Людовика VII в аббатстве Барбо одна из первых была облачена в тунику для помазания и античный, закрепленный на плече плащ. Такая же фигура Хлодвига 1220–1230 гг. одета в плащ на витом поясе и держит в руках скипетр, как королевские статуи Парижа и Шартра. На могиле сердца Филипп IV изображен в коронационной далматике и с инсигниями. Гильом Дюран протестовал против этих установившихся в XIII в. обычаев: человек на Страшном суде должен предстать обнаженным, «и его единственным украшением и одеждой должны быть добродетели». Покойные верующие должны были быть завернуты лишь в саван и «не облачаться в обычные одежды, как это делается в Италии». Только клирики, «принадлежацие какому-либо ордену, должны быть одеты в одежду ордена…поскольку священническое облачение символизирует добродетели». Изображение костюма имело историческое значение: в 1320 г. Маго д’Артуа заказала для своего замка в Конфлане «разноцветные изображения рыцарей со щитами, мастера должны будут узнать, какие доспехи использовались в те времена, когда они жили, и тогда рыцари получат их вооружение». Это очень важное уточнение: костюм, в данном случае доспехи, стал предметом «археологического» или исторического интереса.
Существовала принципиальная разница между захоронениями мужчин и женщин. Для первых костюм выделен как атрибут титула или ранга, отводя на второй план все, что касалось моды. Женские надгробия ставили другую проблему: поскольку их традиция, так же как традиция детских памятников, была гораздо моложе, и на нее сильное воздействие оказывала иконография Девы Марии, именно элементы моды придавали женским изображениям их характерные черты. Подчиняясь канонам красоты, навязанным куртуазной литературой, и образу Богоматери, женская фигура дольше сопротивлялась «соблазну портрета», но быстрее восприняла «принцип реальности».