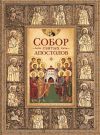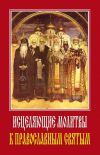Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Для всего алтаря, включая рельефные панно, Ствош выбрал синий фон с золотыми звездами. Даже рамка с фигурками пророков, с трех сторон обводящая корпус и дополненная круглой аркой, имеет синий фон. Арка может трактоваться здесь как «врата неба» (Porta coeli), поскольку использование такой исключительной формы в готическом алтаре объясняется только особой символической нагрузкой.
В сцене Успения все одежды выкрашены в золото, что противопоставлено красочной палитре рельефов. Блеск золота усиливал визуальный эффект сцены. Фигуры апостолов формально задуманы выше рельефов: в этом отличии не следует видеть вмешательство подмастерьев, как это иногда трактуется, но лишь разницу в масштабе, поскольку эти фигуры не должны восприниматься с близкого расстояния.
Оценить оригинальность краковского творения можно при сравнении его с двумя другими алтарями, также посвященными прославлению Девы Марии. В Креглингене Рименшнайдер представил в корпусе Вознесение, а в верхнем завершении – Коронование. Здесь телесное вознесение Девы Марии противопоставляется положению апостолов, сложная драпировка их одежд играет ту же роль, что и в Кракове. Корпус разбит на проемы, наподобие святилища, т. е. представляет собой модель церкви. В алтаре св. Вольфганга Михаэль Пахер изобразил гигантское Коронование, окруженное ангельским воинством, со свв. Вольфгангом и Бенедиктом, стоящими в отдалении, в боковых нишах. Сцена разворачивается в ирреальном пространстве, будто не подчиненном законам тяготения. Но и Рименшнайдер, и Пахер использовали волшебный эффект балдахинов и пересекающихся стрельчатых фронтонов. Человеческое тело оказалось запутанным в хитросплетениях иллюзорной деревянной архитектуры, особенно у Пахера. В алтаре св. Вольфганга тела возникают из его таинственной глубины и высвечиваются лучами, пробивающимися через боковые окна. В Креглингене маленькие окошки, прорезанные в самом корпусе, пропускают лишь слабый свет, превращающий пространство сцены в двойник пространства хора. Пахер и Рименшнайдер оба использовали перевернутый масштаб и театрализацию, хорошо зарекомендовавшие себя в готических заалтарных образах XV столетия; главное, они сохранили единственную, вертикальную и восходящую ось, которой подчинены все образы.
Вит Ствош по-новому интерпретировал корпус как сценическое пространство, ввел горизонтальную ось, от которой по-настоящему отталкивается вертикаль. Но такое новшество имеет значение только по отношению к тому, что изображено на сцене, т. е. к иконографической программе, в которой Боговоплощение и небесное прославление объединены в символическом видении Церкви. Язык мастера глубоко проникнут двухмерным представлением о мире, навязанным готической образной системой. Можно даже сказать, что в краковском алтаре он с новой силой утверждает истинность такой модели, на основании которой только и может быть изображено невидимое. Именно поэтому краковский алтарь можно вопринимать как настоящий ответ «готики» на «Троицу» Мазаччо в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, созданную за шестьдесят лет до того.
Собор как театр памятиВо введении к своей великой иконологической «сумме» о XIII в. Эмиль Маль настаивал на том, что средневековый человек был одержим «страстью к порядку». Ученый намеревался описать большие иконографические программы, украшавшие религиозные здания, по трем аспектам: «священное писание», «священная математика» и «символический язык». Тем самым Эмиль Маль просто-напросто использовал весьма не новое определение, распространенное с эпохи Григория Великого, настаивавшего на необходимости прибегать к изображениям для просвещения неграмотных. Аррасский Собор вскоре после 1000 г. говорил о том же: «То, что простецы и неграмотные не могут увидеть в писаниях, пусть они видят в живописи» (Simpliciores quippe in ecclesia et illitterati quod per scripturas non possunt intueri hoc per quaedam picturae lineamenta contemplantur). Изображения определялись как «письмена для мирян» (litterae laicorum), у Сикарда Кремонского, или как «книги для мирян» (libri laicorum), у Альберта Великого. Изображения, признавался Гильом Дюран, волнуют душу больше, чем тексты. Позже св. Бонавентура объяснял их пользу: они побеждают невежество простецов, косность чувств и слабость памяти. В трактате о проповеди доминиканец Стефан де Бурбон († 1261) предложил своего рода психологическое пояснение определения св. Бонавентуры. Он утверждал, что пример (exemplum), выбранный проповедником, должен достигнуть чувствительности слушателя, пройти через его воображение и, наконец, отложиться в памяти.
Мы знаем, что между миром и клиром пролегала пропасть, но и в церкви хватало невежд. Многие реформаторы пытались предоставить в их распоряжение знания, которыми они уже не располагали: так возник упоминавшийся ранее Rationale Гильома Дюрана. К самим художникам обращались с призывами не утомлять сознание людей бессмыссленными изображениями: об этом говорил автор «Художника в стихах» (Pictor in carmine).
Прежде чем обратиться к скульптурам фасадов, следует вспомнить об их существовании в клуатрах капитулов и монашеских общин. Эти программы возникли из желания предоставить монахам exempla «киновийной жизни» (vita communis) на примере «апостольской жизни» (vita apostolica). Разве монахи жили не в «портике Соломона» (Porticus Salomonis), который символизировал внутренний монастырский двор? Здесь можно видеть иллюстрацию Омовения ног, и известно, что именно в клуатре, перед капителью с соответствующим изображением этот реальный ритуал мог происходить, что засвидетельствовано, например, в Нотр-Дам-ан-Во и в Шалон-сюр-Марн. В трапезной можно было увидеть «Тайную вечерю» и «постящегося св. Николая», а изображения обязанностей аббата – в зале капитула. Однако в целом иконография клуатров мало отличалась от того, что можно было видеть в любом религиозном здании, доступном для мирян.
Начиная с 1140 г. скульптура распространяется на фасады, прежде всего в качестве статуй-колонн на откосах порталов. Фигуры человеческого роста дополняли циклы тимпанов. В Муассаке и в Сен-Жиль дю Гар уже можно видеть вставленные в ниши высокие фигуры или горельефы в нижней части, которые, однако, еще не способны были сломить свою подчиненность плоскому плану стены. В Везле апостолы арочных опор также полностью принадлежат стене. Важное новшество статуй-колонн состояло в следующем: архитектура в какой-то мере продолжалась в скульптуре, а скульптура вырастала за счет архитектуры. С другой стороны, восприняв трехчастный гармонический фасад, созданный англо-нормандской традицией, северофранцузское зодчество установило новое соотношение между скульптурой и архитектурой: трехнефный наос с соответствующими ему тремя порталами и трехчастным делением фасада. Акцент на центральном пролете позволял создать иерархическое соотношение частей вокруг главного портала, открывавшего осевую перспективу храма. Около 1200 г. фасад предлагал для скульптора несколько участков для работы: опоры арок, их цоколи и проемы, архивольты, тимпаны, простенки, стрельчатые фронтоны, ниши контрфорсов, верхние аркады, не считая карнизов, химеры, капители и пинакли. Размеры скульптур зависели от близости к зрителю, от их расположения, от их иконографической важности. Богатая сценография, полностью занимавшая нижний ярус стены, иногда распространялась и на верхний. Когда пытаешься выяснить ее смысл, трудно разобраться, кому принадлежала инициатива в ее создании: архитектору или скульптору? Кто из них почувствовал необходимость превратить фасад в «книгу», в «писание», иллюстрирующее программу, разработанную богословами?
Если буквально понять сравнение с книгой, нужно согласиться с тем, что расположение сцен и отдельных фигур на главном фасаде церкви или на лицевой стороне амвона совершенно аналогично определенному типу композиции полностраничных иллюстраций в рукописях по регистрам, обычно использовавшемуся для изложения на листе пергамена интеллектуальной конструкции, с той лишь разницей, что архитектура всегда отдает предпочтение вертикали.
Ясно, что архитектура навязывала если не все необходимые композиционные составляющие для изобразительных композиций, то, во всяком случае, их основные членения и общие формы. Исключительные размеры фасадов трансепта шартрского собора и отказ от тимпанов на реймсском фасаде подчинены точным концепциям. Под властью архитектуры оказывалась и богословская мысль; можно сказать, например, что принятие тройной структуры наоса имело много последствий не только в композиции готических фасадов, но и в их иконографическом содержании.
Содержание строилось на сочетании библейских текстов с рассказами о местных святых. Собор, т. е. епископская церковь, сводила в единую систему святых своего диоцеза и несколько основных догматов. Эти местные святые становились семейными посредниками, которые гарантировали верующим, что все эти вырезанные в камне сцены и фигуры, имевшие единую задачу – рассказать историю Спасения, – касались непосредственно их, прихожан этого храма. Так происходил переход от мира земного, точнее, от мира диоцеза, или конкретного прихода внутри этого диоцеза, к миру небесному – от прошлого к настоящему. Лицо культовой постройки превращалось в крупную структуру, на которой всякая значительная сцена или фигура могла найти себе место, – на удивление нам, зрителям. Например, на амьенских порталах Страшный суд в центре сопровождается по бокам Коронованием Марии и житием св. Фирмина, никому не известного епископа Амьена. Эти симметрические, иерархизованные структуры подчинялись не только эстетическим принципам. В гораздо большей степени, чем это считалось до сих пор, они связаны с желанием запечатлеть в памяти верующих конкретный дидактический текст. Так, по крайней мере, утверждали некоторые богословы, среди прочих св. Бонавентура, и мы склонны им верить.
Память в Средние века упражняли так же, как в Античности. Для греков, для Платона и Аристотеля, память опиралась на два явления: образ и место. Иными словами, – я надеюсь, нам простят это упрощение – античная память была главным образом топологической. Аристотелевская теория памяти, изложенная в сочинении «О памяти и припоминании», была воспринята на средневековом Западе через арабских философов, комментарии на этот трактат писали Фома Аквинский, Альберт Великий и Роджер Бэкон. Аристотель разделял память и воображение, в отличие от него Аквинат их объединял, возложив на второе задачу вписывать в наш ум впечатления от внешнего мира для их запоминания. Цицероновская мнемотехника также была известна средневековым авторам, но особым влиянием начиная с XII и особенно с XIII в. пользовалась «Риторика к Гереннию» (De ratione dicendi ad Herennium), также приписывавшаяся Цицерону и переведенная на французский Иоанном Антиохийским в 1282 г. Опираясь на этот трактат, св. Фома рекомендовал прежде всего искать необычные образы для того, что мы хотим запомнить. Затем следовало расположить их согласно определенному порядку, чтобы проще было переходить от одного к другому. Память легче фиксировалась на том объекте, на который было направлено какое-то чувство, и она требовала постоянного возвращения к запомнившемуся предмету.
Важнейшее отличие средневековой памяти от античной в том, что она в меньшей степени связана с риторикой, чем с этикой: она часть благоразумия, как говорила «Риторика к Гереннию». Память была напрямую связана с одной из главных (кардинальных) добродетелей и тем самым участвовала в великой программе Спасения. Бонкомпаньо да Синья, автор «Новейшей риторики» (Rhetorica novissima), включает в область памяти образы ада и рая, а добродетели и пороки стали мнемоническими знаками.
Чтобы лучше осознать, как воздействовал на память фасад церкви с его скульптурной программой вместе со всем интерьером и прежде всего витражами, стоит сравнить его с «картой мира» (mappa mundi). Оставим в стороне портуланы – карты береговой линии, создававшиеся с определенными практическими задачами. Нас интересует энциклопедическая карта мира (imago mundi), восходящая к Античности и к Библии. До нас дошел один особенно интересный экземпляр: нарисованная около 1235 г. карта мира из Эбсторфа. В ней можно было найти настоящую хронику мировой истории, распределенную по местам, где происходили события, обогащенную историей Спасения. Карта охватывает время, начинающееся в раю и завершающееся концом света. Места, связанные с дохристианской историей, тоже нашли здесь свое место. Христианская вера символизируется космосом в виде тела Распятого.
Наиболее распространенная схема карты мира – это «тау» (τ), вписанная в круг и ориентированная на восток в верхней части. Вертикальная планка «тау» представляет собой Средиземное море, уходящая на север часть горизонтальной черты – Дон, южная часть ее – Нил. Верхнюю часть круга занимает Азия, левую нижнюю четверть (северо-запад) – Европа, правую четверть (юго-запад) – Африка. Античный образ ойкумены в Средние века был подкреплен авторитетом Библии, поскольку трехчастное деление, как считалось, восходило к наследию Ноя: Симу была отдана Азия, Хаму – Африка, Иафету – Европа.
Такой рисунок фиксировал закрытый, симметричный, легко запоминаемый образ мира. И все же в нем содержалось все, что средневековый человек мог знать о пространстве и времени: прошлое, настоящее и будущее. С этой точки зрения imago mundi – единственное изображение, энциклопедическая направленность которого была сопоставима с собором.
Альберт Великий так понимал указание «Риторики к Гереннию» на необходимость выбора «мест» (loci) для хранения «образов» (imagines), что для этого нужно было искать «реальные» места в реальных зданиях, «торжественные и особые». Фрэнсис Йейтс пришла к выводу, что Альберт имел в виду церкви. В эпоху Возрождения бытовали трактаты об искусстве памяти, относившиеся к конкретным местам, например, к собору в Бамберге. Но ничего подобного этим текстам в предшествующие столетия нам неизвестно. Однако уже давно было установлено, что возрожденное францисканцами и доминиканцами искусство проповеди, несомненно, возродило интерес и к ars memorativa. Нам кажется, что основной областью применения этого искусства в Средние века была не устная речь. Как четко писал св. Бонавентура, именно изображения помогают слабой памяти. Он не уточнял, как именно они это делают, но мы можем представить себе это по скульптурным ансамблям церквей XIII в.
Обращение к пространству, столь полезное в работе памяти, в архитектуре усиливается ощущением порядка, который рекомендовал св. Фома. Добавим к этому рекомендацию «Риторики к Гереннию» выбирать «места» не слишком темные, не слишком светлые, и мы увидим, что перед нашим взором постепенно возникает свод изображений, упорядоченный в пространстве и предоставленный воздействию света, облегчающему их прочтение. Фасад собора – просторный «театр памяти», и понятность его «постановки» обусловлена наукой памяти. Расположенные согласно своему значению и масштабным соотношениям рельефы или круглые статуи призваны стимулировать работу памяти: готическая архитектура, упорядочивая мотивы, создает необходимые loci, а скульптура помещает в них imagines для запоминания. Возьмем лишь один элемент, который подтверждает правильность этой интерпретации: нишу, которую можно назвать, если воспользоваться неологизмом Анри Фосийона, «пространством-средой» или менее адекватным, но более красноречивым термином Зедльмайра – «балдахином». Там, где готический мастер ставит отдельную фигуру, он предоставляет ей собственное пространство, ограничивающее ее в двух измерениях и сдерживающее третье: никогда круглая статуя не отделяется от опоры настолько, чтобы потерять с ней связь. Каждая фигура выделяется не в «пустом» пространстве, а на темном фоне, подчеркивающем ее значение. В откосах порталов такой рамой служат пьедесталы и проемы. То же наблюдение можно сделать и над архивольтами. Часто говорилось о том, что готическая архитектура подчиняла своей логике скульптурную программу, забывая о том, что нам кажется главным: это подчинение – лишь видимость, поскольку благодаря пластике архитектура прежде всего выиграла в читаемости. В качестве примера наиболее развитой скульптурной программы можно привести внутреннюю стену фасада реймсского собора, настоящий «иконостас памяти», выполненный в 1250–1260 гг.
Готическая ниша, несомненно, производила большое впечатление на авторов трактатов о памяти. Петр Равеннский в своем знаменитом учебнике по искусству памяти писал, что locus памяти должен быть в размер человеческого роста. Йоханнес Ромберх, повторяя эту мысль, рекомендовал среди прочего запоминать реальные места, например монастырские здания.
Последний пример побуждает нас упомянуть о своего рода мемориале Страстей, вписанном в топографию клуатра, где искусство памяти сыграло важную роль и в изображении событий и в том, о чем они должны были напоминать. Речь идет об одном пассаже из «Жизнеописания Генриха Сузо», в котором рассказывается, что он использовал клуатр, чтобы шагами отмерять в нем этапы крестного пути, на котором он сопровождал своего Господа: зал капитула, четыре стороны клуатра одна за другой, хор церкви, наконец, алтарь со стоящим на нем крестом – все это места, на которых последовательно разворачивается «подражание Христу». В этом эпизоде мы находим ту функцию памяти, которой изображения в мистике обычно лишаются: припоминание и даже имитация определенных моментов Страстей. Подходя к распятию, Сузо «брал прут и, исполненный сердечного ревнования, пригвождал себя рядом со своим Господом на кресте». Мнемоническая функция изображения в готическом искусстве тем более очевидна, что большинство живописных и скульптурных изображений теряют аллегорический или типологический характер и тяготеют к передаче реальных или исторических событий. Изображение служит мемориалом, и верующий должен запоминать это изображение, чтобы не забыть события Священного писания, о которых оно повествует[40]40
Подражание, которому предавался Сузо, было особым примером самоотождествления, т. е. ликвидации всякой дистанции во времени и пространстве. Здесь память уже не нужна, поскольку мистический опыт помещал субъекта в совершенное настоящее. Но чтобы довести эту imitatio до трагического завершения, нужно было пройти все последовательные фазы, распределенные в топографии клуатра и монастырских зданий.
[Закрыть].
Известно, что евхаристическое благочестие получило развитие в ту эпоху, когда особое значение придавалось человеческому в Христе и, следовательно, его Страстям. Это благочестие требовало реального присутствия Христа, оно нуждалось в мемориале Страстей. Св. Бонавентура нашел оба эти аспекта в замечательном образе, который он позаимствовал у Иоанна Дамаскина и которым часто пользовался: «угль горящий» (carbo ignitus). Он должен был воспламенять того, кто проходит через опыт Страстей. Мнемоническая функция «угля горящего» сравнивалась с изображениями Страстей. Согласно Бонавентуре, мы располагаем «тройственным воспоминанием о Страстях: через письмена, слова и тáинства. Страсти могут быть описаны словами или изображениями, и это как бы мертвое воспоминание, взгляд издалека». Воспоминание словом, рассчитанное на слух, «отчасти живое, отчасти мертвое», в зависимости от мастерства проповедника. Воспоминание в таинстве, продолжает Бонавентура, «воспринимается на вкус…чтобы мы вспомнили о Страстях Его не через взгляд, но как бы на опыте».
Изображение воспринималось, в отличие от таинства, как мертвая субстанция. Но взгляд не совсем обесценивался: разве «угль горящий» не напоминал о Неопалимой купине, в которой Господь явился Моисею? На аллегорическом витраже в Сен-Дени, посвященном этому сюжету, аббат Сугерий написал: «Тот, кто полон Господом, горит огнем неопальным», – будто предвещая евхаристическое благочестие св. Бонавентуры. По мнению Фомы Аквинского, таинство евхаристии – это «воспоминание о Страстях, переданное в пище». Это таинство было установлено «как вечное напоминание о Страстях». Апостолы сохранили память о Страстях, потому что они были их свидетелями, но теперь ее следовало воспроизводить в «воспоминании». В этом пункте томистской доктрины хорошо видно, что богословская проблема ставила изображения на весьма низкий уровень: какое из них способно было отразить накал евхаристического угля?
До сих пор мы говорили лишь о двух регистрах памяти: один из них представляет прошедшие события и противоположен припоминанию; другой относится к imagines, расположенным в подобающих им loci на фасаде, и определяет читаемость образов и их значений. В этом разделении отразилось два типа публики: первый регистр с его усиленной экспрессивностью обращался к неграмотным мирянам и к малограмотному клиру, второй обращался к элите. Проповедь могла обращаться и к последней, поскольку, лишь до конца прочувствовав такую обширную программу, как фасад Реймса или Страсбурга, можно было понять смысл каждого отдельного изображения.
Следует также напомнить, что цвет, настолько важный для понимания всего средневекового искусства, играл значительную роль и в работе памяти. В одном трактате XV в. мы читаем, что для того чтобы отделить данное изображение от предписанного ему locus, следует (мысленно) изменить цвет места. Жак Легран, мыслитель августиновской традиции, писал в трактате о риторике, имея в виду, правда, не монументальные циклы, а миниатюру: «В иллюминированных книгах хорошо видно, что значат различные цвета для запоминания различных линий… Поэтому древние, когда хотели что-нибудь хорошенько запомнить, использовали в своих книгах различные цвета, изображали различные фигуры, для того чтобы их многообразие помогало лучшему запоминанию». Точно так же на украшенных скульптурой фасадах цвет фигур и их фона был важным подспорьем в искусстве запоминания.
Проблема памяти связана с проблемой формы. Степень читаемости рельефа, условия его запоминания зависели от мастерства, с которым художник вел рассказ, освобождая его от всех элементов, мешавших восприятию, и обогащая всем, что делало его более эффективным. Парижская скульптура 1240–1260 гг. предлагает нам несколько свидетельств, особенно подходящих для иллюстрирования этого искусства: статуи Сент-Шапель, рельефы буржского амвона, фрагменты портала Сен-Дени. Остановимся на буржском амвоне.
Поставленный перед хором амвон обозначал границу между пространством клира, в данном случае соборного капитула, и пространством для мирян, к которому обращена его скульптурная программа. С высоты амвона на народном языке произносилась проповедь, читались Апостолы и Евангелие. Скульптурная композиция, украшавшая это закрытое пространство, определялась его предназначением: угловые камни над колонками украшены фигурами апостолов и пророков, в центре – группа распятого Христа и Лонгина, протыкающего Спасителю бок копьем. Эта сцена была центральной композицией нарративного фриза, начинавшегося на левом (северном) крыле амвона предательством Иуды и заканчивавшегося адской печью на правом крыле. В левой части фасада можно было видеть Пилата со слугой, избиение Христа и восхождение на Голгофу, справа еще можно различить Распятие, Снятие со креста, Положение во гроб, жен-мироносиц у гроба. Рельеф с изображением Воскресения не сохранился. Следует обратить внимание на выдающееся качество этого комплекса, говорящее о том, что перед нами важнейшее произведение, созданное в ключевой момент развития искусства XIII столетия. Характерная для них читаемость была тогда новшеством, и она связана не только с трактовкой самих эпизодов, построенной по совершенно новым композиционным принципам, лишенной каких бы то ни было ненужных деталей и зрелищности. Новое чувство формы проступает в каждой фигуре: здесь обретено согласие между телом, совершающим действие, и одеждой, сопровождающей это действие и получившей подобающий ей пластический резонанс. В отличие от тимпана, разбивавшего рассказ и делавшего группу несколько сжатой, фриз давал скульптору непрерывный длинный фон, на котором можно было дать каждой фигуре всю свободу движений в рамках двух измерений. В Бурже все фигуры расположены в горельефе на однообразном абстрактном фоне, похожем на ковровый цветной витраж, сложенный из квадратиков цветного стекла.
В статье 1969 г. Чезаре Ньюди продемонстрировал эпохальное значение этих фрагментов, увидев в них «классицистическую» фазу развития готической скульптуры около 1260 г., легшую в основу классицизма Никколо Пизано, Арнольфо ди Камбио и Джотто. Христос «Страшного суда» и стоящий рядом с ним ангел с гвоздями в центральном тимпане собора Парижской Богоматери, наверное, самые ранние свидетельства того явления, которое получило название «эстетической революции», произошедшей, судя по всему, в Париже не позднее 1240 г.
Эта революция произошла в тот момент, когда так называемая готика периода расцвета в серии шедевров сформулировала последние решения архитектурной мысли, целью которой было раскрепощение всей энергии, таившейся в каменной структуре. Совсем по-новому ведет здесь свой рассказ и скульптура. Прежде чем уступить место маньеризму уже в 1300 г. и особенно на протяжении всего XIV в., парижская скульптура поразила мир своей монументальностью, величественностью форм, которой в наивысшей мере обладают апостолы Сент-Шапель[41]41
Ч. Ньюди считает, что нужно отделить от группы апостолов из музея Клюни св. Иакова Младшего и его соседа in situ, в которых он видит образование своего рода александризма. Они, может быть, и отличаются в стилистическом плане, но обладают и общими с «парижским стилем» чертами. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ангела с гвоздями с центрального портала парижского собора Нотр-Дам с несущим дискос апостолом из Сент-Шапель.
[Закрыть]. Очень хочется приписать этот аттикизм определенному контексту, королевскому двору, и увидеть в усилившемся тогда влиянии францисканцев тот фермент, который содействовал его расцвету: не идеал бедности или пафос рассказов о Страстях, но значение визуального свидетельства, столь важного в евангельской жизни ассизского святого. Людовик IX, воспитанный францисканцами, воздвиг для них новую обитель в Париже на том месте, где они обосновались уже в 1216 г. Скульптурная программа королевской капеллы была отдана тому стилю, который говорил на самом благородном языке искусства того времени.
Формальные сходства, объединяющие произведения Парижа и Буржа, не противоречат тому, чтобы каждое из них, рассмотренное по отдельности, представляло собой явление уникальное. Разве это не похоже на различение стилей в ораторском искусстве цицероновского образца? Иоанн Гарландский в своей «Поэтике» (Poetria, ок. 1250 г.) различал три стиля, соответствовавших трем общественным сословиям: низменный стиль для крестьян, смиренный стиль для пастухов и героический стиль для тех, кто находился выше первых двух на общественной лестнице. Стилистические различия внутри такого единого корпуса, как произведение одного мастера или одной мастерской или даже внутри группы произведений, вовсе не обязательно должны быть отнесены на счет разных художников или трактоваться как результат индивидуального развития художника. Художественная форма определялась статусом заказчика и особенностями заказа.
В нашем случае неважно, появились ли скульптуры буржского амвона до или после 1237 г. Их расположение соответствует их функции, так что эстетические качества, достигнутые в фигурах апостолов Сент-Шапель, все равно не подошли бы для них. Поставленные перед хором, повернутые лицом к верующим, буржские статуи подчинены принципу читаемости, который был соблюден в стиле, использованном одним или несколькими выполнившими их скульпторами. В Сент-Шапель, в Бурже, в соборе Парижской Богоматери и в Сен-Дени работал не один мастер. Просто-напросто объединяющий их стилистический уровень воспринимался подходящим для такого рода заказов. Апостолы Сент-Шапель были частью королевского заказа, поэтому они были трактованы в «героическом» стиле, в то время как скульптуры Сен-Дени, Нотр-Дам и Буржа можно отнести скорее к «смиренному» стилю. Очевидно, что эти различия связаны не с содержанием изображений, а с предполагавшимся адресатом. Если мы хотим определить различные «руки» в таких больших монументальных комплексах, как соборы, мы должны принимать во внимание заказ и условия работы внутри конкретной мастерской.
Вопрос о формальной красоте произведения, возникший из заботы о его читаемости и мнемонической функции, подводит нас к вопросу о том, как оно использовалось клиром. В Бурже Филипп Беррюйе мог ссылаться на изображения, украшавшие фасад амвона, когда, стоя на нем, обращался к пастве с проповедью на французском языке. Это, конечно, могло значительно усилить воздействие образов. Но было ли так на самом деле? Прибегали ли к помощи иконографии такие великие проповедники, как он или Морис де Сюлли?
Нам кажется, что значение проповеди, которая должна была превратить «мертвые» изображения в почти живую реальность, если воспользоваться словами св. Бонавентуры, сильно преувеличено. Прежде всего потому, что в средневековом храме многие иконографические циклы, например, витражи, были мало доступны для зрения во всей своей полноте, а для понимания их требовался достаточно сложный комментарий. Кроме того, существует тенденция распространять на все Средневековье те особенности проповеди, которые характерны лишь для его заключительной стадии.
На самом деле в начале XIII в. проповедь на народном языке еще была подчинена очень строгим правилам. В отличие от ученого дискурса на латинском языке, она отличалась краткостью. Ее план, обычно трехчастный, соответствовал предписаниям Гуго Сен-Викторского: евангельский пассаж должен был трактоваться буквально, аллегорически и тропологически. Но такие комментарии обычно довольствовались простым пересказом библейского текста. Всякая индивидуальная интерпретация отсутствовала: образование проповедников, концентрировавшееся главным образом на патристике, заключало их в рамки своего рода консерватизма, исключавшего какие-либо интеллектуальные тонкости. Их проповеди на романском языке составлялись без учета аудитории. Трудно себе представить, чтобы они имели возможность хотя бы упомянуть произведения искусства, даже те, которые находились рядом с кафедрой, и уж тем более предложить по их поводу какие-либо соображения.
Впрочем, известны проповеди, в которых заходила речь о произведениях искусства. Петр Едок, комментируя Евангелие от Матфея, ссылается на художников, чтобы доказать, что во время Преображения преобразилось не тело Христа, а воздух вокруг него. Текст опирается на изображение для подкрепления интерпретации Писания. Современный историк искусства ждет от проповедей, чтобы они превратили изображения в экзегезу или хотя бы описали их: судя по всему, большинство из них этого не делали.
Если ситуация изменилась в течение XIII в. и схоластическая проповедь стала более свободной по форме, не следует полагать, что проповедники стали использовать визуальные образы, расположенные в нефе или на фасаде. Богословские тонкости, скрытые в иконографии больших соборов, далеко превосходили уровень проповеди на романском языке и в лучшем случае могли подкрепить синодальную проповедь на латинском языке. В таком случае, были ли изображения в действительности обращены к неграмотным?