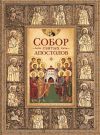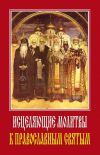Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Итак, Kunstwissenschaf[63]63
Наука об искусстве (нем.). – Примеч. пер.
[Закрыть], наиболее подходящая для познания произведения искусства, – это Kunstgeschichte[64]64
История искусства (нем.). – Примеч. пер.
[Закрыть]. Это так несомненно потому, что в гегелевском понимании все произведения искусства прошлого раскрыты перед нами и, следовательно, как бы существуют в настоящем. Эта их доступность и делает возможной историю искусства.
Для Ницше же она признак помутнения сознания: автор «О пользе и вреде истории для жизни» предлагает отказаться от истории как науки и предпочесть ей высшую силу жизни. Искусство и религия – лекарства от псевдонауки истории, болезни, стремящейся растворить человеческое в бесконечном накоплении исторического знания. Если из-за истории человек «теряется в потоке становления», надысторическое направляет взгляд к «вечному и не утрачивающему значения», т. е. к искусству и религии. Есть три способа поставить историю на службу жизни: «монументальная» история, учитывающая великие модели прошлого – людей или движения; критическая история, деконструирующая прошлое; и антикварная история, в которой наш философ видит знак уважения по отношению к прошлому, попытку его сохранения, нечто вроде культа наследия. Антикварий «сливается с историей родного города, в крепостных стенах, вратах и башнях, в ордонансе или в народном празднике он видит как бы иллюстрированный дневник своей молодости, находит в них самого себя, свои силы и свои тяготы, свои желания, суждения, сумасбродства и недостатки». В этом процессе присвоения прошлого памятники искусства становятся корнями, связывающими нас с нашей индивидуальной историей.
Именно в рамках такой субъективной истории прошлого через иррациональный опыт его монументальных свидетелей венский историк искусства Алоис Ригль создает в 1903 г. свой путеводитель по «современному культу памятников» (Der moderne Denkmalkultus).
Ригль анализирует различные ценности, на которых основывается понятие «исторического памятника», связанные как с памятью (древность, историчность, иррациональное припоминание), так и с современным культом памятников (утилитарного и художественного характера). Среди ценностей памяти Ригль впервые конкретизирует критерий древности. «Ценность древности», «воздействующая напрямую на чувствительность, преобладает над всеми другими идеальными ценностями произведения искусства в том смысле, что она обращается ко всем без исключения и для всех одинаково дорога». Она проявляется в неспешной работе времени над памятником, в патине, в поэтике руин. Она результат работы природы, способствующей «разложению» произведений, созданных человеком. Она синонимична Stimmung, расположению души, чувствительности. Ригль стал пророком религиозного почитания наследия, возникшего в конце XX столетия. Область изучения взглядом больше не вмещается в границы рассматриваемого предмета, который воспринимается в «импрессионистском» взаимоотношении со всем окружающим его и с тем, что время, «этот скульптор», как говорил Виктор Гюго, изваяло. В ХХ столетии доминантой станет то, что я называю «эстетикой неопределенности»: по мере того как под решающим влиянием Марселя Дюшана концепция или просто жест постепенно займут место техники, преобладающая часть публики почувствует себя отстраненной от процесса, не принимая и не контролируя более его правила, обновляемые практически каждой новой творческой личностью. Памятник и музейная коллекция обретают в связи с этим двоякую функцию: с одной стороны, как эстетическая референция замкнутого, завершенного, а значит, постигаемого мира, с другой – они сжимают всякий опыт искусства до Stimmung7, без намека на историзм и какое-либо познание, зато достигая карикатурного успеха в технологичных звуко-световых инсталляциях или музеях быта. Марсель Пруст в «Под сенью девушек в цвету» предчувствовал это: «В наше время все одержимы желанием показывать любые вещи лишь в их реальном окружении, лишая их главного – духовного усилия, выделяющего их в этой реальности. Картину “выставляют” среди мебели, безделушек и драпировок эпохи – блеклой декорации, старательно подобранной хозяйкой особняка, еще вчера слывшей редкой невеждой, …расположенный в центре такой декорации шедевр не вызывает у нас за ужином той пьянящей радости, которую мы можем ожидать от него лишь в музейном зале, где он самой своей наготой и лишенностью каких-либо деталей символизирует гораздо лучше те внутренние миры, в которые ушел художник, чтобы творить».
Чтобы единичный предмет не растворился в подобной «местечковой» атмосфере, на рубеже XIX–XX вв. история искусства разработала ряд приемов, позволяющих описать, проанализировать и понять его в исторической перспективе, выразив свои усилия наиболее объективно в понятии стиля.
* * *
Cлово «стиль» вначале, около середины XVI в., означало «способ выражения своей мысли», но уже тогда проявилось два противоположенных оттенка термина: стиль обнаруживает субъективные черты, но, как способ выражения, он принадлежит и к общему своду правил. Причем наиболее часто термин употреблялся, как мне кажется, в отношении визуальных искусств. Описывая памятники Рима, псевдо-Рафаэль различает три типа: античные, т. е. возведенные до времени, когда Рим стал жертвой варваров (в том числе готов), созданные при готах и современные, т. е. эпохи Ренессанса. Эта периодизация основывается на исторических событиях, якобы определивших способы строительства. Уже в XV в. Антонио Манетти, которому приписывают биографию Брунеллески, упоминает различные архитектурные стили, среди них – «германский» в противоположность «римскому».
Стиль мыслится тогда как коллективное выражение отношений или символических форм во всех внешне схожих аспектах социальной жизни: в этом случае это слово синонимично Zeitgeist, духу времени, «культуре», «габитусу». Начиная с «Века Людовика XIV» Вольтера и вплоть до «Готической архитектуры и схоластики» Эрвина Панофского, мы находим все то же желание выявить общий принцип. Это одна из ловушек, опасность которой история и история искусства не всегда умели распознать. Освальд Шпенглер комически выражает эту идею в «Закате Европы»: «Соборы, часы, кредит, контрапункт, исчисление бесконечно малых, двойная бухгалтерия и перспектива в живописи демонстрируют общее свойство, а именно, устремленность к бесконечности, характеризующую европейскую культуру в целом».
Когда историзм XIX века пользовался словом «стиль» для обозначения какого-либо набора форм, предназначенного для выполнения той или иной функции, он видел в нем то же всеобъемлющее единство. О стиле заводят речь для того, чтобы дать четкое определение какому-то искусству прошлого. Стиль для историка есть законченная система. В 1817 г. Томас Рикман в «Опыте различения стилей английской архитектуры» отличает ордер от стиля: первый обозначает прежде всего декоративные элементы классической архитектуры, тогда как второй характеризует здание в целом. Его книга предлагает потенциальному заказчику набор формальных нормативных опций.
Однако начиная еще с конца XVIII в. стиль мог обозначать и внешние признаки произведения искусства, соотносимые с тем или иным именем. Свойственная знаточеству практика атрибуции, рост критики и личного суждения привели к появлению понятия о персональном стиле, позволяющего одновременно анализировать произведения, идентифицировать их авторов и выявлять фальшивки. Вместе с тем интерпретация стиля предполагает знание способов создания произведений в конкретных исторических условиях, вместо этого появились грубейшие ошибки, когда позднему Средневековью стали приписывать правила творчества и характеристики внутренней организации, свойственные мастерским XVII–XVIII вв. Миф Нового времени о руке мастера, о его подписи, якобы придающих подлинность индивидуальному творению, слишком долго обусловливал подход к средневековому памятнику.
Таким образом, в сфере визуальных форм стиль можно считать результатом такого образа действий, при котором одновременно проявляются и неосознанные побуждения, свойственные творческой индивидуальности, и намеченные цели, иными словами, факторы, относящиеся как к бессознательному, так и к созидательному сознанию. Это также означает, что некоторые из факторов, определяющих стиль произведения, происходят то из самых потаенных глубин памяти и чувствительности, то из умышленных заимствований из эстетического словаря, который историк искусства должен постараться реконструировать. Правда, эта ситуация значительно меняется в зависимости от того, говорим ли мы об изобразительном искусстве или об архитектуре. Архитектура по характеру производства подчинена техническим, социальным и экономическим императивам (промежуточные звенья между рисунком в самом начале и воплощением его в постройке, разделение профессиональных функций и т. д.), не оставляющим места ничему импульсивному в законченном памятнике.
Атрибуция не обладает собственным методом: она отталкивается от экспертизы, не нуждающейся в научном обосновании своих утверждений. Именно поэтому знаточество, connoisseurship, осталось уделом немногих, связанных, главным образом, с рынком искусства, тогда как история искусства вознамерилась придать легитимность стилистическому анализу. Не отказываясь от модели истории стилей, внедренной Винкельманом, она попыталась усовершенствовать ее, не сумев, впрочем, превзойти. По этапно романское и готическое искусство были разделены на более или менее однородные периоды, скопированные с греко-римского мира и разделенные в соответствии с представлением об акме, т. е. вершине и двух склонах: формировании и упадке. С большой тщательностью целые поколения историков искусства кропотливо совершенствовали и уточняли эту схему с учетом прогресса знаний, в частности корпуса источников. Прочно утвердившись в 20–30-е годы ХХ в. под вывеской теории гештальта, но и благодаря успеху гётевской морфологии, этот формализм, даже таким методически богатым, каким он предстает, например, у Анри Фосийона, представляется сегодня сильно устаревшим. Вероятно потому, что поменялся сам масштаб восприятия. Согласованные схемы создавались не исходя из точности анализа, но рассматривая его результаты со слишком большого расстояния. Скульптура реймсского собора изучалась под слишком широким углом зрения, акцент делался скорее на видимых связях с Сент-Шапель или собором Парижской Богоматери, чем на внутренней логике самой постройки. Понимание стиля как филиации предполагает установление хронологии и существование некой идеальной формы, иначе говоря, нормативной и эволюционистской истории искусства. Идея филиации, по определению вмещающей в себя всякое произведение, как и линейной эволюции, в которой простейшие формы всегда помещаются в основании более сложных, отошла в прошлое. Подобные объяснительные схемы еще во многом зависели от естественных наук.
Лет пятнадцать назад мы вступили в новую фазу в развитии нашей науки, когда термину «стиль» стали придавать другое значение. Синтетический подход к стилю, взятый на вооружение начиная с XVIII в., сменился аналитическим. Это означает, что анализ форм должен отталкиваться не от априорных категорий, а от эмпирических данных о каждой формальной конфигурации. Вместо того чтобы заявлять о существовании единого стиля, – а такое утверждение предполагает либо включение произведения в некий заранее заданный корпус, либо исключение из него, – мы должны признать, что стиль отдельного произведения лишь одна из многих формул, которыми мастер мог воспользоваться. Сегодня нужно исходить из предмета, а не из системы. Жанр или стиль отдельного произведения обусловлен тремя факторами: заказчиком (и как следствие, первичным назначением произведения), эксплицитной или имплицитной моделью, субъективностью художника. Подчеркивая роль заказчика и условия заказа, предпочтение той или иной модели, мы считаем стиль результатом процесса выбора. Формы, характеризующие произведение, – это ответ на запрос, они относительны, а не абсолютны в самой своей данности. Иными словами, художник может пользоваться целым набором различных форм для произведений, предназначенных разным заказчикам или с различными функциями, на что указал уже великий Якоб Буркхардт. Сама античная риторика оставила нам категории, которые следует использовать в области изобразительных искусств, хотя, конечно, с осторожностью. Я имею в виду genera dicendi: stilus humilis, stilus mediocris и stilus gravis[65]65
Стили речи: низкий, средний, высокий (лат.). – Примеч. пер.
[Закрыть]. И зодчество, благодаря своей особой общественной значимости, и другие искусства в Средние века, несомненно, учитывали связь между формой произведения и его социальным назначением. Утверждение Бальдассаре Кастильоне или Лудовико Дольче о том, что художественное совершенство может проявляться разными способами, есть признание множественности стилей, их сосуществования в рядах одного поколения или в одном и том же месте и даже в одной мастерской.
Я постараюсь дать определение стиля, отталкиваясь от одного блестящего эссе Гёте, оставшегося, на мой взгляд, совершенно не востребованным. В понимании Гёте, стиль – это наивысшее проявление индивидуального гения: тогда как «простое подражание природе» (einfache Nachahmung der Natur) выражает лишь прямое отношение к природе, «манера» есть индивидуальный язык, эквивалент того, что мы обычно называем стилем.
Однако рождается он, лишь когда появляется с особым языком, основанным на самом сокровенном знании мира. Перед нами уже не область чистых форм, но морфология, т. е. внешние признаки организма, отношения между видимыми формами и жизненным началом.
Разовьем это определение: стиль не что иное, как прочная ткань, скрепляющая структуру с поверхностью, а поверхность – с мыслью. В противоположность формализму Ригля или иконологии Панофского, внешние формы или содержание (я вполне отдаю себе отчет в недостаточности этих терминов) не должны рассматриваться как нечто отдельное или вообще разобщаемое. Аналогичная ситуация и поучительные находки, как мне кажется, можно найти в области поэтики, кафедру которой еще недавно занимал здесь один из наших крупных писателей Ив Бонфуа. Говоря о поэзии Маларме, Поль Валери предлагал видеть в «форме смысла» отличие поэзии от прозы. «Форма смысла»: так и можно было бы определить стиль. Отсюда следует значимость, придаваемая описанию, отсюда и лексикологический императив, которые должны прийти на смену опыту Фосийона с его избыточной риторичностью. Это означает, что ни одно произведение не является эквивалентом другого, но, что, напротив, каждое формальное свойство может быть соотнесено с мыслью, с тем, что в ней есть от интенционально-го и от неинтенционального. Перед историком искусства стоит трудная задача разобраться в этом клубке интенций, причем идти впотьмах, недоступных сознанию, следует чрезвычайно осторожно. Осторожность здесь тем более необходима, потому что в этой области фантомы историка рискуют встретиться с фантомами художника или породить их.
Я хотел бы прямо сейчас рассмотреть ряд показательных в эвристическом и эпистемологическом плане вопросов, касающихся стилистической категории, одновременно многозначной и важной для историографии: речь пойдет о готике.
Это слово служит для обозначения в первую очередь архитектуры, которую можно охарактеризовать как первый ра дикальный разрыв с римской Античностью и с раннехристианской эпохой, в отличие от романской архитектуры, продолжавшей эту традицию. Этот разрыв был заложен в технических инновациях: изобретении стрельчатой подпружной арки, аркбутанов, каменного каркаса и тонкой стены, благодаря которым здания постепенно стали выше, легче и светлее. Но это еще не все. Готическая архитектура способствовала и обогащению профиля каменной резьбы в соответствии со все более прочно утверждавшимся рациональным требованием наделять каждый несущий элемент определенной функцией. Эта богатая профилировка придала постройке особую пластичность, основанную на настоящем, обладающем удивительной драматической силой диалоге между светом и тенью. Отсюда сильный визуальный эффект. И этот акцент совпадает по времени со стремлением Церкви особым образом выделить Боговоплощение. Почти театральное выставление напоказ в раках мощей святых, как и всеобщее желание верующих лицезреть поднятую над головой гостию во время Евхаристии – все это проявления того же стремления видеть. Зрение, как физическое, так и метафизическое, становится предметом размышлений Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Джона Пекама и Витело. То, что мы называем готикой, есть целый комплекс явлений, разбросанных между концом XI и концом XV в., – явлений, которые вводят нас непосредственно в Новое время. Вместе с тем это и рациональная архитектура, с рациональными технологиями, разделением труда и растущей специализацией профессии архитектора, чей статус художника постепенно утверждается и выходит за границы строительной площадки.
До рубежа XIII–XIV вв. архитектура – первое среди искусств, ей подчинялись все иные формы выражения священного. Но уже в XIV в. в живописи развилось чувство природы, в скульптуре, а затем и в станковой живописи появился портрет. Акцент на визуальных эффектах, обогащение художественного языка через наблюдение за окружающим миром, знания о котором художник разделяет с заказчиком, а иногда уже и с коллекционером, движимым любовью к прекрасному, – все это ставит нас на пороге Нового времени, в ту эпоху, которой историк Йохан Хейзинга поставил такой сумеречный диагноз. В конце своего развития готическая архитектура отдает предпочтение растительному орнаменту, нервюры превращаются в ветви, капители – в опоры для густой листвы. По словам Фосийона, эта иррациональность породила фантастическую готику. Навязчиво подражая природе, форма пришла к отрицанию самой возложенной на нее функции. Именно к декоративной вычурности, а не к структуре поздней готики относятся язвительные комментарии итальянцев.
Я сейчас говорил о готике как о явлении исключительно архитектурном. Как же выявить черты так называемой готической скульптуры? Да и существует ли она? Есть ли хоть малейшее родство между антикизирующими формами, которые мы встречаем в Шартре и на Мозеле около 1200 г., и куртуазно изящными фигурами из Иль-де-Франса или Шампани около 1300 г.? Или между широкими складками одежды, этой элегантной полифонией изгибов так называемой интернациональной готики и прерывистыми, произвольно изломанными драпировками, словно заковывающими бургундские статуи XV в. в минеральную оболочку? Можно также задаться вопросом, как относились к формальным правилам современники. Тот же Петрарка, первым назвавший свою эпоху «tenebrae»[66]66
Тьма (лат.). – Примеч. пер.
[Закрыть], известный своей любовью к изящной латинской словесности, восторгался самым готическим из итальянских мастеров, Симоне Мартини, приучившим Сиену к орнаментальной элегантности северной живописи.
На самом деле архитектура, называемая готической, представляет собой первую фазу технического и эстетического развития, прерванного Возрождением и витрувианством, но возобновленного в XVIII в., чтобы одержать триумф в XX столетии. Интерес к этой архитектуре никогда не угасал, но вкус к ней скрывали, ведь он противоречил официальным канонам, отклонялся от нормы, подобно гротеску, осуждавшемуся Витрувием и Горацием.
Переоценка готики шла тремя путями: с точки зрения ее национальной принадлежности, эстетического чувства и как конструктивной модели, противоположной классицизму.
Началось с национального вопроса. Согласно Вазари, немецкий стиль был изобретен готами после разрушения античных построек. Впервые варварский народ ассоциировали с готической архитектурой. Итальянские зодчие XV в. вовсе не употребляют термин «готическая» по отношению к архитектуре, ограничиваясь наименованием «tedesca»[67]67
Немецкая (итал.). – Примеч. пер.
[Закрыть]. Лишь в XVII в. иезуит Скрибиан заговорит о «готическом произведении», а П. Мориджа, описывая миланский собор, сделает «готический» синонимом «тевтонского». Гёте с его гимном легендарному строителю страсбургского собора (памятника, в его глазах, вполне немецкого) вовсе не был первым, кто отождествил стиль с конкретным народом: в 1576 г.
Филибер Делорм в «Архитектуре» характеризует стрельчатый свод как «вид перекрытия, называемый строителями “на французский манер”». Для Джона Лоудона в его «Трактате» (1806) готика более, чем любой другой стиль, есть «порождение» английского климата и требований английской архитектуры. Уже около 1730 г. Шипионе Маффеи отрицал связь готической архитектуры с племенами готов, но лишь в 1843 г. Франц Мертенс выявил в церкви аббатства Сен-Дени очаг готического искусства. Тогда полемика на время утихла, но ученые вплоть до 1930-х годов будут стремиться сделать из готической архитектуры северный, прежде всего, германский феномен.
Затем готика стала предметом эстетического опыта. Высота сводов и стрельчатых башен порождала у наблюдателей XVIII в. чувство опасения или страха – то, что называлось возвышенным, эстетический опыт, роднящий альпийские вершины со шпилем страсбургского собора. Фреар, Ложье, Суффло и многие другие находили в безмерности готики нечто тревожное, ужасающее. Согласно Лоудону, «общее впечатление от собора этого стиля во многом превосходит чувства, которые способна вызвать любая греческая постройка, потому что создает живительно возвышенное ощущение, соответствующее замыслу, направившему его строительство». Однако готика обладает и другой особенностью, которая раскрылась в эклектичности ландшафтных садов: она гораздо лучше, чем любой другой стиль, вписывается в природные заросли, потому что в последней фазе своего развития она имитирует форму растений. Именно поэтому она стала ассоциироваться с другой категорией эстетики, разработанной в XVIII в., – живописностью. Сама схожесть колонн и сводов с деревьями и лесом предопределило гармоничное слияние этой архитектуры с природой. Именно об этом пишет Шатобриан в «Гении христианства», сильно способствовавшем обновлению религиозного чувства: «…в готическом ордере… шпили контрастируют с округлостью небесного свода и изгибами горизонта. Готика, сплошь состоящая из пустот, гораздо лучше подходит для украшения растениями и цветами, чем массивные греческие ордеры. Двоящиеся нити пилястр, купола, рассеченные изнутри в виде листьев или вогнутые в форме корзин для плодов, превращаются в клумбы, на которые ветра приносят, вперемешку с пылью, семена плодов. Живучка пробивается сквозь известь, мох мягко обволакивает неровные руины, ежевика высовывает свои бурые колечки из оконного проема, а плющ, проползая вдоль северных монастырских галерей, гирляндами спадает с арок».
Наконец, готика очень рано начинает восприниматься как альтернатива классической архитектуре, например, в иезуитских церквях, став как бы гарантом преемственности Римской церкви. Стремление достичь эстетического единства или стилистической целостности также породило поиск форм, подражающих готике: на протяжении всего XVII в. для трирского аббатства Св. Максимина или в XVIII в. для собора Св. Павла в Лондоне. В базилике Св. Петрония в Болонье, незаконченной готической церкви, в XVI в. ведется поиск решений для главного фасада, а именно готических форм, ради сохранения гармонии с существующим зданием, или же смешения готических и классических элементов. Дебаты о единстве стиля возобновятся в Милане, но также и в Орлеане по поводу собора Сент-Круа, еще одной готической постройки, разграбленной гугенотами, для которой Людовик XIV высказался за «готический ордер» из соображений «уместности».
Столкнувшись с проблемами, связанными со стабильностью купола церкви Св. Женевьевы, Суффло и его критик Патт отдали предпочтение изобретательности и новизне, но также и экономичности готических зданий. Утверждение о том, что легкость готики должна поправить греческую тяжеловесность, станет настоящим топосом в XVIII в. Когда же архитектура освоила железо и стекло, наступил «ренессанс» готики, причем не в форме исторической парафразы старых формул, а с применением основных принципов, составлявших сущность и новизну готики: прозрачных фасадов, как в парижской Сент-Шапель, каменного каркаса, как в церкви Сент-Урбан в Труа или в Бове, чрезмерных масштабов, как в Кёльне или Бурже. Если мы внимательно присмотримся к выдающимся постройкам XX в., то заметим, что часто в них развивается, обогащается и модернизируется ряд открытий, сделанных между 1140 и 1350 гг. на северо-западе Европы. Именно эти открытия во многом составляют архитектурную культуру таких людей, как Пëльциг, Бруно Таут, Мис ван дер Роэ, Гропиус, Нимейер, Гауди, но также и Нерви, Годен, Гери и др. Освободившись от классического идеала, современная архитектура одновременно приобрела возможность вдохновляться тем, что этот идеал отвергал: статически и эстетически переосмысленной стеной, самонесущими конструкциями, предварительным производством стандартных деталей и, возможно, главным – функцией, отчетливо различимой через форму. Именно в последнем свойстве инженеры начиная с XVIII в. смогли увидеть принцип, подходящий для обновления строительного дела. Будучи расцененной Вазари как недопустимое отклонение от классических норм, в XVIII в. готика становится единственным способом противостояния не только грекомании, но и, как ни парадоксально, странностям барокко: именно ее использует Маффеи, критикуя искусство Борромини.
* * *
В заключение я хотел бы обозначить в общих чертах теоретическую основу моего преподавания в Коллеж де Франс.
Сначала напомню слушателям и себе самому главное: как нет истины в искусстве, так нет ее и в истории искусства. Она пишется с многих точек зрения, каждый взгляд свидетельствует об особом критическом восприятии предмета, восприятии, которое зиждется на знаниях и личном понимании истории. Наши теории искусства, в большинстве случаев остающиеся не сформулированными, служат украшениями наших выкладкам, потому что мы обычно склонны искать в фактах, т. е. в произведениях, скорее подтверждение теориям, чем подвергать последние проверке. Иллюзорная вера в некую истину чаще всего рождается в результате этой встречи, казалось бы, случайной, а на самом деле тщательно подготовленной, между взлелеянной нами теорией и милыми сердцу фактами. Утверждение о том, что произведения, принадлежащие отдаленному прошлому, сегодня доступны нашему взору, а значит, и пониманию, порождает позитивистскую иллюзию. На поверку благодаря накоплению знаний каждое произведение оказывается гораздо сложнее, чем выглядело прежде. Предлагаемая нами интерпретация уникальна, но и изолирована, и даже если нам удается получить новые сведения (локализация, идентификация автора или заказчика, архивный документ), они остаются предметом дискуссии и могут быть оспорены столь же обоснованными, но противоречащими им данными, которые иногда могут поставить вопросы, далеко выходящие за рамки специального исследовательского поля.
Вот почему наша наука должна работать одновременно в двух направлениях: присматриваться к формам и к техническим средствам, благодаря которым они таковыми стали, а также стремиться к пониманию того, что скрывается за внешней оболочкой, потому что дух нуждается в понимании духа. Именно историк искусства в большей степени, чем эстетик, интересуется этими аспектами произведения, потому что его задача в том, чтобы реконструировать их историю во всем их своеобразии. Существуют история техники, история форм и, наконец, история творящего духа. Мы можем размышлять о принадлежности техники или форм тем или иным системам. Но когда мы начинаем интересоваться их историей и историей их авторов, внезапно возникают разрывы или неуловимые связи, скачки и остановки, однако на историческом уровне техника и формы, выбранные тем или иным мастером, не сопоставимы. Временные характеристики, свойственные этим аспектам произведения, не составляют однородной стратиграфии, даже если нам хочется так считать по естественной склонности нашего духа.
Со всей отчетливостью проявляется значение всех дискурсивных практик, разрабатываемых нами с целью достижения этого знания об искусстве. Они изучают не реальность предметов, а результат конструирования. Сам по себе язык содержит эмпирическую составляющую, в которой отражается, после прохождения ряда свойственных ему концептуальных операций, часть чувственного опыта искусства. Конечно, мы не смотрим посредством концепций, но как только мы пытаемся сказать что-либо о том, что видим, каким бы простым ни было высказывание, мы прибегаем к языковым категориям, которым чувственный опыт будет вынужден подчиниться.
Когда мы пишем об искусстве, никогда нельзя забывать, что мы занимаемся своего рода транскрипцией: она настойчиво возвращает нас к памятнику. Но эта интимная близость к произведению, какой бы она ни была насущной для историка искусства, ничего не меняет в его положении, как только он берется за перо, потому что в этот момент он уже в области мысли.
Писать об искусстве – значит взять на вооружение исторически обоснованную позицию по какой-то проблеме истории. Историк искусства прошлого не может делать вид, что он абстрагируется от той или иной имплицитной или эксплицитной теории искусства, которую он передает нам и которая предполагает занятие определенной позиции по отношению к современному искусству. Тогда как искусство прошлого образует завершенное целое, сегодняшнее искусство, расширяя наш эстетический горизонт, каждодневно влияет на взгляд, которым мы смотрим на это прошлое. Анализ форм дискурса, лежащей в его основе идеологии и поясняющей его художественной теории позволяет понять само развитие историо графии искусства. Наука, способная изучать собственные истоки и развитие, размышляющая о прославивших ее ключевых фигурах, обнаруживает подлинную способность к самообновлению. Она предполагает в историке искусства саморефлексию, умение задаваться вопросами о собственном опыте, методах и эпистемологии. Возможно, благодаря решающему вкладу Ролана Барта и Мишеля Фуко мы способны сегодня увидеть, что есть в работах историков искусства от дискурсов более широкого плана, а что – от структурирующих эти дискурсы идеологий. Способны понять, что мы действительно делаем, занимаясь историей искусства. Необходимо научиться приспосабливать методы искусствоведения для достижения новых целей, а не наоборот. Методы не являются ни навсегда заданными, ни главенствующими.
Наконец, я уверен в том, что историк искусства несет социальную ответственность. Жан-Пьер Бабелон и Андре Шастель не так давно в знаменательной статье напомнили, что идея культурного наследия восходит к культу мертвых у первых христиан. Сегодня культ сохранился, а адресат сменился. Светское паломничество, окрещенное «днями наследия», не способно заменить родовое сознание. У паломника от верующего осталась лишь поза. Топография наследия не может сама по себе структурировать память, ослабевшую и обманчивую, содержащую расплывчатые, иллюзорные представления о каком-то наследстве, знакомом лишь по внешней оболочке. Историк искусства должен быть всегда начеку, чтобы увидеть опасность, угрожающую памятнику. Его голос должен громко звучать, когда начинают судить и рядить об экономической выгоде удивительно богатого, но находящегося под постоянной угрозой культурного заповедника. Но главное, он должен уметь представить каждое произведение своеобразным «островком», освободить его от разного рода манипуляций, совершенно бесполезных, но милых сердцам описанных Прустом «пленников», топящих любой памятник в «декоре» и «антураже». Наконец, каждое произведение он должен связать с единичным творческим опытом, т. е. показать, что в нем есть уникального и чем уникален созерцающий его взгляд.