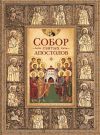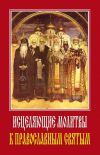Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Перед нами поперечный разрез трехнефной церкви глубиной менее десяти сантиметров со стрельчатыми арками, усеянными пинаклями. Лицевая сторона открывается тремя нишами: две боковые занимают св. Франциск и св. Клара с поднятыми вверх руками и запрокинутыми головами. Они смотрят в центральную нишу, на две трети закрытую решеткой из четырехлепестковых розеток, позволяющих видеть святые реликвии. В центральной арке Христос демонстрирует раны, напоминая о таинстве евхаристии. Часовня покоится на широком постаменте, на котором, стоя на коленях, молятся три францисканки меньшего роста по сравнению с почитаемыми святыми: они служат посредницами между верующими и святыми их ордена, а те в свою очередь свидетельствуют о присутствии реликвий и тела Христова. Эта система связей основана на настоящей благочестивой сценографии, в которой важнейшую роль играют жесты.
Необычную иллюстрацию такой активной визуализации представляет собой рука-реликварий из сокровищницы собора в Эссене. В отличие от большинства реликвариев этого типа рука в данном случае не благословляет. Она держит пятигранную часовню, возможно, напоминавшую Гроб Господень и некогда содержавшую реликвию. Интересно то, что этот предмет не результат позднейшей переделки: рука является частью реликвария начала XIII в., а в конце того же столетия благословляющую руку заменили на руку, демонстрирующую центрическую в плане церковь – второе вместилище реликвии, к тому же тоже руки. На реликварий была наложена выполненная в черненой эмали пластинка с изображением донатора – лежащей со скрещенными руками аббатиссы Беатрисы из Хольте.
Идея сделать очевидной для взгляда связь между реликвией, т. е. содержимым, и сценой, т. е. содержащим, утвердилась легко, поскольку многие реликварии во время Великого поста были закрыты покрывалами, что засвидетельствовано уставными книгами Шартра и Амьена. Открытие их по истечении поста заставляло взгляд искать путь к тайне с помощью предназначенной для этого собственной мизансцены реликвария. Требование показывать гостию и желание созерцать реликвии – это явления почти одного времени. Можно даже считать, что необходимость видеть гостию была лишь симптомом какого-то более важного явления, прелюдией которого еще раньше стала ритуальная демонстрация реликвий вне реликвариев.
Мы видели, что дарохранительницы начали распространяться не ранее XIV в. Нужно также подчеркнуть, что эти предметы зачастую содержали и гостию, и реликвии. В 1328 г. аррасский ювелир приспособил ларец для святого шипа под дарохранительницу. Инвентарь сокровищницы парижской церкви Сен-Сепулькр, составленный в 1379 г., упоминает дарохранительницу в форме статуэтки Иоанна Крестителя, несущего «небольшой сосуд с Агнцем Божиим и еще один сосуд с двумя хрусталиками, чтобы нести Тело Господне в этот праздник». То есть можно было вынуть гостию из руки святого и заменить ее реликвиями. Двойная функция некоторых реликвариев и сосуществование гостии и мощей святых в одном сосуде засвидетельствованы не раз.
Взятие Константинополя и массовый вывоз реликвий и икон, конечно, не объясняют всех изменений, произошедших с формой реликвария, но несомненно им способствовали. Реликвии и их «протореликварии» очень почитались на Западе и ранее, а тут они получили новое значение, в том числе эстетическое. Одновременно с этим новое историческое значение обрели и мощи. Отделенная от святого тела или предмета, тем самым освобожденная от физической ассоциации с определенным объемом, реликвия характеризовалась теперь прежде всего своим небольшим размером. Бесформенный фрагмент, едва различимая материя, она получает какой-то смысл только в свете текстов – особенно подлинных, – и capsa, в которой она хранится. На самом деле эта «оправа» рождает целый ряд новых ассоциаций помимо элементарной идентификации реликвии: в определенном смысле реликварий сам призван удостоверить ее подлинность, что выражено догматической программой его иконографии. Реликварий способствует эффекту «перевернутого величия», о котором говорит Питер Браун. Роскошь орнаментального или фигуративного украшения святых мощей поражает верующего: в Нуайоне могила-реликварий св. Элуа во время Великого поста закрывалась тканью, потому что блеск ее драгоценных камней совсем не подобал этому периоду церковного календаря.
Благодаря такому облачению реликвия стала частью тех бесчисленных творений, которые человек посвятил славе Божией. Парадоксальным образом, именно внутри такой наполненной мерцающим светом часовни и с ее помощью мизерная частица, по словам Виктрис Руанской, оказалась «связанной со всем величием вечности». Это, конечно, не нравилось Гвиберту Ножанскому, суровому критику и историку культа мощей. В начале XII в. в трактате «О мощах святых» он осуждал использование реликвариев, слишком роскошных на его вкус: выставление напоказ реликвий в таких ковчегах равнозначно торговле и даже шарлатанству. С замечательной остротой он нашел и механизмы возникновения нового культа, и причины сопровождавших его эксцессов, поэтому его анализ имеет значение для понимания всего Средневековья. Можно заметить, как реликвия постепенно перемещается внутри реликвария: в статуэтках-реликвариях реликвия помещается поначалу внутри нее самой; в XIII в. она обычно лежит под хрустальной линзой, а в конце XIV в. она кладется внутрь цоколя, оставляя свободным собственно изображение. Она уже не часть художественного образа, а лишь повод для его создания.
Два примера могут проиллюстрировать это изменение. Один из них – уникальное произведение из художественной галереи Уолтерс в Балтиморе, реликварий для шипа из тернового венца, датируемый почти точно 1347–1349 гг. Шип вставлен в небольшую увенчанную стрельчатой аркой таблетку высотой сантиметров в пять, которую несет коленопреклоненный ангел. На том же прямоугольном цоколе лежат игральные кости, два ангела держат молоток, гвозди и прут, стоят столб истязания с петухом на вершине (намек на отречение Петра) и крест (два этих последних предмета также заключали в себе реликвии). Доминирует над всеми этими орудиями Страстей, arma Christi, стоящая фигура Христа в набедренной повязке, с терновым венцом на голове и со скрещенными руками согласно хорошо известному типу «образа сострадания», imago pietatis, известному по иконе из Санта-Кроче-ин-Джерузалемме в Риме.
Но в отличие от общепринятой иконографии у страдающего Христа в данном случае открыты глаза. Это настоящий образ для поклонения, культ которого предполагал диалог между верующим и Христом. Можно было молиться собственно arma Christi, но в сопровождении реликвий – Шипа, Креста, Колонны – они требовали особого почитания. В лицевую часть венца вмонтирован рубин, что, возможно, соотносится с одним гимном XIV в. («Драгоценные камни сияют [в Его венце], как искры, это капли крови»), но его положение на фигуре Христа могло также обозначать присутствие в статуэтке реликвии. Такое намерение, отражающее богословскую рефлексию, подтверждается существованием зафиксированных в разных контекстах молитв, относящихся к Страстям, к ранам, к божественной крови. Геральдическое размещение arma Christi, особенно в этом предмете, способствовало как запоминанию молитв, так и их последовательному чтению. Такое размещение, подчеркнем это, имело в Средние века не эстетическую, а мнемотехническую функцию, способствовало активизации памяти. В отличие от реликвариев XIII–XIV вв., где реликвия была предметом разработанной мизансцены и подчиняла себе всю выразительность жестов, она превратилась здесь просто в дополнительную силу, уже не определявшую размещение фигур.
Другой пример – это один из шедевров парижского ювелирного искусства 1400 г., хранящийся в сокровищнице собора в Эстергоме (Венгрия) и известный как «Голгофа Матяша Корвина». Она изготовлена в технике объемной золоченой эмали. Распятие и стоящие по бокам Дева Мария и св. Иоанн Богослов поставлены на часовенку с контрфорсами, под которыми можно видеть фигурки пророков (Илия, Исайя и Иеремия); внизу, на оси Креста, Христос, привязанный к столбу, идентифицируется с иконографическим типом Христа в доме первосвященника. Инвентарь, составленный после смерти герцога бургундского Филиппа Смелого, упоминает эту голгофу и добавляет, что он был подарен ему Маргаритой Фламандской в 1403 г. В центре креста, с обратной стороны есть выемка для хранения частицы Животворящего Древа. Несмотря на отличия в иконографии, этот предмет напоминает композицию другой голгофы – «колодца Моисея», созданного Клаусом Слютером для герцогской обители Шанмоль. Драгоценность произведения («Крест украшен пятью рубинами, двумя резными камнями, сорок одной большой жемчужиной и многочисленными средними жемчужинами») противоречит патетике трех основных фигур. Но его сверкающая красота и драматичность композиции привлекают гораздо большее внимание, чем присутствие реликвий.
Физика и метафизика зренияОставим на время предметы, чтобы снова вернуться к тем текстам, которые показывают, какое большое внимание Средние века уделяли проблемам, связанным со зрением, начиная с азов – оптики, заканчивая высшим выражением – мистическим видением. Обе формы должны рассматриваться как деятельность интеллекта, ищущего путь к невидимому через видимый мир.
Роберт Гроссетест считал, что зрачок является предметом исследования двух областей знания – оптики и науки о природе: «Зрачок должны изучать и оптик, и физик» (Et perspectivi et physici est speculatio de iride). Уже для Плотина произведение искусства было «зримым образом вещи», влияние которой оно испытывает, «подобно зеркалу». Оптическое восприятие приобретает при этом особую значимость, поскольку согласно этой идее сам орган зрения играет и метафизическую, и психологическую роль. Расстояние между глазом и объектом может привести к неправильному восприятию в силу «сокращения, которое уничтожает цвет и уменьшает размер». В изображении первый план должен быть отдан предметам или созерцанию: «Глубина – это материя, поэтому она – тьма. Свет, ее освещающий, – это форма, и ум созерцает форму. Созерцая форму некоего сущего, он видит, что глубина этого сущего – тьма, помещенная под светом. Светящийся глаз, направляя взгляд на свет или цвета, эти сгустки света, различает существование темного и материального фона, скрывающегося под цветной поверхностью». Чтобы правильно увидеть образ, «глаз должен уподобиться видимому предмету», а зритель – прибегнуть к помощи «внутреннего ока». Благодаря «умному зрению» человек может абстрагироваться от пространственной протяженности, окружающей его физический глаз. Уничтожение этой преграды – непременное условие для такой потери сознания, которая в буквальном смысле позволяет нам раствориться в едином.
Поставленная таким образом проблема зрения стала отправной точкой всякого описания мистического опыта на протяжении всего Средневековья начиная с Бернарда Клервоского: зрение как излучение есть прототип мистического видения.
В средневековой мысли всякая вещь отсылала к сверхъестественному, и взгляд призван был к тому, чтобы пересечь видимую непрозрачность материальных вещей. Но сама эта материя необходима. Уже в сочинении «О небесной иерархии» псевдо-Дионисия Ареопагита можно прочитать: «Совершенно невозможно, чтобы наш человеческий ум смог нематериально уподобиться небесной иерархии и созерцать ее, не опираясь на материальное, способное вести нас, уподобляясь нашей природе». Данте говорит, что искусство располагается на трех уровнях: в уме художника, в инструменте и в материале. Для Иоанна Скота Эриугены всякая материя прекрасна. Вспомним слова, которые аббат Сугерий приказал написать на вратах перестроенной его стараниями церкви Сен-Дени.
У нас еще будет возможность вернуться к этому аспекту средневековой мысли. Сейчас нужно напомнить, что «Апология к Вильгельму» не отрицает необходимость искусства в религиозной жизни. Она отвергает лишь то, что пахнет язычеством, особенно внутри монастырских стен, то же, что привлекает паству, – разве не благотворно? Чувства вообще, и в частности зрение, для Бернарда, конечно, не являются самым надежным путем, приводящим верующего к Богу, но отрицать значение зрения в принципе он не мог. Позже Винсент из Бове будет учить, что видимая красота может служить «началом пути к Богу».
Мы утверждаем, что совершенно новое отношение к произведению искусства рождается в XIII в. – в эпоху, когда центральное значение придается оптике или перспективе. Если оптика (или перспектива) – синонимичные для того времени понятия – представляет собой основную главу в истории философской, богословской и научной мысли XIII в., то это не значит, что именно она породила новую концепцию искусства. Интерес к оптике со стороны прежде всего францисканских богословов сопровождался открытиями в изучении собственно зрения. Роль визуального свидетельства в евангелической жизни св. Франциска или зрения в культе реликвий подсказывает, что глаза обладали и некой метафорической функцией: как напомнил Роджер Бэкон, свет распространяется так же, как божественная благодать, а чувственный опыт в сочетании с научным опытом помогает интеллекту в его поиске Бога. Другой францисканец, Варфоломей Болонский, написал трактат «О свете» (De luce), где доказывал, что Бог-Свет есть источник всякого света. Таким образом, изучающая природные свойства света оптика стала частью богословской мысли.
У Роджера Бэкона можно найти различные способы применения оптики, точнее говоря, он различает три типа зрения: прямое, отраженное и преломленное. Подобно лучам естественного света, свет истины падает прямо на совершенные души, преломляется на несовершенных душах и отражается от душ неправедных. В области духовных истин прямое зрение представляет собой лицезрение Бога, преломленное – созерцание ангельских духов, наконец, отраженное являет духов, заключенных в тела.
Для францисканца Бонавентуры божественная сущность – это свет; и всякий свет, аналогично, есть отражение своего трансцендентного источника, что выражается глаголом relucere. В мистическом экстазе размышление сменяется «опытным познанием», cognitio experimentalis: прикосновением, ощупыванием, впитыванием. Не мысль, а любовь распространяется дальше, чем зрение (Amor […] multo plus se extendit quam visio).
Многие средневековые богословы признают, что зрение самое совершенное из наших чувств. «Высшие и светоносные тела проникают через зрение» (Per visum intrant corpora sublima et luminosa), писал Бонавентура. Фома Аквинский говорил: «Благодаря зрению, самому тонкому из чувств и указующему разницу между вещами, человек может свободно всесторонне познавать чувственные объекты, вещи небесные и земные, чтобы через них постичь умозрительную истину». Для Роджера Бэкона глаз как совершенный орган соответствует совершенной форме сферы…
Философы XIII столетия не были первыми, кто заинтересовался оптикой, а также анатомией и физиологией глаза. Его истоки в греческой мысли, воспринятой и обогащенной арабами. Из латинских переводов арабских трактатов XIII в., в свою очередь, познакомился и с оптикой Евклида и Птолемея, и с «Функциями частей тела» Галена (De usu partium), где, в частности, идет речь об анатомии глаза. Арабские сочинения «Оптика» (Perspectiva) Альхазена и «О зрении» (De aspectibus) аль-Кинди обогатили греческие источники, из которых они черпали материал для собственных опытов.
Оптика XIII в. отмечена творчеством четырех крупных авторов: Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Иоанна Пекхама (все они английские францисканцы) и Витело из Силезии. Бэкон очень пространно описал анатомию и физиологию глаза в своей «Оптике». Процесс зрения происходит не в глазе, а в мозге: «Два нерва, идущие от двух сторон передней части мозга, сходятся в общем нерве на поверхности мозга, а потом, расходясь, достигают глаз» (Hoc est nervus communis in superfcie cerebri, ubi concurrunt duo nervi venientes a duabus partibus anterioris cerebri, qui post concursum dividuntur, et extenduntur ad oculos). Далее он следует Альхазену: «Поскольку крайний чувствительный элемент находится в передней части мозга, некоторые предполагают, что в нем и обретается мышление, а также воображение или фантазия» (Quod istud ultimum sentiens est in anteriori parte cerebri, videtur sic alicui, quod esset sensus communis, et imaginatio, vel phantasia, quae sunt in anteriori cerebro).
Тоже вслед за Альхазеном Витело описывает глаз как водянистую субстанцию из трех жидкостей, humores, окруженную четырьмя «оболочками», tunica. Местопребывание зрения – в середине глаза, в «кристаллической или ледянистой жидкости» (humor crystallinus vel glacialis), составляющей внешнюю часть «ледянистой сферы» (sphaera glacialis), в то время как задняя часть называется «стеклянистой жидкостью» (humor vitreus). Хрусталику предшествует «белковая жидкость» (humor albugineus), похожая на белок в яйце. «Стеклянистая жидкость» и хрусталик окружены «оболочкой паука», или «сетчаткой» (tunica aranea, tunica retina), а вся «кристаллическая жидкость» с «белковой жидкостью» окружена «виноградной оболочкой» (tunica uvea), поскольку она похожа на виноградную ягоду. Лицевая сторона этой кожицы имеет отверстие, зрачок, через который воспринимаются предметы. Жидкость не вытекает из него благодаря «роговой оболочке» (tunica cornea), которая продолжается по сторонам в виде непрозрачной кожицы, называемой «соединительной» (coniunctiva) или «закрепительной» (consolidativa). «Оптический нерв» (nervus opticus) представляет собой две полые оболочки, содержащие вещество, делающее возможным зрительный акт: «зрительный дух» (spiritus visibilis). Эти оболочки рождаются в передней части мозга, соединяются в единый нерв (nervus communis) и снова расходятся. Внутри общего нерва также течет «зрительный дух» – в нем и происходит визуальное восприятие, «функция различения» (virtus distinctiva).
Витело вместе с Альхазеном не соглашается с платониками в том, что глаз испускает лучи, которые как бы обволакивают предмет, чтобы его ощупать. Напротив, световые лучи вместе с цветами проникают в собирающий их глаз, который пропускает их в общий нерв, обладающий способностью суждения. Таким образом, глаз воспринимает «формы» или «интенции форм», которые Роджер Бэкон называет «видами» (species).
Альхазен перечислял двадцать два видимых предмета (visibilia), которые упоминаются вслед за ним у Витело и Бэкона. Речь идет прежде всего о свете и цвете: «Никакой видимый предмет не воспринимается одним лишь зрением, кроме света и цветов» (Nullum visibilium comprehenditur solo sensu visus, nisi solum luces et colores). Согласно заимствованному у Аристотеля определению свет, будь то источник или отражение, является основой цвета: «Свет есть ипостась цвета» (Lucis quae est hypostasis coloris). Эти два видимых предмета «видимы сами по себе» (visibilia per se), поскольку они воспринимаемы лишь с помощью зрения, в то время как остальные двадцать, в восприятии которых помогают и другие чувства, «видимы акцидентально» (visibilia per accidens). Речь идет об удаленности, величине, месте (situs), телесности, форме, отношении зависимости, разделении, числах, движении, покое, шероховатости и гладкости, прозрачности, плотности, тени, темноте, красоте, уродстве, бесформенности. Для такого апологета опытного знания, как Роджер Бэкон, зрение, самое надежное чувство, предполагало от семи до десяти условий, необходимых для его совершенного использования: свет, расстояние, фронтальность, величину, плотность (выше, чем в окружающем предмет пространстве), разреженность окружающего пространства, распространение света в течение определенного времени.
Бэкон выделяет три способа зрительного познания: «Первое познание совершается с помощью исключительно ощущения, без участия души; так в целом познаются свет и цвет» (Est ergo prima cognitio solo sensu sine aliqua virtute animae, et sic cognoscuntur lux et color in universali). «Но если не забыто впечатление от собственного света увиденных прежде звезд, то это второе познание, называемое Альхазеном уподоблением» (Sed si non tradiderunt oblivioni imaginationem lucis proprie cujuslibet stellarum prius visarum, cognoscunt luces earum cognitione secunda, quae est per similitudinem secundum Alhazen). «Третий способ познания не может основываться только на ощущении и на сравнении с увиденным прежде, он рассматривает вещь независимо; для такого познания есть множество условий, и оно представляет собой нечто вроде рассуждения» (Cognitio vero tertia adhuc est, quae non potest feri solo sensu, et non est per comparationem ad prius visum, sed absolute considerat presentem rem; ad cujus cognitionem plura requiruntur, et est quasi quoddam genus arguendi).
Бэкон, напомним, разделял три вида зрения: прямое, отраженное и преломленное. Взгляд может использовать инструменты для усиления зрительной способности: сферу, квадрант, астролябию и т. п. Например, небесные явления не постижимы иначе, как только с помощью этих «удостоверяющих» приборов. Как знание можно проверить чувственным опытом, точно так же нашей внутренней наукой нужно считать озарение, которое Бэкон определял как метод познания духовных истин. Он видел в таинствах эквивалент оптических приборов: они составляют нашу внутреннюю науку, и среди всех евхаристия – это «удостоверяющая» истина, которая «обоживает» человека, «уподобляет его Христу».
При наличии идеальных условий, продиктованных Витело и Бэконом, становится возможным восприятие не только простых, но и составных форм, чья внутренняя организация построена на пропорции. Согласно Витело, одни формы должны быть увидены издалека, другие – с близкого расстояния. Материальный облик ласкает глаз больше, чем что-либо еще. Собственная красота есть у контура и у телесной массы, у непрерывного и у дискретного, у прозрачного и у мутного, у подобного и неподобного. «Объединение» внутри сложной формы гармонично, если основано на правильной пропорции. «Вся красота, возникающая при сочленении чувственных восприятий…состоит в подобающей формам пропорциональности» (Omnes pulchritudines ex coniunctione intentionum sensibilium…consistunt in proportionalitate debita formis). В некоторых условиях эстетическое восприятие может обмануть: при нехватке света, из-за большого расстояния, неправильно выбранного угла зрения, слишком малого или слишком большого размера формы, особенностей условий восприятия, свойств материала, слабости зрительного органа, краткости эмоциональной реакции.
Оригинальность мысли Витело по сравнению со схоластикой, оригинальность, которой он обязан Альхазену, это интерес к восприятию. Соединяя способность суждения с сенсорикой начиная со стадии восприятия, Витело опережает свое время и делает большой шаг к перцептивной психологии. Зрительно воспринимая предмет, пишет он, мы приписываем ему определенное положение среди известных нам предметов, в результате чего происходит вмешательство «универсальных форм» (formae universales), существующих в душе. Всякий предмет обладает своими собственными чертами, а также теми, которые объединяют его с другими предметами, – формой, внешним обликом, цветом (последний не является постоянным).
Следует, однако, выделить еще одно понятие, не аль-хазеновское, развитое Гроссетестом и особенно Бэконом: «вид», species. Автор трактата «Об интеллигенциях» (De intelligentiis), ранее идентифицировавшийся с Витело, писал, что «вид – это способность к воспроизводству» (species est virtus exemplar). Согласно Гроссетесту, зрение возможно потому, что вещь, или страдательное, patiens, и зритель, или действующее лицо, agens, производят species. Бэкон использовал этот термин постоянно и посвятил ему отдельный трактат, где species описываются как лучи или даже силовые потоки различного происхождения: от качеств, воздействующих на чувства, субстанций, материи, воплощенной в формы, органов чувств. Их не производят ни материя, ни количество, ни «чувственные вещи» вообще (sensibilia communia). Бэкон завершает свое повествование вопросом, не являются ли «виды» производными общих понятий.
Если говорить в терминах геометрии, существование species предполагает, что каждый предмет является вершиной пирамиды из линий, которые бесконечно умножаются и встречаются со species других предметов, например нашего зрения. Распространение «видов» делает очевидной активную роль зрителя и предмета, на который он смотрит. Между чувственными образами, произведенными двумя действующими лицами, существует общая траектория – зрительная ось, визуальная пирамида с agens в основе и patiens в вершине. Теория «видов» в определенной мере разрешала конфликт между эпикурейцами и пифагорейцами, известный в Древней Греции. Согласно первым, предметы передавали глазу свои eidola, что-то вроде верных слепков; вторые противопоставляли им существование сил, исходивших вовсе не из объекта, а из глаза. Стоики даже подвели под этот тезис геометрическую базу: по их мнению, сила глаза имела коническую форму.
В 1277 г. епископ парижский Стефан Тампье провозгласил возможность существования многих миров, заменив космос греков на растягиваемый до бесконечности универсум, который зиждился не на научных основаниях опыта, а на вере в божественное всемогущество. Тогда открылся путь, на котором разум мог бы расширить поле своих экспериментов, а наука могла бы показать, как это было в духе Роджера Бэкона, величие дел Божьих.
Мистика Майстера Экхарта связала проблему зрения и зримых вещей с идеей внутреннего опыта: «Один ученый сказал, что если бы не было посредничества, мы ничего бы не увидели. Чтобы я увидел цвет на стене, он должен истончиться в свете и в воздухе и его образ должен проникнуть в мои глаза. Св. Бернард сказал, что глаз похож на небо, он вмещает в себя небо; ухо на это неспособно, ведь оно его не слышит, как и язык, который его не пробует на вкус. Кроме того, глаз круглый, подобно небу. Наконец, он высоко, как и небо. Глаз получает отпечаток света, он обладает качеством неба». По Экхарту, глаз настолько похож на небо, что становится главным из наших чувств. Процесс зрения позволяет понять, что происходит в экстатическом видении: «Я думал…об одном сравнении, и если вы можете хорошо его понять, вы поймете и мой способ видеть, и глубинный смысл всех идей, которые я когда-либо проповедовал. Я сравнил мой глаз с деревом: когда он открыт, это глаз; когда он закрыт, это тот же глаз. Что касается дерева, от него ничего не убывает и к нему ничего не прибавляется вне зависимости от того, видит его кто-нибудь или нет. Поймите меня хорошенько! Но если мой глаз, единый и простой по своей сути, откроется и бросит взгляд на дерево, каждый останется при своем, и все же они как бы объединяются, так что истинно можно сказать “глаз-дерево”, дерево – мой глаз. Но если бы дерево было лишено материи и было абсолютно духовно, как взгляд моего глаза, можно было бы со всей очевидностью утверждать, что в процессе созерцания дерево и мой глаз составляют единое существо».
Николай Кузанский сформулировал своего рода аллегорию на тему умного зрения в определении Фомы Аквинского. По Кузанцу, свет распространяется в виде пирамиды, касающейся основания пирамиды тьмы, вершина которой, в свою очередь, соприкасается с серединой основания световой пирамиды. Между этими двумя базами, чередуя единство и множественность, располагаются области ума, души и тела.
Если Майстер Экхарт еще мог сказать, что «глаз сам по себе благороднее, чем глаз, нарисованный на стене», Николай Кузанский уже считал и написанный красками глаз символом взгляда и всемогущества Бога. В сочинении «О видении Бога» он представляет «образ Того, Кто видит все, что выражено в портрете, созданном совершенной живописью и обладающем тем свойством, что Он взирает на все окружающие предметы одинаково». Именно такому изображению он учил монахов конгрегации Тегернзее: взгляд, направленный одновременно во все стороны, приглашает нас к постоянному общению лицом к лицу, становясь метафорой «умного зрения», visio intellectualis. Это мистический опыт, поскольку в нем происходит смешение и в то же время единство в несхожести.
Почитатель Майстера Экхарта, Кузанец не раз мог встретить у него метафоры зрения и человеческого глаза. Например, в 64-й проповеди: «Писание говорит: “Моисей видел Бога лицом к лицу”. Учителя противоречат этому: там, где появляются два лица, нельзя увидеть Бога, поскольку Бог один, а не два. Ведь тот, кто видит Бога, видит лишь одного». В 48-й проповеди он определяет свойства духовного взгляда. Взгляд Всевидящего, для Кузанца, мог быть лишь метафорой «совпадения противоположностей» (coincidentia oppositorum) в человеческой душе: «Чем дальше она выходит из себя в иное, чтобы познать его, тем глубже она проникает в самое себя, чтобы познать себя» (Et quanto plus egreditur ad alia, ut ipsa cognoscat, tanto plus in se ingreditur, ut se cognoscat). Чуть больше она обращается к внешним объектам, тем определеннее она возвращается к себе. Этот «оптический» переворот обозначает своего рода крайнюю точку истории взгляда такой, какой она была написана метафизиками света.
В отличие от других исследователей мы считаем, что нет прямой связи между проблемами оптики, рассматривавшимися оксфордскими францисканцами, и новой концепцией пространства, о которой свидетельствует искусство Джотто в Ассизи. Ее источник следует искать в осуществлявшихся с середины XIII в. попытках включить эпизоды жизни Беднячка в реальный мир. В этом контексте методы, использованные Джотто для отображения третьего измерения, предназначались для усиления эмоционального воздействия на чувства верующего. Несомненно, однако, что вопросам зрения одновременно уделяют внимание в разной среде. Как не провести параллель между спекуляциями об оптике и новым значением, которое зарождающееся францисканство уделяло свидетельству воочию? Как не вспомнить, в связи с благоприятным воздействием, ожидаемым от святых реликвий, о тех species, которые от них исходят и встречаются с такими же активно действующими species, исходившими из глаз верующих? А столь разработанная драматургия реликвариев, которую мы описали, – не призвана ли и она подчеркнуть действие «видов»? Не позволяет ли она некоторым образом «нацелиться» на кусочек драгоценной материи, на то место в пространстве, в которое должна быть опущена «зрительная ось», axis visualis?