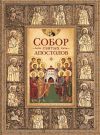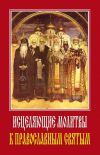Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Для Ригля и его последователей соотношение фигура/фон – одновременно проблема стиля и пространства. Завоевывая пространство, точнее, овладевая широким полем восприятия, современный сюжет использует в этом движении все возможности стиля. Для Фосийона формы, обретаемые фигуративной мыслью, всегда определяются некой «грамматикой», логической структурой, указывающей им их местоположение[14]14
В очерке о салоне 1926 г. Фосийон писал: «Искусство – не смутный инстинкт обезьяны и не случайное отображение предмета, оно – система, оно – порядок. Одна из наиболее хорошо знакомых и подробно откомментированных форм исторического гения начала XX в. – кубизм. …Какая разница, каким именно способом мы схватываем пересечение трех измерений пространства и ритма внутренней жизни, если это пересечение дарит нам очарование и красноречивость живописной формы? …Есть кубизм Глеза, и есть кубизм Пикассо: последний просто дал материал для нового стиля… у каждой эпохи свой тон, свой язык, вернее своя грамматика» (Focillon H. Les Salons du 1926 // Gazette des Beaux-Arts. 1926. Année 68. P. 257–280).
[Закрыть]. В отличие от немецких и заокеанских историков искусства он ориентировался не на психологию восприятия. Фосийон рассматривает конкретное произведение как идею, выраженную в податливой материи, и, как всякая идея, она нуждается в «словаре», «синтаксисе», «грамматике», иногда она может становиться «диалектической», иногда «силлогизмом». В разработанных им концепциях «пространства – среды» и «пространства – границы» термины «среда» и «граница» говорят об отношении пространства к форме. Здесь нет никакой нерешительности, никакого переворота в паре фигура/пространство: всякая форма исходит непосредственно из сознания, а «пространство – фон» рассматривается лишь в рамках оказываемого им на форму воздействия, словно подмастерье. Понятно, почему Фосийон все время говорит о «чтении»: текст читается независимо от формы, размера, цвета фона, на котором он написан и который ничего не меняет в его смысле.
«Художественную волю» Ригля, поиск структуры у Зедльмайра и порядка у Фосийона объединяет принцип унификации, тот же, что лежит в корне стиля.
Пространство и картина как проекцияНужно остановиться еще на двух важнейших текстах, посвященных вопросам пространства в западноевропейской живописи: эссе Панофского, опубликованном в «Докладах Библиотеки Варбурга» в 1927 г., и статье Отто Пехта, появившейся в 1933 г. в сборнике, объединившем венских «структуралистов» под крылом Зедльмайра. Между этими датами Дагоберт Фрай написал «Готику и Ренессанс», где также большое внимание уделяется пространству.
Само название работы Панофского «Перспектива как “символическая форма”» отсылает к «Философии символических форм» Эрнста Кассирера[15]15
Первый том, посвященный языку, вышел в 1923 г., второй, о «мифологической мысли», – в 1924 г., третий, о «феноменологии познания», – в 1929 г., т. е. после эссе Панофского (1924–1925). Между тем именно идеи, представленные в последнем томе, могли особенно помочь историку искусства понять ту форму познания, которую он находил в геометрической перспективе итальянцев Кватроченто.
[Закрыть]: «Достижение в области перспективы было не чем иным, как конкретным выражением того, что в то же самое время происходило в гносеологии и натурфилософии». Способы репрезентации пространства, разработанные поздней Античностью и Ренессансом, соответствовали, согласно Панофскому, двум взглядам на мир: это утверждение означает, что пространство есть главная проблема живописи (а на самом деле, как мы увидим, и скульптуры).
Для Панофского центрический взгляд, которому итальянцы придали научный статус и научную функцию, представляет собой кульминацию целой серии экспериментов, как успешных, так и неудачных. Даже если Север «научился выстраивать правильную конструкцию эмпирическим путем», без этого пути нельзя было обойтись: «Легко увидеть, что художественное овладение этим систематическим (ренессансным. – Р. Р.) пространством, не только бесконечным и гомогенным, но еще и изотропным, предполагало прохождение средневекового этапа – и это несмотря на кажущуюся схожесть поздней римско-эллинистической живописи с Новым временем»[16]16
Позиции Панофского близко суждение Августа Шмарзова о Ринтелене, попытавшегося представить фрески Ассизи как этап поступательного движения к пространству в искусстве Возрождения: «Историко-художественные концепции Ринтелена объяснимы через его близкое знакомство с Ренессансом и соответствующими теориями Фидлера, Гильдебранда и Маре, с которыми его объединяет уверенность в том, что цель всякого искусства состоит в разъяснении видимого мира и подчинении его логике, словно бы не существовало в нем ни периодов, ни стилей, ни даже различных форм изобразительности» (Schmarsow A. Kompositionsgesetze der Franzlegende in der Oberkirche zu Assisi. Leipzig: Hiersemann, 1918. S. 136).
[Закрыть]. Ни византийское искусство, ни готика самостоятельно не могли бы пойти по такому пути: для этого понадобилось их слияние. «Современная» перспектива родилась в тот момент, «когда чувство пространства, свойственное северной готике, подкрепленное контактом с архитектурой и особенно со скульптурой, познакомилось с изображением зданий и пейзажа, фрагментарно сохраненным византийской живописью, и на этой основе создало нечто новое и единое».
Панофский старается подкрепить свое видение итальянской перспективы как выражение интеллектуального развития ссылками на некое «мировоззрение» (Weltanschauung), в хронологическом плане более позднее. С точки зрения «феноменологии познания» концепции мироздания Джордано Бруно или даже Николая Кузанского вряд ли позволяют найти истоки системы перспективы в мире идей.
В «Принципах формирования западноевропейской живописи XV в.» Отто Пехт исходит из совершенно иного представления о западноевропейском искусстве. Перспектива, по его мнению, не относится ни к области эстетики, ни к области «символики». Проблема пространства, в отличие от Панофского, вовсе не делается у него центральной в истории современной живописи: «законная сфера эстетики – это план (Fläche), воображаемая проекция на оптической поверхности».
Учитывая иллюзию трехмерного изображения, обоснованность понятия плана не вызывает сомнений. А значит, и картина подчиняется «двум взаимозависимым упорядочивающим принципам». «Область, управляемая одним из этих принципов, выходит за рамки изображения, последовательность же планов, вычерченных контурами, порождает самостоятельную целостность». Этот ограниченный контуром план есть проекция всякого предмета и всякой фигуры на плоскость картины, он, конечно, обладает определенным «эффектом пространственной иллюзии», но «контур» предмета придает ему и «значение сугубо плоскостное» (Flächenwert). Спроецированные планы зачастую представлены предметами, в изобразительном пространстве далеко друг от друга отстоящими, но, как отмечает Пехт на примере нидерландской живописи, сама «организация» (Gestaltung) планов и создает картину: «Не следует думать, что в нидерландской живописи изобразительная фантазия произвольно расставляет фигуры и предметы в реальном пространстве, она организует план, план как проекцию. Картину нужно читать сверху вниз, или, скорее, от заднего плана к переднему». Такую последовательность очерченных контуром планов в нидерландской живописи Пехт называет Bildmuster, позаимствовав этот термин у Теодора Хетцера. Bildmuster, или «изобразительный шаблон», это нечто вроде архимедовых «плавающих весов», на которых измерен даже формат картины. Поскольку любой спроецированный на плоскость план может, в свою очередь, стать планом проекции для другой формы (Пехт приводит в пример «Меродский алтарь» Флемальского Мастера, где на «Благовещение» спроецирован план кувшина), «ни один участок живописной поверхности не может считаться в полной мере “фоном” и “фигурой”, как в раннем Средневековье с его золотым или абсолютно пустым фоном, и поэтому всякая спроецированная форма амбивалентна» (илл. 3).

ИЛЛ. 3. Робер Кампен (Флемальский Мастер). Алтарь Мероде. Нью-Йорк, музей Метрополитен. <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category: M%C3%83%C2%A9 rode_Altarpiece>
Вот мы и вернулись к потенциальной равнозначности между «фигурой» и «фоном», в которой Ригль, как мы видели, нашел актуальность древних. В этой равнозначности, по Пехту, основной вклад Севера – точнее говоря, Нидерландов – в формирование искусства Нового времени: «Когда неорганическое, неодушевленное – мебель и утварь – обретают в соотношении планов равные права с человеком и, одновременно с этим, становятся чем-то вторичным, тогда единство видимого мира можно считать достигнутым». И для Панофского такое единство – необходимое условие для того, чтобы изображение пространства сделало первый шаг на пути к объективности. Пехт же считает, что оно как бы плоть от плоти компактного и лаконичного «изобразительного шаблона». В чем Панофский видит выражение «средневекового этапа», по необходимости предшествовавшего новому взгляду Возрождения? «Средневековье должно было сначала породить “массивный стиль” (Massenstil), чтобы в нем сформировался гомогенный субстрат для такого типа изображения, без которого невозможно было представить себе ни бесконечность пространства, ни его безразличие к направлению».
«Массивный стиль»: вот уж действительно неожиданный и мало что объясняющий термин. Чтобы прояснить его значение, нужно обратиться к другому тексту Панофского – к его «Немецкой скульптуре XI–XIII вв.» (1924). Там мы прочтем, что Средневековье, чтобы превзойти античное искусство, выработало некий «стиль массы» (Stil der Masse): эта масса есть «конфигурация материи» (materielles Gebilde), свойственная в особенности романскому искусству, завершением которого, по мнению автора, и является готика: «Конфигурации, воплощенные в устойчивых, неподвижных массах, свободных от каких-либо отношений с окружающим пространством, вначале должны были, в своей элементарной трехмерности, выработать синтаксис и фонетику нового пластического языка, до того как возникли его поэтика и риторика».
Непонятно, как тем же термином можно описывать изображение пространства в северной живописи XV в. Панофский пишет, что эта «масса» есть «порождающая субстанция специфически нордической формы, с изначально присущим ей одной безразличием к направлению. …Север …ощущал фигуративное пространство как массу, т. е. как единообразную материю, внутри которой освещенное пространство почти так же плотно и материально, как размещенные посреди нее тела».
Романская скульптура характеризуется у него таким пониманием массы и такой пластичностью, которые полностью противоположны античному искусству. Она развивает собственные характеристики, свойственные, по Панофскому, германской расе и объяснимые принципами «дезорганизации» и «плоскостности»[17]17
Алоис Ригль применял термин «сочетание масс» (Massenkomposition) для обозначения «планиметрической симметрии с несколькими осями», например, снежинки, а также для описания «сочетания нескольких разрозненных элементов в рамках высшего единства». Готфрид Земпер говорил о «воздействии массы» (Massenwirkung) и «сопротивлении массы» (Massenwiderstand). Использование подобной терминологии Риглем оспаривалось Шмарзовом в «Основных понятиях наук об искусстве».
[Закрыть].
Одним словом, «масса» есть конфигурация форм, отличающаяся исключительным единообразием и отсутствием направленности. Если это понятие и приложимо в одинаковой мере к романскому рельефу и к «вращающимся» пространствам на картине XV столетия, то только потому, что на самом деле оно вовсе не покрывает схожие способы отображения пространства, не говоря уже о целом стиле. Оно силится дать определение некоему способу изображения пространства, который и Панофскому, и Риглю кажется специфической принадлежностью некоего стиля.
Как ни странно, именно анализируя скульптуру, Панофский нашел трактовку пространства, близкую к тезису Пехта. Скульптура Средневековья – «поверхность, стереометрически уплотненная с помощью графических контуров. Она …создает неразрывное единство между фигурами и их пространственным окружением, т. е. фоном. …Скульптура здесь, например, в рельефе, не тело перед стеной или в нише, напротив, фигура и фон суть две формы, через которые выражается одна и та же сущность». В другом месте Панофский говорит о романской пластике: «…прорезанное вглубь естественное пространство сжимается в ней до тонкого слоя, способного вместить в себя лишь отдельные предметы, уменьшенные до одинаковых размеров; эти предметы и окружающее их пространство сливаются в однородное невещественное полотно, предметы в нем, разъединенные и сокращенные, явлены своего рода “образцами” (Muster), а пространство, так же сокращенное, выглядит за этими формами как фон, обладающий на всем своем протяжении одинаковым значением». В отличие от Панофского, Пехт видит тот же процесс в живописи XV в., у Флемальского Мастера и Ван Эйка, уже работавших с иллюзионистическим трехмерным пространством.
Нужно остановиться еще на двух пунктах этого подхода. Во-первых, поговорим о предполагаемом изображении пространства, ведь картина вроде бы открывает вид на пространство, далеко выходящее за ее границы. Вместе с Панофским можно задаться вопросом, «не дает ли конечность образа почувствовать бесконечность и непрерывность пространства», или же на структурном уровне она в первую очередь отражает единство и автономию Bildmuster в понимании Пехта. Продолжение фигуративного пространства за рамой, по всем четырем сторонам, не противоречит самодостаточности конституирующего его плана проекции предметов и фигур, плана, построенного согласно собственным формату и пропорциям. Именно этим объясняется приверженность нидерландцев к интерьерам: они представляются продолжением пространства по сю сторону переднего плана картины, пространства, где находимся мы сами.
Теперь о втором пункте: речь идет об одном довольно неясном месте в тексте Панофского о перспективе, где он говорит о «скошенном» пространстве. Он сожалеет, что исследователи «не выделили в должной мере скошенное построение архитектуры в пространстве (как у Джотто и Дуччо. – Р. Р.) и вращение самого пространства». Именно у Джотто и Дуччо «мы впервые видим вновь заключенные в себя интерьеры, которые нельзя интерпретировать иначе как живописные проекции «пространственных футляров» (Raumkästen), воплощенных в натуральную величину северной готикой.
«Вращение пространства» Панофский датирует приблизительно 1500 г., находя его, например, в «Суде Камбиса» Герарда Давида (илл. 4). «Вращением пространства» он называет исключительно вращение пола, в данном случае, пересечение рамой кафеля по кривой линии: тем самым усилен эффект фрагментарности изображения. Тот же прием можно видеть уже в миниатюрах, созданных около 1400 г. и опубликованных Панофским в его «Ранней нидерландской живописи», но не заслуживших, несмотря на уникальность трактовки в них пространства, никаких комментариев, а также в произведениях круга братьев Лимбургов.
Далее текст Панофского становится непонятным: он называет центральное панно «алтаря Бладелина» со сценой Рождества «архитектурой, изображенной во вращающемся пространстве», видимо, потому, что не хочет говорить о «скошенном пространстве». Да, но чем «короба», размещенные в пространстве Джотто, отличаются от этой «коробки» Рогира ван дер Вейдена? На самом деле Панофскому важно сохранить неприкосновенной итальянскую теоретическую модель, якобы не поколебленную контактом с Севером, поэтому он считает, что Север волновали другие, пусть и близкие по природе задачи, связанные с динамическим пространством.

ИЛЛ. 4. Герард Давид. Суд Камбиса. Брюгге, Городской музей.
Панофский не заметил, что изображение церковного интерьера стало для северного искусства эмпирической моделью для «перспективного» пространства. Последовательность травей, завершающаяся хором, по форме аналогична пирамиде перпендикуляров, «сходящихся» в единой точке, основе симметрии в costruzione legittima[18]18
Буквально «правильная конструкция», метод построения проекции на картине, изложенный Леоном Баттистой Альберти в «Десяти книгах об архитектуре». – Примеч. пер.
[Закрыть]. Интерьер храма дает художнику и возможность ограничить сцену с пяти сторон, и глубину, необходимую, чтобы пространственная композиция казалось достаточно правдоподобной. Но у этого пространства – и тут-то и дает сбой концепция «массы» – определенно есть направленность. Поэтому отметим заранее важный момент, к которому нам еще предстоит вернуться: термин «однородность» применим к плану выражения, а не к живописному пространству. Это последнее совершенно различно в миниатюре «Месса по усопшим» и в берлинской картине Яна Ван Эйка.
В миниатюре (илл. 5) сечение пространственной псевдопирамиды, выстроенной в интерьере храма, вписано в сводную арку (т. е. под прямым углом по отношению к оси нефа), иными словами, передний план (где изобразительное пространство совпадает с «изобразительным шаблоном») создан с помощью настоящего поперечного разреза трехнефного здания. В берлинской «Мадонне в церкви» срез, проведенный по нефу планом изображения, не отождествляется ни с одним структурным элементом постройки. Художник провел его произвольно посреди травеи, показав нам лишь фрагмент нервюрного свода. Но эту потерю в архитектурной связности и в глубине он компенсировал форматом плана выражения, придав изображению архитектурность полуциркульным арочным завершением. Тем самым ослабился и эффект фрагментарности вида: прямоугольный формат, несомненно, сильнее указывал бы на случайность ракурса.

ИЛЛ. 5. Месса по усопшим. Туринско-Миланский часослов. Турин, Городской музей. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/14th-century_ painters_-_Page_from_the_Tr%C3%A8s_Belles_Heures_de_Notre_Dame_de_ Jean_de_Berry_-_WGA16015.jpg>
В отличие от миниатюры у картины есть область пространственной неопределенности – между вертикальными подъемами и верхней границей доски, с одной стороны, и началом обозримого для нас пространства – с другой. Мы чувствуем, что часть существующего на самом деле пространства между двумя этими элементами не изобразима, но то же самое нельзя сказать о нижней границе, где сразу за рамкой начинается, зрительно и пространственно, плитка пола. И этот факт не объяснить высокой точкой зрения, с которой выполнено изображение.
Рисунок плитки, пучком линий наложенный перпендикулярно плану изображения, применялся уже в миниатюре. Но размер здесь принципиально иной: Ван Эйку удалось хитроумно скрыть пространственное искажение так, чтобы изображенное пространство взяло на себя роль однородного «изобразительного шаблона».
Мы так подробно остановились на этих двух произведениях прежде всего потому, что они важны для Панофского, но и потому, что неполное их прочтение позволило ему не выказывать должной филологической требовательности по отношению к придуманным им самим понятиям «массы», «направленности» и «однородности». Поэтому исследование Пехта намного убедительнее, его «изобразительный шаблон» позволяет не запутаться между пространством изображения и его планом (проекцией). Превалирующее значение этого шаблона у Пехта было раскритиковано Мейером Шапиро, но его желание «нейтрализовать собственное экспрессивное значение и даже содержание» картины, столь прискорбное, с точки зрения Шапиро, вполне объяснимо продуманным желанием подчеркнуть новизну предлагаемой концепции. Это не значит, что Пехт ввел качественную иерархию во всякое живописное изображение, просто «живописный шаблон» для него обязательный элемент, с которого следует начинать анализ картины.
Упреки, сделанные Мейером Шапиро в рецензии 1936 г., сняты последующими работами Пехта и, добавим не без сарказма, той пользой, которую сам критик смог извлечь из «новой венской школы» при написании статьи об «аниконических знаках».
Телеологическое видение изобразительного пространства, предложенное Панофским, подверглось также критике со стороны Курта Бадта. Он констатирует, что принятая в истории искусства концепция изобразительного пространства относится к довольно короткому периоду – XV–XVII вв., – и никак не может отражать общую ситуацию. Сама собой разумеющаяся для историка искусства, она покоится на трех основаниях: изотропности, непрерывности и бесконечности. Исходя из них решено было оценивать искусства всех времен и народов. На первый взгляд, разработка линейной перспективы «частично сняла проблему изотропного и непрерывного пространства». Пространство в ней – «остов, внутреннее пространство». Но такое пространство нельзя назвать изотропным, потому что Ренессанс ввел «оппозицию между фигурами и пустым пространством, подвергнувшую опасности единство изображения». Именно к изотропности и непрерывности пространства будет тяготеть живопись вплоть примерно до 1910 г., неудачу же ее Бадт объясняет неправильным отождествлением мыслимого и воспринимаемого пространства.
Единой формой наделяется мыслимое, а не воспринимаемое пространство. Живопись XV в. разработала методы создания иллюзии непрерывного пространства, обладающего одинаковыми физическими характеристиками на всем своем протяжении, на Юге для этого изображали напольную плитку, на Севере пользовались цветами – коричневым, зеленым, синим, – чтобы разделить первый, второй и задний планы. И геометрия, и работа с цветом ввели в пространство движение: зрителя как бы приглашают войти вглубь картины. Этот неожиданный результат будет развит в эпоху маньеризма.
Часть вторая
Введение в искусство соборов
III. Видимое и невидимое
Взгляд на гостию«Добрая слава города…скорее в хранящихся в нем мощах, чем в крепости стен или репутации правосудия», – писал недавно один исследователь позднесредневекового города. Крещение и вступление в какое-нибудь братство, собственный приход, цеховой совет, разного рода процессии – все это включало горожанина в систему тесных взаимоотношений с бесконечным числом святых. От них он ожидал благодеяний и защиты. Соединившись с обществом людей, эти святые образовали духовное общество, чье физическое присутствие обеспечивалось благодаря мощам.
Нам непросто проложить себе дорогу в таком «городе-реликварии». Не только потому, что система координат – прежде всего церковная – заменена новой, но и потому, что сама материальная и физическая ткань города уже не та. До нас дошла лишь малая часть гражданской архитектуры и немногочисленные, разрозненные памятники архитектуры религиозной. Однако готическое здание, сохранившееся в современном городе, будь то приходская, монастырская церковь или собор, разворачивает перед нами комплекс архитектурных и художественных форм, каждая из которых в свое время обладала собственным значением и особой функцией. Это не значит, что они были ясны для всякого верующего и даже клирика; в конце XIII в. Гильом Дюран написал «Истолкование богослужения» (Rationale divinorum ofciorum)[19]19
Название этого свода, «Rationale…», на самом деле непереводимо на русский язык. Исходя из авторского пролога очевидно, что Гильом, епископ Манда, понимал слово и просто как «истолкование» (ср. нынешнее фр. «dictionnaire raisonné», «толковый словарь»), но и в какой-то мере как метафору своего архипастырского авторитета, потому что именно этим словом св. Иероним передал в «Вульгате» название одного из ритуальных облачений первосвященника, предписанных Аарону, в синодальном переводе – «наперсника» (Исх. 28,4). Гильом знал и схожее по целям сочинение своего предшественника епископа Сикарда Кремонского «Mitrale», также указывающее на то, что читатель держит в руках что-то вроде «зерцала» для архипастыря, как известно, носившего во время богослужения и проповеди митру. По описанным причинам я решил, в порядке исключения и во избежание необоснованных неологизмов, оставить эти названия без перевода. – Примеч. пер.
[Закрыть], чтобы напомнить клиру уже забытое символическое значение культа и таинств, архитектуры и утвари. В то же время обилие и красота видимых форм никого не оставляли безучастным в этом знаковом поле. Эти монументальные творения, размеры которых намного превосходят все близлежащие здания, по-прежнему свидетельствуют о возросшем желании видеть, характерном для позднесредневекового общества. Провозвестников этого явления можно найти в различных сферах жизни начиная с XII в. К ним относится, в частности, возросшее в массе верующих желание видеть гостию в момент пресуществления.
До конца XII в. демонстрация гостии не практиковалась. К середине XIII в. она распространилась по всей Европе. Между этими двумя моментами она вроде бы засвидетельствована соборным решением 1208 г. (дата остается предположительной) и IV Латеранским собором (1215), который принял формулу «пресуществление хлеба в Тело и вина в Кровь», тем самым подтвердив реальное присутствие Христа в храме.
Евхаристические проблемы обсуждались вначале в среде богословов и монахов: первые признаки особого почитания Святого таинства заметны в Клюни в XI в. Борьба, которую вела тогда Церковь, утверждая пресуществление Даров, повлекла за собой увеличение числа чудес, связанных с гостией.
Народные требования как бы предварялись рассуждениями богословов: Ансельм Ланский († 1117) и Гильом из Шампо († 1121) доказывали, что в таинстве евхаристии присутствует не только Кровь, но весь Христос. Вопросу присутствия тела Христа посвящен один из важных пассажей «Суммы богословия» Фомы Аквинского, впоследствии взятый на вооружение Тридентским собором. Для Гуго Сен-Викторского Христос приходит в евхаристию для того, чтобы Его телесное присутствие побуждало искать Его духовное присутствие. Само существование символизма стало причиной того, что средневековая экзегеза четко разделила видимое и невидимое. Видимое должно быть интерпретировано, чтобы дать нам доступ к невидимому. Символизм церковных таинств задуман таким образом, чтобы показать нам божественную истину через определенное количество знаков. Какое определение экзегеза дает таинству, sacramentum? Августин в трактате «О Граде Божием» определяет его как священное знамение, sacrum signum. У Гуго Сен-Викторского это материальный предмет, который через уподобление – являет, через установление – означает, через освящение – содержит. Уже Августин разделял sacramentum (например, в случае евхаристии, хлеб и вино как Тело и Кровь) и вещь (res), обозначавшую единство тела и крови Христа. Петр Ломбардский отличает «таинство само по себе», sacramentum tantum (видимый внешний знак), «таинство и вещь», sacramentum et res (духовную реальность, присущую таинству) и «вещь и не таинство», res et non sacramentum (высшую реальность, означаемую таинством, но не присущую ему). Конкретно в евхаристии видимые хлеб и вино – это «таинство само по себе», символизирующие одновременно истинное тело и истинную кровь Христа («таинство и вещь»), а также мистическое Тело Христа или единение верующих в Церкви («вещь и нетаинство»).
Св. Фома считает, что таинства обладают тройственным символизмом:
• напоминание о Страстях;
• явление благодати;
• преуготовление к будущей славе.
Евхаристия предполагает явление тела Христа через хлеб.
Тело обладает и реальным существованием, и символическим значением: оно – знак единения христиан в Церкви и напоминание о Страстях. Преломляемый в момент причастия, Христос есть символ будущей совершенной радости в Боге, уготованной на небесах.
Итак, около 1200 г. желание видеть ощущается все сильнее. Демонстрация гостии впервые описана в соборном статуте епископа Парижа Эда Сюллийского (1196–1201): «На Тот, Кто прежде: взяв гостию в руки, священники не должны сразу поднимать ее высоко, показывая всем собравшимся, но пусть как бы держат на груди до слов Сие есть Тело Мое (Мф. 26). Тогда пусть поднимают ее, чтобы все могли увидеть».
Будто побуждая верующего к созерцанию гостии, Гильом Овернский говорил, что Бог внимает мольбам того, кто смотрит на тело Христа. В 1230–1240 гг. некоторые богословы, продолжая его рассуждения, высказывали опасение, что созерцание гостии может заменить само причастие. Но францисканец Александр Гэльский отвечал им, что евхаристической пище, духовной прежде всего, подобает чувство, наименее связанное с материей: зрение. Тогда многие верующие даже бегали из храма в храм, чтобы увидеть Тело несколько раз на дню.
В XIII в. несколько церковных соборов, следуя примеру парижского диоцеза, предписывают демонстрацию гостии сразу после пресуществления, «чтобы ее можно было увидеть» (ita quod possit videri). В предшествующем столетии Петр Кантор († 1197) считал, что о присутствии Тела в хлебе можно говорить лишь после слов «Се чаша» (hic est calix). Согласно Эду Сюллийскому, священник не должен поднимать гостию при словах «Кто прежде» (Qui pridie), напротив, в этот момент он должен был спрятать ее на груди. Он показывал ее только после слов «Сие есть Тело Мое» (Hoc est corpus meum). Действительно, начиная с середины XII в. гостию поднимали в момент освящения, что могло иметь опасные последствия: некоторые верующие могли поклоняться гостии до того, как она становилась Телом, впадая в грех идолопоклонства. Согласно Петру Кантору, пресуществление происходит только после освящения вина. Фома, Альберт Великий и Александр Гэльский настаивали на том, чтобы гостия поднималась до демонстрации. Позже литургисты разработали целый ряд обрядов, позволявших лучше видеть поднятие гостии: возжигание свеч или, в монастырских церквах, открывание дверей хора (т. е. jubé[20]20
Этот термин, восходящий к первым словам литургического возгласа «Jube, domine» (Прикажи, владыко), обозначает западную стену преграды, скрывавшей хор от прихожан и выделявшей особое пространство внутри центрального нефа. Поскольку адекватного русского термина не существует, а «амвон» может лишь запутать читателя, мы решили сохранить его французское написание. – Примеч. пер.
[Закрыть]). Кармелиты рекомендуют избегать сильного каждения, чтобы дым не скрыл гостию. Известно было также использование цветных занавесов, которые подчеркивали ее белизну.
Пример гостии показывает, насколько важно было богословам предупредить об опасности дополнительной демонстрации. В теории Эда Сюллийского гостия, пока она не освящена, всего лишь знак (signum). Как только она становится Телом, знак не меняет доступного чувствам облика, но меняет значение. Взгляд собравшихся призван засвидетельствовать превращение субстанций в Тело и Кровь. Поднятием доказывается, что Боговоплощение действительно произошло, тем самым призывая к поклонению. Бертольд Регенсбургский († 1272) толковал демонстрацию трояко: «Вот Сын Божий, ради тебя показывающий свои раны Отцу; вот Сын Божий, который ради тебя был подъят на крест; вот Сын Божий, который придет судить живых и мертвых».
Однако помимо этого только что описанного нового обряда освящения у верующих не было иной возможности видеть Дары. Лишь позже они будут выставляться на всеобщее обозрение вне мессы, что засвидетельствовано сначала в Германии, Швеции, Ливонии. От XV в. дошло упоминание дарохранительницы с хрустальной дверцей из Луго (Галисия).
Гостия, освященная и не освященная, на протяжении XIV в. обычно выставлялась в дарохранительницах. Известно, что в 1333 г. в цюрихском соборе хранился «кристалл Христа» (cristallus Christi), а в 1340 г. в Трире упомянута «пиксида, в которую помещено преславное Тело Господне, из хрусталя и позолоченого серебра, украшенная бесподобно сработанными фигурами трех крылатых ангелов по кругу, священника внутри и кивория на вершине». Некий страсбургский каноник уже в 1304 г. упоминал в своем завещании «дарохранительницу из хрусталя и золоченой меди» (unam monstratiam cristallinam cum cupro deaurato fabricatam). В 1324 г. архиепископ реймский Робер де Куртре подарил своему собору золотой крест, украшенный драгоценными камнями и хрусталем в середине, позволявшим показывать гостию.
Сохранились и сами предметы подобного рода, относящиеся к такому раннему времени. Одна украшенная сиенской эмалью дарохранительница на ножке, из австрийского монастыря, датируется 1310–1320 годами. Текст «Agnus Dei» на ней не оставляет никаких сомнений относительно ее предполагавшейся функции. Первоначальный облик несколько изменен из-за утраты части цоколя. В сокровищнице базельского собора хранится дарохранительница, изготовление которой можно отнести ко времени около 1330 г.: шестнадцать медальонов из прозрачной эмали прекрасного качества служат рамкой для хрустальной витрины, внутри которой вертикально ставился диск с прикрепленной к нему гостией. Во Флицларе есть позолоченная серебряная дарохранительница второй четверти XIV в. с надписью на ножке «Агнец Божий, взявший грех мира, помилуй нас» (Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis). Эта фраза в тексте освящения следовала за «Сие есть Тело Мое».
Догмат о реальном присутствии тела Христова установился довольно поздно и несомненно изменил религиозную практику, если не саму религиозную ментальность, не только верующих мирян, но и клира. Вот в каких выражениях епископ Линкольнский Роберт Гроссетест обращался к бенедиктинцам из аббатства Питерборо: «В ваших монастырях…благодаря таинству евхаристии царь небесный пребывает не только в своей божественности, но и в истинной телесной субстанции, приданной Ему Девой Марией» (non solum per divinitatem, sed in sacramento eucharistiae per veram carnis substantiam)[21]21
В «Rationale» Гильома Дюрана говорится, что «ларец (capsa), в котором хранятся освященные гостии, означает тело преславной Богородицы… Иногда его изготавливают из дерева, иногда из слоновой кости, серебра или хрусталя. Различные материалы соответствуют различным проявлениям благодати в Теле Христовом».
[Закрыть]. Ранее всего почитание евхаристии развилось в женских монастырях. Среди мирян оно распространилось много позднее. Объяснение этому отчасти можно видеть в том, что большинство церквей было закрыто для верующих вне часов мессы по крайней мере до середины XV в., так что в 1204 г. епископу парижскому пришлось запретить закрывать собор днем. Такая ситуация лишь изредка позволяла показывать гостию и объясняет, почему прелаты требовали ее выставления напоказ хотя бы в то время, когда верующие допускались в храм.
Реальное присутствие Христа в Церкви глубоко изменило восприятие верующим человеком религиозного пространства. Идею Небесного Иерусалима должен был потеснить новый опыт, доступный здесь каждому: воочию убеждаться в присутствии божества. Это новшество в полной мере отразилось во фразе францисканского хрониста XIV в. Иоанна Винтертурского: «Евхаристия – это таинство, в котором сосредоточено все благочестие современного человека» (in quo maxime dependet devotio modernorum).