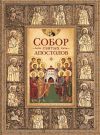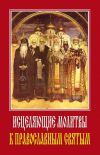Текст книги "Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков"

Автор книги: Ролан Рехт
Жанр: Архитектура, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
II. Орнамент, стиль, пространство
В предыдущей главе мы увидели, что не только интерпретация такого важного и сложного культурного явления, как готика, но само ее определение и характеризующая ее терминология складывались под сильным влиянием разного рода посылок, тяготеющих над всяким научным анализом. Цельность готического собора объясняют то техническими новшествами – оживой, аркбутаном, – то учением, предзаданным интеллектуальным порядком, который он должен был воплотить архитектурно, скажем, метафизику света или схоластику.
История средневекового искусства с конца XIX в. писалась с опорой на ряд понятий, частота употребления которых говорит о том, что они характеризуют фундаментальные вопросы истории современного искусства. Таковы «орнамент» и «пространство», понятия сложные прежде всего тем, что значат совершенно разное для нас и для человека XII–XIII вв., последнее же вообще вряд ли что-либо для него могло значить. По отношению к искусству о пространстве заговорили не ранее столетия назад. Сегодня же история искусства постоянно ссылается на то, что стоит за обоими понятиями. Если они позволяют нам постичь стиль, то не следует упускать из вида, что стилистический анализ произведений, созданных после Средневековья, в применении к этой эпохе оказывается также отягощенным разного рода допущениями. Механизмы традиции форм и самосознание художника, свойственные Новому времени, чужды Средневековью.
В отличие от первой главы, вторая будет построена на основании индивидуальных мнений, мы расскажем о нескольких персонажах, принадлежавших той или иной «школе» мысли, учения которых нас интересуют. Придется не раз возвращаться к одному и тому же, в частности к проблеме пространства, зато каждая индивидуальная мысль будет отражена здесь в должном единообразии.
Первая и вторая венские школыФранц Викхоф, считающийся отцом венской школы, одновременно в наименьшей степени доктринер среди ее представителей. В отличие от Ригля и Дворжака, Шмарзова и Вёльфлина, он не навязывал никакой системы или «основных понятий»[8]8
Викхоф особенно критически отнесся к «Основным понятиям науки об искусстве» Шмарзова. В 1913 г., прочтя его «Барокко и рококо», он поклялся больше никогда не читать ни строчки этого автора. Поскольку отправной точкой для Шмарзова была критика Ригля, Викхофу пришлось-таки посмотреть эту книгу. Он обвиняет исследователя в «незнании всего используемого им материала», в «эстетствующей болтовне». Особенно ужасно то, продолжает Викхоф, что этот человек занимает вторую по значимости в Германии кафедру истории искусства: «Какой урон наносится науке тем, что кафедра столь почтенного университета, как Лейпцигский, отдана человеку, ничего не смыслящему в историческом анализе и в основополагающих проблемах истории!» (W i c k h o f F. Abhandlungen, Vorträge und Anzeigen. Berlin: Meyer&Jessen, 1913. S. 365–370).
[Закрыть]. Читая его, представляешь себе, что на самом деле его интересовала современность, искусство последних двадцати лет XIX в., от Мане до Климта, и что Ренессансом и ранним христианством он занимался, чтобы выявить ростки Нового времени. Будучи эволюционистом, он верил в циклы, объясняющие периодическое возникновение тех или иных форм через века. Проблемы атрибуции решались им по методу горячо поддерживаемого им Джованни Морелли (Леморлева).
Квинтэссенция его представлений об искусстве содержится в работе о «Венской Книге Бытия» (1895). По его представлениям, в этой рукописи IV в. можно найти не только отличные друг от друга стили трех предшествующих столетий, но и особенности различных художественных техник: монументальной живописи и книжной миниатюры. И главное: эта рукопись лежит у истоков средневекового искусства.
«Проблема, вставшая перед первыми христианскими художниками, – пишет Викхоф, – состояла в том, чтобы заполнить с помощью новых формальных средств, исходящих из новых законов о изобразительности, то поэтическое пространство, образность которого, изначально вполне устойчивая, оказалась утерянной». Ища характеристику новизны этих «придуманных заново» изображений, он находит ее в типе рассказа: «Мы не увидим здесь какой-то ключевой момент, объединяющий главных персонажей, за которым последует очередной не менее важный эпизод. …Это не разрозненные отображения запоминающихся событий, но стоящие рядом, не отрывающиеся друг от друга ситуации».
Викхоф различает три типа нарратива, приписывая их конкретным цивилизациям: «дополнительный» рассказ происходит из Азии и свойствен эпосу, «различительный» – греческого происхождения и относится к драме, «непрерывный» – римский, прозаический – возник во II в. н. э. Исследователь задается вопросом, не стал ли последний из них результатом усвоения во II–III вв. иллюзионистического стиля, методично отличаемого автором от натурализма: если последний стремится отразить на поверхности изображения «телесность», иллюзионизм ищет скорее «облик» вещей? «В XV столетии, и в Италии, и на Севере разрабатывался такой тип изображения, все детали которого пластически продумывались на основании изучения природы. Художники соблюдали законы линейной перспективы и не ощущали изменений, которым атмосфера подвергает удаленные от нас предметы; вырисовывая фигуры переднего плана с натуры, глубоко изучая лица, руки, ноги, складки одежды, украшения и прочее, следуя тому же натуралистическому правилу для фигур второго плана и для фона, они приноравливали взгляд к каждому из этих планов, согласно условленному расстоянию, тем самым возникало изображение, независимое от постоянной, единообразной перспективной точки зрения, не результат единовременного визуального акта, но амальгама впечатлений из нескольких таких актов, основанных на отделенных друг от друга точках фокусировки глаза». Вооруженный такой техникой, иллюзионизм отворачивается от телесности в поисках «истинного облика» и по этой причине «сополагает подобающие ему цвета»: такое изображение тела «строится из световых оттенков, резко друг от друга отличающихся, но сополагаемых, на основании их воздействия на физиологию глаза».
Таким образом, для объяснения перехода от натурализма к иллюзионизму, осуществленного помпеянской живописью в поздней Античности, используются уроки импрессионизма. Но современное искусство, по Викхофу, не ограничивается Мане. Оно характеризуется прежде всего принципом равноценности: «Сегодня ничто не может считаться незначительным или слишком посредственным для выражения в живописи, чем-то, из чего нельзя создать картины настроения» (Stimmungsbild). Край кровли может сравниться по красоте с пейзажем. Викхоф посвятил полемическую статью защите «Аллегории Философии», написанной Климтом для украшения Венского университета и встреченной в штыки академиками. Идея, что нет сюжета, не достойного искусства, и что также нет искусства, не достойного эстетического и исторического анализа, была совершенно новой. Она привела Викхофа и к реабилитации римского искусства, в частности портрета, из которого он сделал краеугольный камень в зарождении средневекового искусства.
Стиль, по Викхофу, выражает содержание. Теперь мы посмотрим, как эта концепция формулировалась в конце XIX в. и какое значение она имела для истории искусства как научной дисциплины.
Стилистический анализ рассматривает структурно объединенные формальные признаки одного произведения или группы, их сопоставление дает возможность интерпретации: локализации, датировки, атрибуции. Такой подход предполагает, что некий стиль эквивалентен языку или, точнее говоря, почерку. Тогда он ускользает, по крайней мере частично, от контроля сознания. Таково имплицитное условие метода Морелли и причина интереса, вызванного им у Фрейда. Эта физиогномическая составляющая стиля была обнаружена уже в середине XIX в. Вайсе[9]9
Вайсе (Weisse Ar.H. Über Stil und Manier. 1867) определил стиль как «непосредственное физиогномическое проявление индивидуального духа» (цит. по: Wallach R.W. Über Anwendung und Bedeutung des Wortes Stil. München, 1919). Э. фон Гаргер развивал мысль, согласно которой Средневековье, в противовес классике, вызвало к жизни искусство, ставшее выражением постоянной борьбы за овладение формой (Garger E. von. Über Wertungsschwierigkeiten bei mittelalterlicher Kunst // Kritische Berichte. 1932–1933. Bd. V. S. 97 f.). Гомбрих выступил против главного аргумента фон Гаргера, состоящего в том, что «стиль, характерный для определенной системы выражения, сопоставляется с некой коллективной личностью – народом или эпохой – и якобы является их выражением (Gombrich E. Wertprobleme und mittelalterliche Kunst // Kritische Berichte. 1937. Bd. VI. S. 109 f.).
[Закрыть].
С Готфридом Земпером и, после него, Риглем понятие стиля потеряло значение абсолютного идеала, приданное ему Гёте. Перестав быть высшим устремлением человека, стиль превратился в историческое явление. Благодаря концепции стиля в конце XIX в. история искусства обрела самостоятельность по отношению к другим «наукам о духе» и обзавелась собственным научным инструментарием.
По Земперу, стиль есть общее выражение продуктивной деятельности человека: никакой иерархии между искусством придворным и народным, между художником и ремесленником не требуется. Общие основания этой деятельности позволяют Земперу набросать что-то вроде сравнительной морфологии ее, в которой решающую роль играет отношение между формой, техникой ее воплощения и материалом, с которым эта техника работает. На него произвели сильное впечатление коллекции скелетов и окаменелостей, выставленные в парижском Ботаническом саду Кювье, вспоминая которые, он писал, что творения рук человеческих, «подобно произведениям природы, …связаны между собой несколькими основополагающими идеями, находящими самое непосредственное выражение в изначальных типах или формах». Понятие стиля помогает ему охарактеризовать присутствие некоей внутренней структуры, изначальной мысли, ощутимой за видимой формой.
Несколько надменно открещиваясь от того, что он сам называет «материализмом» Земпера, Ригль, по сути, обязан ему некоторыми своими идеями. Как верно напомнил Зедльмайр, техника, материал и функция понимаются Риглем как «негативные» факторы. Но свой интерес к эпохам, считавшимся в XIX в. упадническими, он позаимствовал главным образом у Земпера. Кроме того, он, по крайней мере вначале, занимался изучением орнамента, на основании которого и Земпер построил свою сравнительную морфологию.
В «Вопросах стиля», вышедших в 1893 г., Ригль старается показать, что переход от геометрического изображения пальметты к «натуралистическому» парадоксальным образом соответствует процессу абстрагирования, в котором форма оказывается сама источником собственной трансформации. От «тактильного» перейти к «оптическому» значит для Ригля то же, что перейти от реального к абстрактному, от объективному – к субъективному. Жизненную силу, проявляющуюся в этой способности к преображению как в творящем художнике, так и в глядящем зрителе, Ригль называет «художественной волей» (Kunstwollen). Эта сила, конечно, коллективна, но может проявляться и в конкретном мастере. Как было показано выше, это управляющий поток, распределяющий в четко читаемой последовательности все рукотворные предметы, от жалких свидетельств материальной культуры до мировых шедевров. Мании классификации, свойственной XIX столетию, Ригль противопоставил такую систему интерпретации, в которой жест художника трактуется как своего рода scanning, постоянное, исторически изменчивое балансирование между желанием «акцентировать» или «стереть» черты, связующие или разъединяющие предметы. У стиля в таком понимании две сферы: вариативная «внешняя характеристика», зависимая от внутреннего структурного принципа, тоже называемого «стилем». Иными словами, стиль одновременно нечто постоянное и нечто изменчивое, идеальный тип и летящее мгновение. Земпера внешняя стилистическая характеристика не интересовала.
Ригль дал орнаменту право на жизнь в науке, в котором ранее ему отказывали. Конечно, классификация романских построек Арсиса де Комона основана на их внешнем орнаменте, по принципу, за который его резонно раскритиковал Кишера. Но автор «Вопросов стиля» и «Позднеантичной художественной индустрии» выделил орнаментальный мотив как предмет научного наблюдения, объективного уже потому, что он ничего конкретного не выражает. Ригль претендует еще и на то, что выявленные в орнаменте законы формирования действуют повсюду: в живописи, скульптуре и архитектуре. В этой претензии на выведение из орнамента всеобщей системы интерпретации состоит его «структурализм». Неслучайно, вкупе с теорией гештальта, он оказал большое влияние в годы после Первой мировой войны, особенно на венцев вроде Отто Пехта и Ганса Зедльмайра.
«Основные понятия», сформулированные Генрихом Вёльфлином, в целом бесконечно далеки от такого видения. Соглашаясь, что в декоративном искусстве – орнаменте, каллиграфии – «чувство формы находит чистейшее выражение», свою систему он все же строит на архитектуре, живописи и скульптуре. Для Ригля развитию подвержена лишь «художественная воля», для Вёльфлина все произведения как целое подчиняются своего рода биологическому циклу, от роста через зрелость до разложения: от раннего Возрождения через высокое к барокко. Иными словами, в Ренессансе, классицизме и барокко можно видеть соответствие этим трем фазам. Но основное внимание Вёльфлина сконцентрировано на оппозиции «классика – барокко», на ней он и выстраивает свои сверхисторические категории.
Уже в диссертации 1886 г. его заинтересовали психологические основания произведения искусства, на которых можно было бы выстроить непреложные законы для понимания форм: «История, удовлетворяющаяся констатацией последовательности фактов, не выживет. Считая себя “точной”, она ошибается.
Точная работа возможна только тогда, когда в нашем распоряжении цепочка четко зафиксированных явлений, например, таких, какие механика предоставляет физике. Науки о духе, за исключением психологии, такой базы пока лишены. Именно она позволила бы истории искусства подняться от частного к общему, к законам». Но при этом она должна опереться на методы истории: «Принимаясь за работу, художник ориентируется на связывающие его оптические условия. Не все возможно во все времена. У зрения есть своя история, и выявление категорий оптики есть насущная задача истории искусства».
Эти законы Вёльфлин раскрывает постепенно. Классическое искусство, или классическая фаза искусства, соответствует его кульминации. Правда, как показано в «Ренессансе и барокко», декаданс своими симптомами «расслабленности» и «произвольности» тоже может дать возможность проникнуть в «глубины жизни искусства». Но сама бинарная описательная система Вёльфлина все же строится на нормативном классицизме. Даже его книга о Дюрере стремится определить классицизм как попытку – и соблазн – северного художника, чей взгляд еще находится во власти уходящего в прошлое готического мира.
Как и Ригль, Вёльфлин попытался трактовать произведение искусства вне принятой в XIX в. таксономии. Оба освободили его от засилья разного рода тяготевших над ним, привнесенных извне интерпретационных схем. Утверждать, что одна форма рождает другую и «среда» или даже исторический контекст не могут помешать этому процессу, значило признать за историей искусства полное владение своим предметом и своими методами.
Оба эти эволюциониста попытались вычленить такие формальные признаки, способные дать историку искусства систему интерпретации, от которых не ускользнуло бы ни одно произведение. Заслуга находки иного пути принадлежит одному историку по образованию, последователю Викхофа и Ригля.
Сознавая полезность и «общего исторического метода», и навеянной Викхофом «способности различать исторические стили», Макс Дворжак всем своим творчеством постарался избавиться от этого требования, правда, никогда о нем не забывая, но стремясь интегрировать историю искусства в «науки о духе». Ради этого он брался анализировать все художественные эпохи, от раннего христианства до современности (ему принадлежит замечательное эссе о Кокошке). Главная ценность, которую, на его взгляд, следует искать в каждом произведении, состоит в «актуальности» (Gegenwartswert): она одна воздействует на зрителя независимо от глубоких изменений, произошедших в контексте создания памятника. Ценность актуальности, однако, не предполагает анахронизмов прочтения. Всякое произведение искусства есть также «обязательно продукт» определенного «духовного и художественного развития». Обманчив вопрос, принадлежит ли оно «еще Античности» или «уже верно следует природе. …Иными словами, средневековую живопись и скульптуру принято судить либо с точки зрения отдаленного прошлого, либо эпох более поздних, забывая, что между ними находятся века, представляющие свой собственный мир».
Так же ошибочно и систематическое применение «основных понятий», покоящееся на уверенности, «что при всех изменениях в целях и средствах художественного творчества понятие произведения искусства может рассматриваться как нечто более-менее неизменное. Нет ничего более ложного и антиисторичного, чем такой посыл, ибо концепция произведения искусства и художественного как такового претерпела глубочайшие и самые разные изменения в процессе исторического развития, она всегда продукт общего развития человечества, изменчивого и обусловленного временем».
Если трансформации подвержена идея искусства, значит наше нынешнее состояние приглашает нас к тому, чтобы искать за формальными особенностями произведения его духовную основу. Трудность понимания средневекового искусства обусловлена как раз тем, что мы недостаточно знаем его «духовные истоки». Если мы взглянем на немецкую живопись первой половины XV в., в особенности на ее отличия от «нидерландского натурализма» и «итальянского эмпиризма», то увидим, как «у Мастера Франке, Лукаса Мозера, Мульчера и многих других рядом с идеальными фигурами появляются образы, грубо отвергающие всякую идеализацию: это темные, загробные силы земного мира, воплощения преступления, греха и страстей, глухая и слепая масса, с которой должна сражаться высшая сила; и здесь мы видим первый шаг к воспроизведению той трагедии характеров и судеб, которой не находилось места в рамках средневекового антиреализма».
Это исследование о Шонгауэре, написанное в 1920–1921 гг., трудно не читать между строк. Дворжак имеет в виду вовсе не только ранних немецких художников, он ищет духовные основания всего германского искусства, включая экспрессионизм. Давая оценку дюреровскому «Апокалипсису», он также констатирует «неосознанное стремление видеть мир как проблему внутренней жизни, а искусство как способ поспорить с Богом и с диаволом, с самим собой и с обществом».
Не вызывает сомнения родство психологической интерпретации Дворжака и Варбурга. Но последний видит в произведении искусства актуальную попытку разрешения психического напряжения, а первый – лишь симптом. Форма, по Варбургу, хранит в себе это напряжение, она как бы частично заражена злом. А для Дворжака она никогда не выходит из-под контроля. Поэтому его заинтересовало возникновение процесса «освобождения искусства», которое он относит к XIV в. и с которым искусство обретает статус, сопоставимый с наукой, право на изучение мира: «Так трансцендентный идеализм Средневековья, по-новому взглянув на мирское, вылился в крайний натурализм; напротив, в эпоху Возрождения и в Новое время благодаря возвращению к Античности разовьется новый антропологический и космический идеализм». Вклад позднего Средневековья, получается, в переходе от идеализма к натурализму. Оба эти термина не эквивалентны «осязательному» и «оптическому» или «объективному» и «субъективному» у Ригля: Дворжак отвергает его догматизм, хотя и сам старается вычленить из анализа конкретного произведения «мировоззрение», Weltanschauung. В отличие от Варбурга, он видел в средневековой духовности единственное убежище от современного хаоса: в предвоенные годы (1912–1914) он много говорит о средневековом искусстве в своих лекциях, а в 1918 г. выходит его программный текст: «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи». В центре его философии истории оказывается довлеющее всей его мысли метафизическое ви́дение. Оно управляет миром – и искусством – с помощью предметов, единственных и неповторимых, не вписывающихся ни в какую систему.
Историко-философская концепция Дворжака сформировалась главным образом под влиянием Дильтея – не Зиммеля, не Вебера, не Винденбанда, не Трёльча, не Викхофа и не Ригля. «Видимый смысл истории, – пишет Дильтей, – следует искать в том, что присутствует в ней всегда, в том, что вечно проявляется в структурных отношениях между взаимодействующими элементами, в том, как формируются ценности и цели, в глубинах объединяющего их порядка: от строя индивидуальной жизни до высшего всеохватывающего единства; таков смысл истории всегда и везде, смысл, лежащий в структуре существования индивида и являющий себя, в форме объективизирования жизни, в структуре сложных взаимодействующих комплексов. …Анализ устройства мира духа первой своей задачей имеет демонстрацию закономерностей в структуре исторического мира». Близость, которая может возникнуть в отношениях историка (искусства) с «единообразными реликтами прошлого», покоится на том, что речь идет «о чем-то пережитом им самим. Ядро мира истории в жизненном опыте, в совокупности жизненных связей субъекта». Опираясь на «включенность исторического мира в науки о духе», Дворжак ищет «корни изменений в искусстве в общей истории духа». При этом он пошел двумя путями: во-первых, постепенно уделяя все большее внимание содержанию произведения, а не его форме, во-вторых, останавливаясь главным образом на великих творцах – Брейгеле, Рембрандте, Эль Греко, – в которых, как ему казалось, связь между миром духовным и художественным прослеживается особенно явственно.
С другим крупным представителем венской школы и тоже последователем Викхофа, Юлиусом фон Шлоссером, общие проблемы формального и эстетического свойства уступают место филологии и анализу отдельных мастеров: это уже уводит нас далеко от Ригля. В 1901 г. фон Шлоссер опубликовал «К вопросу о происхождении средневековой концепции искусства», в 1902 г. – «К вопросу об изучении художественной традиции позднего Средневековья». В первом из них он, вслед за Викхофом, показал, как Средневековье сумело воспринять античное наследие, трансформировав его «с помощью элементарных эффектов цвета и линии».
В пространном исследовании 1902 г. Шлоссер опубликовал рукописи, содержащие своего рода художественные образцы, на основании которых он выстроил концепцию Gedankenbild, «мыслительного образа», разработанного в дальнейшем его учеником Ханлозером на материале Виллара де Онкура. В статье 1901 г. этот «мнемонический образ» называется symbolisches Erinnerungsbild, «символическим образом памяти», характерным именно для средневекового искусства. Он-то и является, по сути, основным стимулом художественного «творчества»
Средневековья, освобождает художника от необходимости наблюдать и дает его независимую систему знаний. К концу жизни, под влиянием Бенедетто Кроче и Карла Фослера, Шлоссер попытался выстроить систему интерпретации искусства по образцу языка: по ней, «язык искусства» покрывает все те характеристики, с помощью которых произведение просто участвует в коммуникации, а «стиль» – это то, что возвышает его до уровня чистого творчества. Предмет истории искусства, естественно, исключительно в истории стиля.
Попробуем найти мысль, проходящую красной нитью между статьей 1902 г. и работами 1933–1937 гг. По сборникам exempla Шлоссер составил максимально объемный словарь: такое знание языка необходимо всякому, кто желает постичь до тонкостей разработанный язык настоящего мастера. Уже в 1902 г. Шлоссер задавался вопросом о переходе от уровня языка – уровня вполне коллективного – к стилю.
В «Заметках на полях одного пассажа из Монтеня» он вновь вернулся к орнаменту, его психологической основе и внеисторическому характеру его существования. Эта проблема позволила ему провести аналогию с языком, обосновав ее тем, что в языкознании, как и в изучении орнамента, существует теория подражания, противопоставляемая так называемой спиритуалистской теории Вундта. По Вундту, образы и слова возникают у ребенка не из желания подражать, а под намного более властным побуждением собственных особых психических состояний, в которых определяющую роль играют образы памяти, Erinnerungsbilder, Gendankenbilder.
В 1929 г. Дагоберт Фрай опубликовал «Готику и Ренессанс как основания современного мировоззрения»: к тому времени он уже давно был активным участником масштабного движения по охране исторических памятников Австрии. Он и наследовал Максу Дворжаку на посту директора Института истории искусства, работавшего при Комиссии исторических памятников. Продемонстированная им в книге способность анализировать проблемы историографии, философии и эстетики в сочетании с феноменологическим знанием конкретных памятников типична для венской школы.
Искусство, как «наука о духе», частично объяснима через духовное происхождение, объединяющее его с другими проявлениями духовной жизни. Причем проявления эти могут оказываться противоречивыми. Для Фрая сущность какой-то мысли не может выражаться культурной или общестилистической концепцией вроде «готики» или «схоластики»: это не более чем аналогии. Историческое развитие мысли и сам субъект истории, сделавшей возможным появление этой мысли, вот что главное: «Основание истории духа лежит в развитии человеческой способности к воображению». Различные формы, в которые воображение воплощается, и отличают средневековое искусство от искусства Нового времени, в частности в отображении пространства.
Евклидовскую оптику, на основании которой в принципе можно было построить линейную перспективу, не «прочли» ни Античность, ни Средневековье. Возрождение открыло ее потому, что посчитало оптику «точной наукой и теоретическим методом познания». Понятно, почему XV столетие не могло даже просто сформулировать «проблему несоответствия между математической конструкцией и процессом психофизического восприятия». Боковые деформации, возникающие в глазах любого наблюдателя, находящегося на нормальном расстоянии от картины, написанной с соблюдением прямой перспективы, не корректируются здесь эмпирическим опытом, основанным на психофизическом восприятии. В эпоху Возрождения математика важнее чувственного опыта. Фрай напоминает, что применение оптики позволяет исправить эти искажения, точнее, включить их в «пластическое» видение картины: достаточно использовать линзу для аккомодации на таком расстоянии, с которого глаз взрослого человека видит нечетко. «Правомерное построение» назначает глазу единственно правильное положение, в котором линейная перспектива создает иллюзию пространства. Это положение позволяет также видеть в формах определенные пластические акценты, забывая об искажениях, вызванных системой композиции.
Различия в понимании пространства Фрай считает узловым элементом «истории духа». Ренессанс противопоставил характерному для готики принципу «соположения» – «единовременность». Кроме того, для средневекового человека образ не только визуален по своей природе: «Иллюзия, создаваемая образом, …намного более всеохватна, чем наша оптическая, в основном формалистская образная система, самим типом предлагаемого ей синтеза она ближе к поэтическим по своему происхождению представлениям». Это совпадение полностью забыто Ренессансом, разъединившим «формальные принципы живописи и поэзии».
В Средние века масштаб предметов и фигур зависит не от физической реальности, а от символического значения их как «концептуальных знаков». Средневековое пространство «можно вообразить себе лишь как отражение его содержания, как нечто качественное», Ренессанс же, продолжает Фрай, противопоставил ему «количественное пространство, определенное геометрией». Курт Бадт, напротив, попытался показать, что Возрождение стремилось к этому, но тоже осталось в рамках представления о пространстве, определенном его содержанием. По Фраю, средневековый человек не может помыслить пространство и время отдельными категориями: сливая пространство и материю так же, как это делает готическое здание, где «материя есть лишь принцип репрезентации пространства», он уже различает «непрерывность и бесконечность пространства», ставшие решающими в эпоху Возрождения.