Текст книги "Тайные общества русских революционеров"
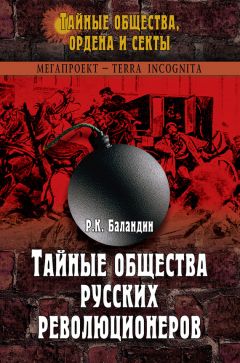
Автор книги: Рудольф Баландин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Результаты пропаганды
Активные крестьяне, готовые стать в ряды борцов, встречались очень редко. Чаще они выражали свои пожелания, более или менее отвечавшие критическим замечаниям пропагандистов. Но на призывы участвовать в борьбе отвечали, что могут лишь поддержать тех, кто начнет борьбу. При этом одни ожидали начала активных действий от царя (ведь он уже провел решительное преобразование, отменив крепостное право), другие – от революционеров.
Как тогда называли, оседлую пропаганду вели преимущественно лица, не имеющие определенных занятий. Такой народник поселялся обыкновенно в доме своих родных или знакомых. Немногие занимали должности учителей и фельдшеров. К ним примыкали небольшое число учителей, не вошедших в революционную партию, но сочувствовавших ей.
Пропагандист заводил знакомство среди ближайших крестьян или рабочих как будто без определенной цели, затем мало-помалу и осторожно начинал беседовать с ними, давая им для прочтения или даря революционные прокламации, книги.
Между пропагандистами оседлыми и летучими существовала взаимная связь; одни отчасти дополняли друг друга, обменивались информацией. В общем, как выяснили следственные органы, наиболее активными и охватившими сравнительно широкий круг людей во многих районах были летучие пропагандисты.
Но каков был общий результат? «Бесследно пропаганда, конечно, не могла пройти, – писал Ковалик, – а между тем не существует никаких видимых или материальных следов воздействия ее на народ. Сами участники пропаганды различно решали этот вопрос. Одни давали самый восторженный отзыв об успехах своей деятельности в народе, другие же видели в ней сплошную неудачу. <…>
Двойственность мнений происходит главным образом потому, что оценка происходит с двух различных точек зрения. Одни ищут материальных следов работы, как то: организации крестьянских групп, бунтов и других проявлений недовольства и т. п. – и не находят их. Поэтому они склонны думать, что движение 70-х годов было безрезультатно. Другие смысл движения видят в брожении, которое оно вносит всюду, куда проникает. С их точки зрения интеллигенция – это фермент, вызывающий известный процесс не только в среде интеллигентной молодежи, но и в народе. Фермент, казалось этой части деятелей, произвел свое действие, процесс брожения в народе чувствовался ими, и потому они находили, что недаром потеряли свое время».
Трудно даже приблизительно определить результаты революционной пропаганды народников. Отсутствуют объективные критерии. Каждый из участников этих мероприятий судил об их эффективности на свой лад. Кому-то его работа представлялась весьма успешной. Другой испытал разочарование и был уверен, что все его усилия пропали даром.
Возможно, объективней всех могли судить о деятельности народников официальные власти. В докладах начальству полиции было выгодно преувеличивать опасность революционной пропаганды для того, чтобы поднять свой престиж и получить более высокие ассигнования от правительства. Но на открытых процессах над революционерами не было смысла преувеличивать их воздействие на народные массы. В общем, на суде приводились более или менее объективные сведения.
Но в любом случае в народе пропаганда могла сказаться не сразу и даже не в ближайшие годы. Молодые народники были подобны сеятелям, разбрасывающим семена революционных идей на обширной Русской равнине. Но в отличие от всходов растений для этих интеллектуальных семян требовались потрясения и наихудшая социальная ситуация, чтобы они пробудились в душах людей. А в то время жизнь в стране протекала более или менее спокойно.
Когда участники «процесса 193» сидели в Доме предварительного заключения, ими получено было с воли одновременно две записки. Одна была от участника движения 1873–1874 годов, а потом отошедшего от него; другая – от человека, стоявшего близко к революционным деятелям 1876 года. Автор первой записки, знавший о предыдущей неудаче, был уверен: теперь уже окончательно покончено с попытками революционной пропаганды в России. Во второй записке, напротив, восторженно говорилось об успехах всего движения вообще и современного в особенности.
Одна из разочарованных народниц, А.Я. Ободовская, в одном из перехваченных полицией писем рассуждала так: «Тяжело то, друг, что большинство личностей, несмотря на единичные и серьезные ошибки и провалы, несмотря на множество поучительных для себя фактов, не становятся искренними, прямыми, беспристрастными аналитиками всего происшедшего в этот год; никто почти не сводит серьезно счетов с собою и с тем общим целым в его содержании и формах, которое успело достаточно выразиться и характеризоваться крайне грустно, даже мрачно… Не принимая сама непосредственного участия в попыточной практике, я тем не менее наблюдала и переживала целое в его частностях, простых и более сложных, которыми оно разрешалось от поры до времени; из них я составила понятие о тех средствах, которыми располагает теперь народное дело, и вижу я – живого нам дела теперь вовсе нет даже в живом зародыше…
Наши пропагандисты пропорхнули по Руси и нигде не пристроились, потому, вишь, что все им местности попадались неблагодарные; им приходилось отказаться от прежней сладкой надежды, что, ничего не делая, живя на чужой счет, ведя праздную жизнь в среде рабочего люда, они могут делать что-либо путное… Вот и не выходили они себе ничего со своими особыми, несвоевременными требованиями… Тысячи истратили они на свои демократо-туристские странствования, анархисты же главным образом занялись организацией провинциального юношества для немедленного поднятия революции… Теперь же… они думают отдуваться книжками, сочиняемыми ими, которые более мечтают о народе, чем знают его. Запасшись ими, набаловавшись мастерскими один-два месяца, они отправятся на дело. Опять начнется старая песня.
Все страшные провалы, кои были до сих пор, не научили, как видно, ничему товарищей наших. Провал прокламационистов, провал с рабочими фабричными и заводскими, провал с крестьянами в Ярославской губернии – ничего не указали. Московский погром. Войнаральский нашел типографию (Мышкина. – Р.Б.), которая взялась печатать нецензурные вещи, тюки с книгами пересылались в Саратов, один попался, с этого началось дело… в Москве арестованы две Лебедевы, Дубенские, брат и сестра, пять наборщиц… давно уже… взят Ковалик в Самаре… в Питере пока тихо – ждем».
Ободовская в то время ждала ребенка и решила посвятить себя семье. Она перечисляет провалы народников в городах, не упоминая о случаях поимки пропагандистов крестьянами и выдачи их властям. Скорее всего, так происходило редко, хотя прокуратура и жандармы, производившие дознание по политическим делам, старались показать, будто крестьяне сами переловили чуть не всех пропагандистов. В действительности, хотя среди крестьян немногие сочувствовали революционным идеям и тем более были готовы вступить в борьбу с правительством, доносительством они занимались редко, да и полицейских на периферии было мало.
По мнению «заинтересованного лица», активного народника Ковалика: «Первую брешь в стене, разделявшей народ от интеллигенции, пробило, несомненно, стремительное движение молодежи в 1874 году в народ. До этого времени казалось невозможным найти точку соприкосновения между двумя столь различными средами. Молодежь сделала отчаянное усилие, перерядившись в народные костюмы, сблизиться, чего бы ей это ни стоило, с народом. В результате ничего эффектного не произошло, но первая тропинка была проложена, по временам она могла более или менее зарастать, но не окончательно заглохнуть. Под влиянием брожения, семя которого было брошено в народ в 1874 г., в среде не только рабочих, но и крестьянства стали все чаще и чаще появляться лица, искавшие помощи интеллигенции в разрешении разных вопросов, касающихся их жизни… Силу и значение движения нельзя измерить числом сознательных рабочих и крестьян, воспитанных им. Это число, ничтожное вначале, растет чрезвычайно медленно и только через значительный промежуток времени достигает такого размера, что удивленные современники задают вопрос: откуда взялись сознательные элементы? Многие просмотрели, таким образом, рост сознания в рабочей среде и готовы просмотреть то же по отношению к крестьянам».
Естественно, Ковалик невольно мог преувеличивать успехи революционной пропаганды, которой занимался сам. Любому на его месте было бы трудно признать, что дело, которому он посвятил молодость и за которое пострадал, оказалось бессмысленным. И все-таки он, как мне представляется, достаточно объективно описал движение народников.
Свои воспоминания он написал сразу же после революции 1905 года. И подчеркнул: «Современное освободительное движение выдвинуло значительный контингент сознательных крестьян. Откуда они взялись? Не следует ли в этом признать виновным, хотя отчасти, движение 70-х годов? Где нужно искать объяснения сильного аграрного движения в Саратовской и других приволжских губерниях, в традициях ли только Стеньки Разина или, хотя немножко, и в том обстоятельстве, что агитаторы в 1874 году прежде всего бросились туда?
Поставить означенные вопросы – значит разрешить их. Заслуживает ли движение 70-х годов одобрения или проклятия, во всяком случае, оно оказало известное, и притом немалое, влияние на современное положение дел в крестьянстве и рабочей среде. Пусть кинематограф жизни не записал результатов этого явления в виде каких-нибудь выпуклых явлений или крупных фактов – он и не мог этого сделать, потому что внешние формы, в которых складывается жизнь народа, не изменились по существу – перемена произошла только в способах воздействия на народ и в степени сознательности лучших его представителей».
Главным результатом движения народников, начавшегося с большим душевным подъемом и большими надеждами, стал вывод: революционная пропаганда не находит отклика в русском народе. Надо было либо вовсе отказаться от подобной затеи, либо придать ей новые форму и содержание. Тем более что в середине 1870-х годов на революционную деятельность выделил значительную денежную сумму богатый молодой помещик Дмитрий Лизогуб.
Это стало существенным подспорьем для тайного общества. Материальное положение большинства народников было незавидным. Они старались устроиться на какую-нибудь работу в деревне, но возможностей было немного. По официальным каналам это можно было сделать почти исключительно через родных и знакомых. Скажем, так называемые народные учителя и писари получали более или менее приемлемое жалованье от земства и волости, а потому их утверждали власти. А сельские учителя и писари оплачивались скудно из крестьянских средств и могли лишь вдобавок кормиться поочередно в разных домах.
Весной 1877 года на конспиративной квартире в Петербурге собралась группа активистов из различных местных и региональных кружков. Они обсуждали программу, которая вскоре явилась идейной и организационной основой тайного общества «Земля и воля». Уже само это название должно было показать, что речь идет о реализации двух традиционных чаяний народа: обрести свободу и землю.
«Наша организация была еще юная, – писал О. Аптекман, – наша программа новая, наш путь – не проторенный еще путь. Конечно, немало препятствий еще предстояло нам преодолеть, но мы шли бодро: мы знали, что мы хотим и куда мы идем».
Знали, между прочим, и с какими документами шли в народ. Эти фальшивые паспорта и аттестаты, дипломы и свидетельства на звание фельдшеров, акушерок, учителей готовила специальная группа подпольщиков. Предполагалось, что группы революционеров, обосновавшись в разных населенных пунктах, но связанные с центральной организацией, соберут вокруг себя единомышленников-крестьян и, как только возникнет подходящая ситуация, выступят единым фронтом и свергнут существующую власть или заставят ее пойти на экономические и политические реформы в пользу народа.
Ни о каких террористических актах не было и речи. В. Осинский на одном из совещаний предложил для пополнения весьма ограниченных денежных средств тайного общества устраивать экспроприацию (по-русски выражаясь, грабеж) государственного, общественного, а в крайнем случае и частного имущества. Но его предложение было отвергнуто единогласно…
После общего обзора обратимся к двум конкретным и достаточно занятным примерам деятельности народников на основе оставленных ими воспоминаний.
Хождение в народ
О том, как проходила пропаганда революционных идей народниками среди основного населения России, можно отчасти судить по воспоминаниям А.О. Лукашевича, одного из рядовых участников «хождения в народ».
Он приехал из Херсона в Петербург летом 1873 года и поступил в Технологический институт. В общество чайковцев Александра Лукашевича приняли благодаря рекомендации, полученной им от Ф.В. Волховского, который еще с конца 60-х годов участвовал в революционных кружках.
У чайковцев Лукашевич обычно встречался с Купреяновым, Д.А. Клеменцом, А.Я. Ободовской (Сидорацкой), С.С. Синегубом, С.Л. Перовской и Л.Э. Шишко. Они вели пропаганду среди рабочих в нескольких петербургских фабрично-заводских районах. Эти убежденные народники произвели на него сильное впечатление самоотверженностью, энергией, простыми товарищескими отношениями.
Не раз, приходя в одну из их квартир, он видал пропагандистов-лекторов после беседы в какой-нибудь артели. Они с воодушевлением сообщали товарищам об успехах своей работы и о том, какими дельными пропагандистами становятся, в свою очередь, наиболее активные заводские и фабричные рабочие.
Иногда приходили и сами рабочие. Появлялся на столе самовар, а к нему сухари да сырая репа из ближайшей овощной лавки. Такое скромное застолье вызывало веселье. Нередко деловые совещания прерывались шутками, фантастическими проектами, смехом.
Лукашевич еще в Херсоне задумал «уйти» в рабочие и заняться просвещением народа где-нибудь в Центральной России. Этот план одобрили. Его познакомили с молодыми людьми, желавшими поступить так же. Среди них были гимназист из Воронежа Владимир Богомолов и еще два его земляка.
С ними скоро сблизилась компания бывших юнкеров Михайловского артиллерийского училища. Эти молодые люди восхищались декабристами и были настроены радикально. Сообща они устроили две мастерские: кузнечную и слесарно-столярную, где принялись осваивать ручной труд.
Несмотря на дружеские отношения с Лукашевичем, чайковцы не торопились посвящать его в свою деятельность и не сообщали ему о других подобных кружках в Петербурге, Москве и некоторых университетских городах. Конспирацию они сохраняли строго.
Однажды на одном из собраний он увидел новое приметное лицо. Незнакомец своим возрастом (около тридцати лет) и окладистой русой бородой (что, вероятно, и стало основанием для его псевдонима – Бородин) выделялся между всеми собравшимися. Большой ум и необыкновенная доброта чувствовались в его словах и взгляде. Несмотря на простую одежду, он производил впечатление переодетого профессора. Как позже выяснил Лукашевич, это был выдающийся ученый, князь Петр Алексеевич Кропоткин.
Через некоторое время, присмотревшись к Лукашевичу, чайковцы постановили принять его в свою среду, ознакомив с основами их организации. Впрочем, многие дела кружка он уже знал, о других догадывался. Но такое доверие, оказанное ему, юноше, он счел великой честью, которую ему еще надо заслужить.
Мастерские начали функционировать только в начале 1874 года, когда в Петербурге усилилось брожение среди учащейся молодежи. Происходили шумные многолюдные сходки. На них горячо обсуждались всевозможные вопросы – от политических до личных, связанных с поведением при выступлениях против существующего режима. Порой все это переходило в перебранку или пустые словопрения.
Занятый устройством мастерских и работой в них, Лукашевич редко и без особой охоты посещал такие сходки. Но отчасти именно благодаря ним пополнялись ряды желающих идти в народ, чтобы от слов перейти к делу. Устоявшиеся кружки чайковцев и, например, бакунинского направления, группировавшиеся около Ф.Н. Лермонтова (рано арестованного и умершего в тюрьме), высылали на сходки своих представителей, которые или выступали на них лично, или только направляли вербовку, учитывая данные прений.
Началось движение 1874 года, которое охватывало значительную часть учащейся молодежи, откликнувшейся на призывы. Правда, последовали и ответные меры властей: аресты чайковцев. Потерпели урон и учебные мастерские народников: одновременно с чайковцем Н.Л. Чарушиным был арестован и один из «мастеровых» – юноша Владимир Богомолов. Серьезных улик против него не было, однако Третье отделение собиралось «пристегнуть» его к предстоящему процессу над революционерами.
«Я до сих пор, – писал А. Лукашевич, – через 32 года не могу забыть сильного потрясения от ареста Владимира Александровича Богомолова, с которым я подружился на общей работе. Он и по возрасту очень подходил ко мне и чем-то напоминал товарищей по херсонскому кружку, среди которых у меня остались близкие друзья… Его арест я почувствовал как глубокое личное горе. Мне, еще не испытавшему тогда тюремного заключения, представлялось глубоко трагическим его положение там, за решеткой, в полной власти врагов.
Удар в моих глазах усугублялся тем, что товарищ был оторван от дела в момент приготовлений, когда он не успел, как следует даже и приступить к делу. Я пытался вообразить себе, какую муку должен испытывать этот умный, симпатичный, преданный делу юноша, этот любимый всеми товарищ… Вот он не успел и первого шага сделать и уже, как говорится, помер без покаяния… Меня стала неотступно преследовать мысль, что такая же злая участь, какая постигла его, ежеминутно грозит и каждому из нас. Завтра, быть может, сегодня, сейчас и мы будем изъяты, выхвачены – тоже “без покаяния”… Это настроение передалось и другим, и под влиянием его мы решили ускорить наш поход, не ждать уже, когда мы будем “готовы” для пребывания в народе, для пропаганды в его среде, – не ждать, а отправляться скорей, скорей, пока нас – ничего не успевших еще сделать – не забрали и не засадили в каменный мешок, как Богомолова, которого не суждено уже было никому из нас увидеть.
Он погиб трагически: был доведен до самоубийства пыткой одиночного заключения, продолжавшейся для него около двух лет. Он был, вероятно, первою жертвою в страшном по числу загубленных жизней, тогда еще совсем новом петербургском Доме предварительного заключения».
Шесть человек, включая Лукашевича, стали готовиться к выходу в народ. Они передали кузницу и слесарно-столярную мастерскую другому, вновь сформировавшемуся кружку народников. Подготовку к революционной пропаганде проводили основательно, почти как военную операцию, сначала решив провести рекогносцировку, как писал в своих воспоминаниях Лукашевич, «на театре будущих военных действий… именно она, эта рекогносцировка должна была доставить более надежные данные для будущего похода. Было решено разбиться попарно. Пары формировались, конечно, по личным симпатиям, и со мной в паре оказался один из артиллеристов – Давид Александрович Аитов, с которым я сошелся всего ближе и с которым после ареста Богомолова работал вместе и в кузнице, у одного горна».
Они выбрали себе Владимирскую губернию; другие две пары (из бывших артиллеристов) – Костромскую и Нижегородскую. Они считали, что население именно этих губерний должно быть типичным для всего великорусского племени. Перед отъездом каждый наблюдал некоторое время прибывающих в Петербург и выезжающих из него рабочих, намечая для себя образцы для подражания: надо было иметь безукоризненную внешность, быть «своим среди чужих». Выбирали соответствующий полушубок, головной убор, котомку, рукавицы. Когда все необходимое было куплено, заготовлено и налажено, они простились с наиболее близкими друзьями, получив от них сердечные напутствия с пожеланиями всяческого успеха, «побед».
7 марта 1874 года Лукашевич и Аитов выехали из Петербурга по Николаевской железной дороге. На другой день доехали без всяких приключений до уездного города Клина, откуда по заранее обдуманному маршруту было решено продолжить путь пешком, направляясь через Дмитров на восток, в давно уже намеченную Владимирскую губернию. В вагоне они сразу затерялись в тесноте, шуме и гаме среди серой рабочей массы. По примеру окружающей публики расположились спать под скамейками, не снимая полушубков. Никаких особых трудностей и неудобств не испытали. Напротив, было приятно наконец-то отдохнуть от суеты и напряжения последних сборов и проводов.
Оказавшись на улице маленького деревянного города, молодые люди вдруг отчетливо осознали, что оказались в какой-то другой цивилизации. Они чувствовали себя пришельцами, плохо понимающими нравы и обычаи местных жителей. Казалось, они здесь, как белые вороны, которых каждый распознает с первого взгляда: мол, это не местные крестьяне, а переодетые студенты, у которых под новенькими полушубками и простонародными картузами скрыты враги правительства, а в котомках спрятаны запрещенные листовки или даже бомбы.
Из Клина сразу же отправили письмо своим товарищам, сообщая о благополучном прибытии на место. Адрес необходимо было написать чернилами, и для этого пришлось зайти в аптеку. Если бы фармацевт, с готовностью одолживший «перышко» одетому в полушубок молодому «мужичку», полюбопытствовал взглянуть на конверт, то увидел бы на нем не совсем обыкновенный адрес: «Его сиятельству, князю Петру Алексеевичу Кропоткину». (В том же марте месяце Петр Алексеевич был выслежен шпионами и арестован. Но письмо было послано 8 марта и дошло исправно.)
Выяснив, где дорога на Дмитров, они тотчас отправились по ней и остановились только на ночлег в какой-то бедной деревушке. Встречаясь с прохожими, старались смотреть им прямо в глаза и иметь самый обыкновенный вид. Первый ночлег в избе тоже сошел вполне благополучно.
Неопытность в общении с «простыми людьми» и полнейшая непрактичность сказались уже на первых порах. Особенно ясно это проявлялось в неумении поддерживать разговор при неизбежных расспросах каждый вечер, когда приходилось устраиваться на новый ночлег. Крестьяне очень неохотно пускали в дом прохожих. Пешие гости вызывали у них подозрение. Те, кто был чуть-чуть побогаче, прямо отказывали в ночлеге или без всяких пояснений, или кратко и бесцеремонно высказывались о нечистых на руку всяких прохожих.
В самые бедные избы пускали, но почти везде только после тщательных расспросов: откуда идут и куда направляются и с какими намерениями. Нельзя было заранее сговориться о том, как отвечать, и не раз это приводило к путаным ответам. Признав товарища более находчивым, Лукашевич предоставил ему возможность отвечать на вопросы, а сам преимущественно отмалчивался.
Когда они в первый раз услышали всегда повторявшийся потом вопрос «чьи будете?», то не поняли, о чем идет речь, как будто с ними заговорили на незнакомом языке. Слово «чьи» звучало как наследие времен крепостного рабства. Потом уже сообразили: спрашивают, из какого уезда или какой волости родом прохожие.
Постепенно горожане-студенты осваивались со своей новой ролью. Особенно хорошо чувствовали себя по утрам, выйдя на простор из душной избы и освобождаясь от напряженного состояния «ряженых», вынужденных говорить на непривычном для себя «деревенском языке». На каком-нибудь повороте глухого проселка они принимались обсуждать революционные программы, вспоминая питерские сходки.
«Мы были, – писал Лукашевич, – счастливы в эти минуты своею молодостью, здоровьем, избытком энергии и сознанием добросовестно исполняемого серьезного долга. К тому же была ранняя весна – солнышко еще не сильно пригревало, но хорошо и весело освещало придорожные пейзажи и золотило по утрам видневшиеся вдали из-за зарослей главы скромных сельских храмов… По этим колокольням мы старались ориентироваться, справляясь о названиях сел и деревень по карте Главного штаба – десять верст в дюйме, – запасливо прихваченной в Петербурге. Но существовал в это время у нас серьезный повод для огорчения: мы уже перешли границу между Московской и Владимирской губерниями, а не находили нигде работы. Между тем именно этот «экзамен» мы считали самым важным и трудным, и, только выдержав его, каждый из нас мог питать более или менее основательную надежду па полное слияние с народом хотя бы в будущем. Здесь… мы скоро поняли, до чего незрелой была наша петербургская «кабинетная» манера решать вопросы. Там мы воображали, что стоит нам лишь захотеть работать, и работа явится сама собой. На деле оказывалось иначе; работу вообще бывает трудно найти в местностях, какова намеченная нами, откуда и «свой лишний народ» расходится на заработки по всей России. А в то время, когда мы там странствовали, т. е. незадолго до праздника Пасхи, и вовсе некстати было искать там работы: добрые-то люди как раз, наоборот, к Пасхе брали расчет и уходили на родину. Это и было нам высказано где-то уже в Александровском уезде, когда мы в сотый раз заявили, что ищем работы».
С приближением Пасхи хождение по дорогам из села в село в поисках работы становилось все более непонятным для местных жителей. Да и манеры их вызывали подозрение. Ведь в Центральной России они действительно чувствовали себя иноземцами. О религии и обычаях местного населения они имели только самое общее представление. Лукашевич был уроженцем Таврической губернии, а его родители были католиками; Аитов, сын интеллигентного магометанина, родился и вырос в Оренбурге. Оба не знали, как вести себя во время праздника Пасхи. Поэтому решили обсудить вопрос: не уехать ли на время в Москву?
Казалось бы, что тут обсуждать? Если грозит опасность, то почему бы не избежать ее? Однако они сомневались: не будет ли это проявлением трусости, отступлением от принятого плана. Решили не рисковать, чтобы избежать провала, и временно прервать хождение.
Вообще к себе они относились строго. Например, старались обходиться той пищей, которой их потчевали крестьяне за несколько копеек – черным хлебом и пустыми щами. А в городе они привыкли есть более или менее сытно, употребляя мясо и рыбу. Вот и задумались: допустимо ли им поесть хотя бы селедку? Между тем молодые организмы при серьезной работе – непривычной ходьбе – требовали чего-нибудь существенного.
В конце концов искушение победило. В ближайшей сельской лавчонке была куплена пара сельдей, и они устроили веселый «пир» у большой дороги. Такое чревоугодие обосновали логически: «Если селедки продаются в убогих лавчонках и в больших количествах на всех базарах, очевидно, их покупает не аристократия. Следовательно, народ иногда ест их, а потому можно и себе изредка позволять такую роскошь».
В уездном городе Александрове на железнодорожной станции им сообщили, что поезд в Москву будет только поздно ночью, и не позволили остаться ожидать его, довольно грубо выпроводив из помещения. На дворе было холодно, и моросил дождь. Пришлось вернуться в город и там переждать где-нибудь от обеда до ночи. Идти на постоялый двор было опасно: там спросят паспорта, а у них они фальшивые, хотя и неплохо сделаны. Решили пересидеть в трактире.
Потребовав обычным порядком «две пары чаю» и вынув из своих узелков запас черного хлеба, принялись, не спеша, угощаться. За соседним столом громко разговаривали двое. Один из них был хозяином этого заведения, а другой только что окончил какую-то работу при трактире и теперь выпивал и закусывал. Не умея разговаривать во всеуслышание да и опасаясь проговориться, народники главным образом молчали, только изредка обмениваясь впечатлениями вполголоса.
Через некоторое время они заметили, что хозяин трактира и его собеседник недружелюбно поглядывают в их сторону. Дело этим не ограничилось. Когда, расплатившись за чай, пришельцы остались сидеть за столом, по их адресу начали раздаваться нелестные замечания, а потом начались расспросы, более напоминающие допрос. Спрашивали, разумеется, «чьи» они, куда идут и «за каким случаем». Они назвались слесарями, работавшими на фабрике в Киржаче, где на самом деле никогда не были. На вопрос, а где у них инструмент, Аитов ответил, что на фабриках слесаря работают хозяйским инструментом.
– Они, должно, и вправду мастера, только по другой части, – сказал работник, обращаясь к хозяину. Он явно намекал, что это профессиональные воры.
Судя по всему, два безбородых и безусых парня, да еще оба черноволосые, более похожие на цыган, чем на жителей Центральной России, да еще в новеньких белых полушубках, каких, вероятно, в том уезде не носят, возбудили серьезные подозрения. Тем более говор и ответы невпопад. В России едва ли не в каждой губернии говорили на свой лад и «чужаков» быстро распознавали.
Ситуация становилась все более тяжелой. Теперь уже было бы небезопасно просто встать и уйти. Как поступить? А тут после переговоров вполголоса с хозяином неугомонный работник опять обратился уже прямо к Лукашевичу:
– Так ты, говоришь, был в Киржаче?
– Был…
– А сколько там церквей?
Пришлось отвечать наугад, что называется, с бацу:
– Пять!
Этот ответ взволновал и хозяина. А работник провозгласил с торжеством:
– Вот и видать, какие «мастера»!.. Одна там всего церковь, и никогда не было больше одной. Вы не то что в Киржаче, знать, и близко от него не были!
Он был очень разгорячен и готов был броситься в драку. Но хозяин, избегая серьезного столкновения, внушительным тоном посоветовал незваным гостям уходить сейчас «подобру-поздорову из трактира, пока до полиции дело не дошло».
– Ну и уйдем! – сказал Аитов с напускным спокойствием.
Они деловито забрали свои котомки и палки и, не торопясь, вышли из трактира. Неугомонный местный «следователь» напутствовал их словами: «От трудов праведных не наживешь палат каменных!» Вероятно, намекал на слишком новые полушубки у подозрительных пришельцев.
По дороге на вокзал Лукашевич захотел изорвать лист десятиверстной карты, которая в случае ареста и обыска могла послужить уликой против них. Ему казалось, что за ними сейчас же снарядят погоню. Однако ее не было.
Добрались до вокзала, сели в поезд и без происшествий добрались до Москвы. Несмотря на некоторые ошибки, они были довольны, что смогли провести разведку, и хотя в конце похода их приняли за воров, но все-таки не за переодетых студентов.
…Этот бесхитростный рассказ – свидетельство того, насколько был труден путь, который избрали народники. Слишком велика была поистине многовековая пропасть между образованными горожанами и крестьянами. Даже «баре», подобные князю Петру Кропоткину, воспитанные еще при крепостном праве, были лучше знакомы с бытом и нравом «простого народа», чем большинство студентов (не считая поначалу немногих разночинцев).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































