Текст книги "Бах. Эссе о музыке и о судьбе"
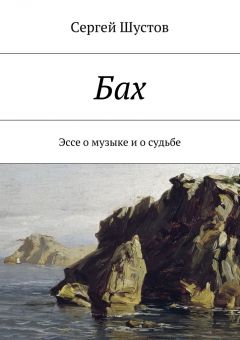
Автор книги: Сергей Шустов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Хоральная прелюдия «Все мы смертны»
Хоральная прелюдия «Alle Menschen Mussen sterben» BWV 643
Хоральная прелюдия «Alle Menschen Mussen sterben» (BWV 643), звучит настолько необычно, что заставляет вслушиваться в свою хрустально-обворожительную ткань (несмотря на то, что, казалось бы, у органа невозможно предполагать хрустального звучания), причем, вслушиваться так, как это можно еще обнаружить у человека только в одном случае – в лесу поздней осенью. Когда чудится какой-то непонятный шорох посреди оглушительной тишины. И человек пытается уловить источник звука и разгадать его происхождение. Страх и тайна, любопытство и чуткость слиты, соединены воедино в этот момент в голове человеке. А также видны в его поведении.
Это необычное состояние, которое более нигде и ни при каких обстоятельствах не обнаруживаются в нашей жизни. Переход в иное время и пространство. Перенос души в другое астральное тело. Как хотите, – но эту музыку невозможно разгадать именно потому, что, чем больше в нее вслушиваешься (сначала хотя бы просто потому, что она хрустальна и невесома), тем более в ней открывается тайн и страхов, любопытства и порождаемой ею чуткости. Так чуткость возводит сама себя в квадрат, далее – в куб, etc., стоит лишь ступить на этот путь «вслушивания».
Если бы психоаналитики и исследователи сумеречных людских состояний (типа Карлоса Кастанеды) попытались разобраться в том, что же происходит внутри такого слушателя, то, я уверен, они, опустив руки, переквалифицировались бы в совершенно иных специалистов.
И я, стоя посреди пустого и голого осеннего леса, смотрю в небо, туда, где светят тусклые облака и ветви лип тянутся к звездам, и, вслушиваясь в баховский контрапункт, повторяю как молитву: «Перед троном твоим стою, Господи…».
И здесь даже совершенно необязательно быть глубоко набожным человеком.
Не верю, нет, не органист,
Меня во прах поверг!
Летели камни сверху вниз,
А души снизу – вверх.
Был каждый вновь из ничего
Прекрасно сотворен.
О ты, слепое торжество
Знамен, племен, времен!
Тщета интриг, тщета вериг,
Тщета высоких слов…
Есть у человека первый крик,
Любви внезапный зов.
Есть добрый труд из года в год
И отдых в день седьмой.
И время течь не устает,
Как небо над землей.
Какая разница: свеча
Или мильоны свеч?
Какая разница: парча
Или лохмотья с плеч?
Геройствуй, схимничай, греши, —
За жизнью, – только смерть.
Лишь в редких проблесках души
Сияет третья твердь.
Там над обломками эпох,
С улыбкой на губах,
Ведут беседу Бах и Бог,
Седые Бог и Бах.
(Глеб Семенов. «Бах»)
«Бах был, по-видимому, первым из композиторов, кто… смог сделать свою музыку самостоятельным воплощением глобальной мироконцепции. Крупнейшие произведения Баха уже не включены в религиозное действо, но выражают его идею, воплощая модель средневекового космоса.»
(Найдорф М. И.)
«Бог должен быть благодарен Баху, ибо Бах – единственное доказательство наличия Бога».
(Изабель Юппер)
Продолжение рода
Трио-соната для гобоя, скрипки и генерал-баса BWV 1040 фа мажор
Многие ли композиторы могут похвалиться тем, что народили сыновей и воспитали их как истинных музыкантов?! Нет, не многие! История мало знает таких примеров. История больше подсовывает нам такие, где папа либо бил и обижал маленького будущего композитора, понукая его к непрестанным занятиям музыкой (Паганини, Бетховен), либо беспрестанно приманивал своего подающего надежды дитятю конфетками и пирожными к роялю (Моцарт, Шопен). В обоих примерах «кнута и пряника» преследовалась, впрочем, одна и та же цель: сделать из чада достойного музыканта, который бы зарабатывал деньги семье и был оправданием несбывшихся собственных устремлений отца стать большим музыкантом. Никто из великих композиторов-классиков не оставил миру собственных сыновей-музыкантов, не говоря уж о том, что эти сыновья стали маститыми композиторами. Это смог сделать только плодовитый и чадолюбивый папаша Иоганн Себастьян Бах.
Из 20 детей Баха тринадцать умерло в младенческом и детском возрасте. Тогда это было обыденным делом: детская смертность. Однако никогда не была обыденным делом отцовская скорбь. И потому Бах, как никто другой из композиторов, должно быть, с полным правом и с неистовой силой воплотил эту скорбь в своей музыке. Четверо старших сыновей стали еще при жизни отца очень известными музыкантами и сочинителями музыки. Отец дал им все, что только может дать настоящий, талантливый педагог. Еще при жизни он понял, что его музыка не умрет. Так как хотя бы четыре ветви дуба дадут свои желуди, а те – рано или поздно, свою поросль. В свой черед.
Одна ветвь – на нее Бах-отец особо рассчитывал, глядя в будущее – протянулась в славный город Галле. Это Вильгельм Фридеман. Старший. Самый. Как виртуоз-органист, он не уступал отцу и, видимо, часто соревновался с ним в игре на «короле инструментов». В 1746 г. он стал кантором в Галле (за него отец просил и писал нижайшие письма магистрату!) и пробыл в этой должности целых восемнадцать лет. Молва говорит, что он много пил, был гулякой и задирой. От отца он, возможно, унаследовал вспыльчивый характер. Но, увы, не унаследовал упорство и трудолюбие. Он много скитался по городам и весям (тоже, наверное, сказались папины гены). Но нас сейчас интересует его музыкальная сторона. Вильгельм Фридеман был отличным музыкантом. Об этом свидетельствует вся его (дошедшая до нас) музыка! И, конечно же, он прекрасно понимал, какой композиторской величины был его отец. Нам хочется верить, что это действительно так. От старшего, самого подающего надежды заботливому отцу, сына осталось 8 концертов, 9 симфоний, более 20 духовных кантат, сонаты для 2 флейт, много органных и клавирных сочинений. Однако, как пишут исследователи, «…многим современникам сочинения Фридемана казались чересчур сложными» (!). Ох уж эта сложность! Как она мешала славе и популярности самого старика Баха! Словно бы, начни сочинять он водевили (в стиле Оффенбаха) или, на худой конец, застольные песни для таверн и кабаков, тут-то его слава бы и настигла! В полном своем величии и со всеми причиндалами! То-то бы он повеселел!
Второго сына Фортуна обласкала гораздо сильнее. Чем даже предполагал отец. Карла Филиппа Эммануэля величали уже при жизни «великим Бахом», а впоследствии за ним закрепились титулы – «берлинский» или «гамбургский» Бах. Помните, как отец-Бах стремился в «музыкальный город Гамбург»? Так вот, сыну довелось воплотить отцовскую мечту! В Берлине он прослужил целых 24 года придворным клавесинистом у короля Фридриха II, и только потом, уже после смерти отца, он занимает почетное канторское место в вольном городе Гамбурге. Как музыкант он был почитаем и обожаем публикой. Йозеф Гайдн, Амадей Моцарт и Людвиг Бетховен испытали сильное влияние его стиля и учились на его опусах. С Моцартом он был в друзьях. От отца же ему досталась и учительская жилка. Так, он издал учебник игры на клавире «Versuch ber die wahre Art das Clavier zu spielen». В отличие от отца, ему повезло с распространением своих сочинений: почти все они были изданы при жизни автора! Карл Филипп Эммануэль оставил миру гигантское музыкальное наследство – 19 симфоний, 50 фортепианных концертов, 9 концертов для других инструментов, около 400 сочинений для клавира соло, 60 дуэтов, 65 трио, квартетов и квинтетов, песни, кантаты, оратории…. И только опер он не сочинил. Ни одной. Как и его отец!
Третий сын – Иоганн Кристоф Фридрих (1732—1795) – занимал должность концертмейстера и капельмейстера при дворе в Бюккебурге. За что получил наименование «бюккебургский Бах». Пишут, что в его творчестве (а оно весьма значительно!) ощущается влияние модного тогда итальянского стиля, царящего при всех уважающих себя европейских дворах. Иоганн Кристоф оставил после себя 12 клавирных сонат, 12 струнных квартетов (иногда их исполняют как флейтовые), секстет, септет, 6 клавирных концертов, 14 симфоний и прочее. Отец вполне мог гордиться бы и им!
Младший сын от второго брака – Иоганн Кристиан (1735—1782) – именуется обычно «миланским» или «лондонским» Бахом. Когда отец умер, Иоганну Кристиану было всего 15 лет. (Именно в этом возрасте, напомним, сам Бах остался сиротой – и отправился в самостоятельное плавание по житейскому морю, начиная с Ордруфа, из дома старшего брата Иоганна Кристофа). Из всех братьев он меньше всего испытал на себе музыкальное и педагогическое влияние великого отца. Премудростям игры на клавире его обучал сводный брат – Карл Филипп Эммануэль. В Италии он обучался у знаменитого падре Мартини и там добился признания публики как оперный композитор. Когда слава молодого композитора распространилась за пределы Италии, он получает приглашение от королевского двора Англии и уезжает, подобно Генделю, искать счастья на чужбине. Великого Генделя уже как три года нет в живых, и молодой Бах заполняет своим мастерством (прежде всего, оперным) образовавшийся при дворе королевы музыкальный вакуум. Так, через младшего сына, Иоганн Себастьян Бах пересекается с линией судьбы своего «двойника» Генделя. На поприще оперы, столь любезной сердцу англичан (Гендель подготовил ему плодородную почву!), Иоганн Кристиан добивается больших успехов, и как сочинитель, и как дирижер. Проявился в нем и дар педагога: многие члены аристократических семей и даже сама королева брали у приезжего «итальянца» уроки пения и игры на клавесине. Пишут, что его прижизненная слава порой затмевала популярность самого «удачного в музыке» из сыновей Баха – Карла Филиппа Эммануэля. Но эта же слава его и погубила. Пишут, что «…он не выдержал испытания успехом и довольно рано остановился в своем художественном развитии. Он продолжал работать в старом стиле, не обращая внимания на новые течения в искусстве; так и получилось, что баловня лондонского высшего общества постепенно затмили на музыкальном небосклоне новые светила».
Его наследие включает 11 опер, около 90 симфоний и других сочинений для оркестра, 35 концертов, 120 камерных инструментальных произведений, более 35 клавирных сонат, 70 опусов церковной музыки, 90 песен, арий, кантат и прочее. Вот еще цитата о «лондонском» Бахе:
«…И все же его влияние на музыку XVIII века было значительным. Кристиан давал уроки девятилетнему Моцарту. В сущности, Кристиан Бах дал Моцарту не меньше, чем Филипп Эммануэль – Гайдну. Таким образом, двое из баховских сыновей активно способствовали рождению стиля венской классики. В музыке Кристиана немало красоты, живости, выдумки, и хотя его сочинения принадлежат к „легкому“, развлекательному стилю, они до сих пор привлекают теплом, нежностью, выделяющими Кристиана из массы модных авторов той эпохи. Он работал во всех жанрах, с равным успехом – в вокальных и инструментальных».
…..
Много говорят о том, что уж лучше бы сыновья Баха не брались за папины архивы после его смерти, а препоручили это важное и ответственное дело кому-нибудь из друзей семьи. Тому же Кребсу, например. Учеников у Баха, слава богу, было изрядно, даже с избытком! Много говорят о том, что сыновья не поняли истинного величия отца-сочинителя. Много говорится также о том, что сыновья ничего не сделали для того, чтобы пусть не увековечить память о великом Мастере, так хотя бы распространить о нем достойные его Творений слова, да и сами Творения издать и распространить!
Есть и другие мнения. Насчет баховских отпрысков. И их значения и роли в развитии мировой культуры. Сейчас мы оставим в стороне вопрос об их собственной значимости как композиторов. А, для начала, спросим вновь: почему так получилось, что столь музыкально-одаренные сыновья после смерти Баха словно бы сразу забыли о Творчестве отца? Так вот, на этот вопрос как раз и есть множество мнений. Поскольку точного ответа мы так и не знаем.
Первое мнение – примиренческое. Давайте посчитаем, что сыновья сделали все, что могли. Или посчитали нужным. Разве они ничего не делали? Это, конечно, не так! Карл Филипп Эммануэль и королевскому двору в Берлине отца представил (где сам служил), и некролог прочувствованный сочинил (вместе с Агриколой), и Николаусу Форкелю первые сведения биографического толка об отце рассказал прилежно и усердно. Исполняли отцовские произведения по городам и весям сыновья, даже за границу их привезли. Уж явно Иоганн Кристиан (старший от второго брака, которого назвали «миланским» и «лондонским»), исполнял отцовские творения и в Италии, и на берегах туманного Альбиона, да еще и рассказывал о своем замечательно-талантливом батюшке в кругу профессиональных музыкантов. А как же иначе? Чтоб ничего об отце-музыканте не рассказать? Да быть такого не может! Его учитель – падре Мартини – высказывал о Бахе-отце высокие похвалы. Думается, что в них есть и сыновняя доля участия. Так что – несправедливо упрекать их в сыновней неблагодарности и забывчивости.
Второе мнение – обвинительное. Дескать, поняли братцы, когда архив стали разбирать, кто таков был и есть их отце! Почувствовали его истинную мощь и величие как композитора. Ведь при жизни-то он им явно играл и исполнял далеко не все! Так, чисто педагогические упражнения: органную книжечку (для Вильгельма Фридемана), клавирные маленькие прелюдии (для Карла Филиппа Эммануэля) … Всё-то он и сам не слышал никогда! Именно эта картина красочно описана в новелле Юрия Нагибина «Перед престолом Твоим стою». Испугались братцы! И – постарались забыть… Так как пред такой гигантской вершиной любой композитор-сочинитель спасует и почует свою собственную несостоятельность…
Третье мнение высказал Михаил Казиник. Оно оригинально, но не неправдоподобно. Его можно назвать – провидческое. От слова «провидение». Или – парадоксальное. Так как идет вразрез с нашими обывательскими (привычными) житейскими установками. М. Казиник пишет следующее: «…В истории человечества был эпизод, когда один гений, живя в два раза дольше Моцарта, поднял музыку на такую недосягаемую высоту, что этому виду искусства грозила катастрофа. Поскольку продолжать после него было некуда и некому». А перед этим приводит строчки Пушкина:
«Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?»
Гений, о котором говорит М. Казиник, это, конечно же, наш Бах. В роли Сальери единым фронтом выступают старшие сыновья Баха. Они отчетливо понимают, какая величина в мире музыки – их папа, и что станется с композиторским ремеслом, если весь мир узнает о Бахе-отце. И тогда братцы сознательно идут на то, «чтобы этого гения просто забыли». Они открывают осознанно дорогу постбаховской музыке. Идут ради святого дела и блага для всего человечества на сознательное забвение музыки отца (как, однако, кощунственно-двусмысленно звучит эта фраза!). Но – иначе не будет ни Моцарта, ни Гайдна, ни Шёнберга, ни Брукнера, ни Грига… Никого. Потому как всё уже сделано. Вершина вознеслась. Гималаи воздвиглись. Нет никакой надежды превзойти их или хотя бы даже что-то близкое соорудить рядом.
«Наследника нам не оставит он». Ведь достоверно известно, что лишь мимолетное знакомство Моцарта с мотетами Баха выбило первого из творческой колеи весьма крепко и надолго! Только с мотетами! А если бы Моцарт ведал о «всем океане»?!
В таком случае действия К. Ф. Э. Баха (его, по крайней мере) можно только приветствовать. Ведь, не растеряв ничего в своей доле отцовских рукописей, он словно бы только «законсервировал» их, дозированно открывая миру. Зная, что рано или поздно плотина прорвется! Это был, конечно же, большой риск. В 1784 – 87 гг. Карл Филипп Эммануэль публикует (с помощью Кирнбергера и издателя Брейткопфа) хоральные прелюдии отца, в четырех томах. Делает первый шаг. Но больше таких шагов, увы, не последовало…
Федор Иванович
Концерт для гобоя д’amore с оркестром BWV 1055R A-dur
Иногда во мне вспыхивал, словно смоляной факел, казалось бы, совершенно праздный вопрос: сколько еще людей на Земле сейчас так же не могут помыслить своего существования без Баха, как и я? И вновь мною овладевало бестолковое в своей сути чувство эгоизма. В центре этого чувства вновь помещалось мое личное представление о музыке и о людях; я вновь хотел, чтобы другие, много других, незнакомых мне мужчин и женщин, юношей и девушек (а, может быть, даже и детей! Ведь погрузился же я в Баха в двенадцатилетнем возрате!) шли этой же, моей, тропой и восхваляли кумира.
Глупое желание, надо сказать! С высоко поднятым над головой факелом я шел вперед и освещал сам себе дорогу, а рядом шли другие люди. Которых я не знал. И никогда ранее не видел. Но они так же, как и я, желали одного – восхваления и поклонения. Ведь в этом своем глупом вопросе я отчетливо мог разглядеть гнилую сердцевину: мое озарение и избранность должны быть подтверждены наличием таких же пилигримов, мудрых и чувствующих.
Не был ли, однако, этот вопрос всего лишь праздным любопытством? Погружение в Баха, и это я осознавал всегда, не требует свидетелей, толпы, соучастников. Бах, повторяю себе вновь и вновь, разговаривает с человеком тет-а-тет, наедине, сокровенно. И в этом его сила. Тем не менее, я страстно хотел знать, какова эта сила? Как ее выразить? Разве не очевидным кажется метод, позволяющий определить эту силу по числу людей, захваченных ею в свое «магнитное поле»!?
И, вот что странно, готовясь к Баху, я готов был призвать в свидетели кого угодно, мне нужны были люди, чтобы сказать им о Бахе, провозгласить его. Но, как только я погружался в его музыку, весь этот мессианский пафос мгновенно улетучивался, – и я оставался наедине с Богом совершенно сирым и нагим, в ветхом одеянии и в растрепанных чувствах. И мне уже не надобно было никого более…
«Не сотвори себе кумира», – учили Библия и древние. Может быть, мы неправильно, не так, как подразумевали они, трактуем слово «кумир»? Макс Фриш по этому поводу писал, что законченный образ человека можно создать только бесстрастно, отстраненно, если еще (или уже) не любишь его или если пишешь о мертвом.
….
Как пробивается музыка к сердцу? Какими струями или каплями точит она камень? Как, каким образом взламывает она черствость и равнодушие, покрывающие бронированным панцирем погрязшего в житейской суете человека? Каков этот путь?
Существует теория «факторов». По ней необходимо совпадение нескольких благоприятных параметров, для того, чтобы случился инсайт – озарение. Эта вспышка происходит вдруг. Как молния. Как любой огонь, которого только что не было, и никто даже не подозревал о нем, и вот внезапно он засверкал и открылся миру. Но для любого огня необходимы предпосылки; хотя бы трут и искра. Факторы должны разложиться так, в нужное время и в нужном месте, чтобы малейшей искры стало достаточно для возгорания.
Я помню, как впервые меня в двенадцатилетнем возрасте застиг врасплох Бах. Но я все-таки был подготовлен к этому озарению хотя бы тем, что знал о нем, о музыке вообще, и, наконец, сам мог кое-как и кое-что околомузыкальное воспроизводить на рояле.
Но как может прийти глубокая музыка к человеку, казалось бы, совершенно неподготовленному предыдущей жизнью к «музыкальному» озарению?
Я знал одного такого человека. Звали его Федор Иванович. Как Шаляпина (Шаляпина мы еще помянем). Судьба его любопытна. Он всю свою жизнь прожил в сельской местности, в небольшом поселке на берегу большой северной реки, достаточно уединенно. В тот момент, когда мы с ним познакомились, ему исполнилось 68 лет. Жена у него давно умерла. Схоронил он и единственную дочку, долго и тяжело болевшую. В остальном судьбу этого человека нельзя было назвать трудной, полной утрат, горечи и поражений. Он всегда с удовольствием трудился и любил до самозабвения свою работу (а работал он электриком в колхозе), хорошо зарабатывал, был в почете у односельчан, его уважали и ценили даже не столько за «золотые руки», сколько за самоироничный, неунывающий характер.
На тот момент, когда Федор Иванович остался один, в большом, собственными руками выстроенном доме, он еще был полон сил и энергии. Он не смирился с одиночеством. Дом был кладезем всяческих хитроумных технических находок и изобретательных приспособлений. Мысль Федора Ивановича носила наукообразный экспериментально-технический характер. На чердаке все окна имели ставни, поворачивающиеся на «ножках». Мебель вся выточена и изукрашена собственными руками. К трубам прямо из гостиной вели какие-то проволочки, управляемые рычагами, так, что крышки на трубах регулировали силу тяги в домашних печах. Что касалось электричества, то здесь диковин было особенно много. Некоторые я так и не смог разгадать. Выключатели по всему большому дому и подворью были сделаны таким образом, чтобы хозяин, идущий за какой-либо надобностью в дальний угол, заранее мог включить там свет, в то время как реле последовательно и медленно включало все лампы по очереди на всем пути следования. Когда же хозяин возвращался обратно, достаточно было также нажать одну лишь кнопочку, как вся операция последовательного освещения и следующего за ним затухания шла волной в обратном направлении, сопровождая хозяина. Для блинов, которые Федор Иванович обожал, был сооружен странный механизм, более всего похожий на центр управления полетами. Только вместо компьютеров стояло три круглых штурвала, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении опять же электрическими реле. Реле, по видимому, были любимой штучкой Федора Ивановича. А регулировали они, соответственно, три нагревательных элемента, на которых можно было одновременно печь три блина на трех сковородах.
Не люблю я ждать!, – объяснял мне Федор Иванович, – а уж когда блинков захочется, так особенно ждать не люблю! Говорю, бывало, Машуне своей, царство ей небесное, – сготовь-ка, мать, блинков на свином сале, – а сам уж и релюшки свои включил, для разогреву… Вмиг она и напечет! На трех-то, автономных, сподручнее. Да и не подгорит ничего, только рули крути. Она тут у меня как штурман стояла!…
Задумался тут Федор Иванович. Погрузился в воспоминания. Но когда сели мы в зале чай пить за знакомство, обратил я внимание на новенький, хоть и недорогой, музыкальный центр, красующийся на затейливом шкафчике, явно изготовленном любовно все теми же руками.
Музыку слушаете, Федор Иванович?
А как же без музыки?, – встрепенулся хозяин. – Вот, покажу-ка сейчас, здесь мое богатство…
И распахнул мне хозяин шкафчик под музыкальным центром. И увидел я там, в глубине его, сокровища несметные… Три полочки были забиты, нет, нужно сказать точнее, аккуратно заполнены плотными рядами компакт-дисков. И еще разглядел я буквы, крупно и с любовью написанные на картоне. Буквы висели, приклеенные к полочкам, по отдельности, по одной букве на полочку. И было их, соответственно, три. Б, В и Г. Пространство с дисками под «Б» было особенно обширно.
Что такое обозначают буквы?, – чтобы хоть что-то спросить и отделаться от чувства ошарашенности, пролепетал я, нагибаясь к полочкам.
Б – это Бах, В – Вивальди, а Г, стало быть, Гендель, – просто ответствовал мне Федор Иванович.
Тут я окончательно ошалел. Прямо даже присел на домотканый цветастый половичок. А хозяин говорит:
Хозяйство мне в Администрации района подарили, – и показывает на музыкальный центр. – Как ветерану войны, ко Дню Победы. И вот с тех пор я немцев-то и слушаю (улыбается). Без них не могу и себя помыслить.
Расскажите, Федор Иванович, поподробнее, как музыкой этой «заразились»? Почему Бах?
Так иначе и быть не должно; это ведь самая сердечная музыка. Без нее я бы и уход Маши не пережил бы… Бах во всем мне помогал. А услышал я его еще в Германии, в войну. На трофейных пластинках.
А Гендель? Вивальди? Я уж подумал грешным делом, что у Вас тут по алфавиту музыка распределена. Только вот «А» открепилась от полочки! (Во мне все трепещет уже, в радости предвкушения духовной близости, как перед открытием, открытием чужой души; это – один из самых сокровенных моментов человеческой жизни, когда один человек другому тайники души приоткрывает).
Эти друзья у меня для радости. А Бах – для всего. Он – главный. Выше Баха только Бог. Генделя люблю слушать, когда сад цветет. Вивальди – осенний. Много у него в музыке осени, но осени радостной, урожайной, ядреной. Бах же – в тяжелые минуты. В скорбь, бывало, ударюсь, сердце схватит, застучит ли, перебоями пойдет, Машуню свою вспомню, Танюшку… Тут только Бах спасет. Слезу уроню – и легче станет… (Тут Федор Иванович опять приумолк на минуту, глаза увлажнил…). В и Г у меня для общения с природой. Такие уж они светлые. А Бах, он первым идет, он повыше, он до людей дотягивается… Только он.
Долго мы в этот осенний вечер сидели с хозяином, тихо беседовали, а рядом был Бах. И хотя на дворе, точнее, в хозяйском саду, стояла «вивальдиевская» осень, с яркими кленами, румяными яблоками, мы слушали Баха. Федор Иванович, почувствовав, видимо, во мне тоже родственную душу, демонстрировал мне диски и рассказывал о «своей музыке».
Оказывается, такую «дискотеку» собрал он за 8 лет. Выписывал ее по почте из Москвы. По каталогам. Два или три раза специально ездил в областной центр и покупал там. До этого собирал виниловые пластинки, и, кстати, шикарную коллекцию собрал. Слушает и их. Там даже германские раритеты имеются.
Слушая хозяина, я поражался, как много знает о музыке, о композиторах Федор Иванович, сельский электрик с семью классами школьного образования и послевоенным техникумом за плечами, как тонко и наблюдательно говорит он о музыке, как глубоки и оригинальны его мысли и суждения о ней. Внешне бесхитростные, лишенные каких бы то ни было музыковедческих терминов и сентенций, они поразили меня внутренней озаренностью и посвященностью, словно кто-то свыше открыл неведомые другим людям тайны жизни и музыки этому рабочему человеку, ни разу не бывавшему за свою жизнь в концертных залах. «Механику-самоучке», – как он сам себя иронично величал.
Кстати, – спросил я его, – а что ж Вы на концерт какой не съездите в город? Там – живая музыка…
И, словно подтверждая мои собственные раздумья, хозяин ответил просто:
– Каждый слушает свое и по-своему. Бывал я один раз на концерте, памяти Шаляпина, тезки моего. Люблю его голос. Но – там пели другие. Нас тогда еще с Машуней родственники затащили. Шум, топот, суета. Народ мешает друг другу. Кто кашляет, кто чихает, кто спит, кто в буфет идет… Не смог я слушать. Слушал – да не слышал. И – зарекся… А у Баха ниточка к сердцу человеческому одна. Никто не должен ее задевать неосторожно… Ей простор нужен.
Поразила меня и манера Федора Ивановича слушать Баха. Он готовился к этому моменту как к молитве. Плотно садился на стул, клал громадные заскорузлые ладони себе на колени и опускал голову вперед, на грудь. Глаза не закрывал. Или закрывал ненадолго. Словно лбом хотел боднуть кого – и глядел исподлобья вперед. Я полагал, что он устроится уютно в кресле, откинется назад, закроет глаза, как обычно делают люди, желающие насладиться мелодикой.
Когда мы вели беседу, он выключал музыку, словно показывая, что нужно делать что-то одно. Когда же звучал Бах, он не произносил ни слова. Слушал же он совершенно отрешенно. Это не была медитация. Скорее, можно было назвать эту манеру вслушиванием, чутким и максимально внимательным. Так малые дети и старые люди читают серьезную книгу. Только громадные ладони обхватывали с силой колени чуть заметным движением – и снова затаенно затихали, как две готовящиеся к осеннему отлету птицы.
После я допытывался у него:
Федор Иванович, так погружаясь в звуки, Вы стремитесь понять, что хотел сказать композитор?
Нет, я не думаю о нем. Я пытаюсь понять, что хотел бы в это время сказать сам…
…………
У Ромена Роллана есть такой литературный герой – Кола Брюньон. Неунывающий селянин, которому жизнь постоянно строила козни и готовила неприятности, но так и не добилась от него ненависти к себе. Что-то поначалу напомнило мне в Федоре Ивановиче этого героя. Но позднее я понял, что совершенно не нужно сравнивать Федора Ивановича с французским пейзанином. Сравнивать – это смотреть на мир своим взглядом. А попытайся-ка, говорил я себе, посмотреть на мир, на людей глазами Федора Ивановича. Дозволено ли тебе будет достигнуть подобного?
Мудрости учит Бах, говорили мне многие. Нет, не соглашусь я, пожалуй, и с таким суждением! Мудрости нельзя научить. Мудрость человек постигает исключительно сам.
– Баха надобно самому постичь, – сказал мне на прощание с крыльца Федор Иванович. Железная птичка, сделанная руками хозяина, прозвонила мне внутренним колокольчиком «До свидания!» над калиткой. Великая северная река текла прямо за домом, за огородами. Облака вставали столбами за далекими краями лесов. В саду гулко стукались о землю подмороженные за ночь яблоки. Осенняя паутина летела в лицо. Скоро выйдут звезды. Мудрый мир лежал вокруг нас, двух людей, прощающихся на крыльце…
Ниточки к ныне живущим людям идут от Баха. Через все времена и пространства.









































