Текст книги "Чужак"
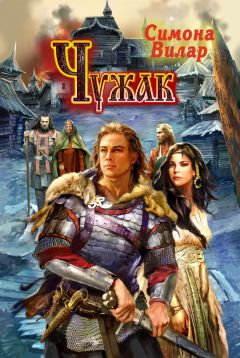
Автор книги: Симона Вилар
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Глава 4
Ясным осенним вечером боярин Микула, по прозвищу Селянинович, наблюдал, как от пристаней Вышгорода отчаливают его струги с товаром. Микула отправил их в далекую Новгородскую землю, где, как известно, в этом году был недород. У полян же год выдался урожайным, да и убрали все без потерь. Так отчего бы нарочитому боярину Микуле не поторговать с северными словенами,[114]114
Словене – славянское племя с центром в Новгороде.
[Закрыть] несмотря на то что в последние годы Киев не очень ладит с Новгородом? Но ведь и не враждует открыто! А Микула умел блюсти свою выгоду. Словене новгородские – люд богатый, щедро расплатятся. Но все равно, чтобы не привлекать внимания князей киевских, он отправлял суда-насады не с берегов Почайны, а из Вышгорода, расположенного севернее.
Когда последний корабль исчез за поворотом реки, к Микуле подошла его старшая жена Малуня – помощница и советчица. Подала связанные жгутиком дощечки, на которых особыми письменами – черточками, кружочками, галочками – значилось, сколько кораблей и сколько на них груза отбыло.
– Ничего, что в ночь отправили струги?
– Нормально. Дружина на них добрая, к рассвету они уже Припять минуют.
То, что он отправил корабли торговые в конце желтня,[115]115
Октябрь.
[Закрыть] Микулу не волновало. Опытные корабелы довезут груз до смоленских волоков[116]116
Волоки – сухопутные отрезки пути между реками.
[Закрыть] до того, как мороз скует реку, там волочане дотащат груз к Ловати. И если не удастся сбыть товар прямо там, местным торговым людям, можно и дальше караван двинуть. Хотя, скорее всего, сговорятся.
Стоявшая рядом Малуня слегка тронула мужа за рукав.
– Домой поедешь али тут заночуешь?
Микула повернулся, ласково провел большой рукой по щеке жены. Она уже немолода, но для него так же мила, как и тогда, когда купил ее, древлянку дикую, на рынках рабов близ Угорской горы. Все еще синеглазая, белолицая; глубокая борозда меж бровей не столько лет, сколько значимости ей придает. Под облегающей голову и щеки белой тканью шали не видно седины в волосах. И стройна, как и прежде. Эх… Микула вздохнул. Да, роди ему Малуня хоть единое дитя, разве взял бы он в дом другую жену? А вот пришлось же. А Малуню отселил в Вышгород. Хотя и в этом оказался резон: кто бы иначе так толково вел его дела здесь?
Малуня только чуть кивнула, словно понимая невысказанное.
– Может, и хорошо, что едешь. Сыну твоему, Любомиру, лучше, если с ним чаще будешь.
Микула взглянул из-под тяжелых век сумрачно. Глаза у него были славянские – серо-голубые. Волосы русые, с сединой. Короткая челка едва ложилась на крутой лоб с мощными надбровными дугами. Борода густая, аккуратно подрезанная, холеная. Лицо же у боярина Селяниновича было суровое, со следами шрамов – лицо воина в летах.
Малуня на мужа глядела любовно. Сказала, что если ехать, то прямо сейчас, ибо ночи в желтне рано наступают. Она всегда все понимала. Но сейчас даже это не тешило Селяниновича. Молча пошел туда, где отроки держали его соловую. У Микулы был не один табун крепких гривастых коней, а вот поди ж – ездил только на своей соловой. Ее же впрягал по весне в плуг, когда по традиции приходило время вести первую борозду, пахотное время открывать.
Боярин легко вскочил в седло – словно и не разменял уже пятый десяток. Конем правил, как еще на хазарской службе научился – одними коленями. Уздечку наборную держал, словно ленту, чуть пропустив между сильными пальцами. Следом ехали два кметя-охранника, не столько оберегать боярина, сколько для солидности. У Микулы Селяниновича по его положению должна быть свита.
Микула стремился поспеть на последний паром через Днепр. Паромщики – мужики хитрые. Если не ко времени их потревожить, могут и двойную цену за переправу взять. И хотя от этого нарочитый Селянинович не обеднеет, а вот возни лишней, споров не хотелось. Пока же он ехал от Вышгорода по добротному большаку до Киева. Вдоль дороги выступали богатые селища, пахло дымком очагов. Край тут был спокойный, ехалось легко. Но Микула не глядел по сторонам, весь уйдя в свою думу.
Кажется, чего бы ему кручиниться? Ведь достиг всего, о чем мечтать можно: от сохи возвысился до боярских браслетов, сам Аскольд наезжает погостить в его Городце Заречном, вся округа о нем знает, говорит почтительно, – а радости нет. Может так устроен Микула, что нет в его душе благостного успокоения? Всегда словно что-то гложет его. Вот когда молодой и безродный был, наемником-бистаганом[117]117
Бистаган – воин, находящийся на содержании Хазарского каганата.
[Закрыть] гонял коня на службе хазарского каганата – каждый миг жизни ценить умел. Да и позже, когда потянуло к родным богам и он поселился близ Киева, в каждом начатом деле надежда была радостная. А помнится, как трудно было подниматься, сколько сил уходило на то, чтобы стать нарочитым мужем. Начинал ведь с небольшого кошеля с серебром, которым расплатились с ним каганы за военную службу. Своим он тогда служить не хотел, незначительными и небогатыми казались. Но в Киеве ничего, жить да подниматься было можно. Вот он и поднимался. Сначала нанял людей и освободил от леса землицу заднепровскую у протоки Черторый. Засеял поляны, но скоро понял, что на одном жите не поднимешься. Тогда начал по осени артель сколачивать, за пушниной отправлять, ходить за этим мягким златом в леса да продавать на рынках Киева. Торговать у него ловко получилось, а там и смекнул, как еще можно расшириться. Нанял прях-ткачих за плату, и те всю зиму ткали для него парусину. Когда на Днепре сходил лед и наступало время снаряжать суда, парусина шла по красной цене. Но и с землей Микула не порывал, после нескольких урожайных лет вновь свои угодья расширять надумал. Особенно после того, как сумел Микула сплотить мужичков да отбиться от головников, любивших бесчинствовать в таком неохраняемом месте, как Заречье Днепровское. Вот тогда под его руку и пошли с охоткой селяне. Мол, мы оброк тебе, Микула Селянинович, а ты нам защиту от головников, от которых в Заречье просто спасу не было. Дальше – больше. Расширяясь, Микула и рудокопов нанял, и кузни строил, а там и борти медовые начал из лесу привозить в свое хозяйство. Бортники и рудокопы охотно с ним дела имели, считали, что честный Селянинович не обманет. Но как не обмануть? В торговом деле без этого нельзя. Да вот только меру он всегда знал, не обижал. И весело ему тогда жилось, радовался жизни, хотя уже тогда тоска первая появилась: не было кому дело передать, не родило детей лоно Малуни, жены любимой.
Но и это вроде поправимо. Особенно когда смог так возвыситься, что не грех уже было и с боярством киевским породниться. Невесту брал из рода Вышаты, мужа нарочитого, рода древнего. Сам Аскольд подсобил в том новому боярину, которого за умение и охрану рубежей заречных наделил боярскими браслетами. Он же и просватал ему Любаву, дочь Вышатину. И она уже через пару месяцев понесла. Вот бы и обрадоваться, но счастья все равно не было. Ревнивой и неуживчивой оказалась Любава-боярыня. Не желала жить с древлянской предшественницей – и все тут! Так разошлась, что едва руки на себя не наложила, когда уже беременной была. Узнай в Киеве бояре, что Селянинович женщину их рода до самоубийства довел, – вряд ли было бы ему сладко после того в городе появляться. Но и тут Микула выход нашел. К тому времени он уже собственные причалы в Вышгороде возводил, склады обустраивал, ему там свой человек нужен был. А Малуня всегда помогала мужу толково. Вот он и возвел ей терем в Вышгороде, наезжал туда, когда получалось. Любава же наконец успокоилась, детей стала рожать. За восемнадцать лет жизни при муже пятнадцать раз разрешалась от бремени, но выжило только пятеро. И то хорошо. Со стороны же казалось, что все ладно у боярина нарочитого, уважаемого в Киеве. Да только новая беда приключилась: обидел он чем-то молодого князя Дира и стал тот Микулу задирать, а потом даже напал неожиданно. Микула отбился от него, как от находника злого. Бедой это могло обернуться, но пронесло. Аскольд и бояре с Горы Микулину сторону приняли, но спокойствия уже не было. Понимал, что молодой князь не простит обиды. Вот и бередила душу тревога: сколько еще он мужем нарочитым в Киеве может оставаться? Не пришла ли пора сниматься с обжитых мест да уходить куда подалее? А может, нрав у него такой нерадостный был? Или старость уже подступала? Но в старость верить не хотелось. Какая старость, если кости не ломит, силушка играет, а младший его сынишка еще совсем глуздырь, его еще поднимать, учить надо. А вот старший сын, Любомир, соколом вырос. Правда, этим летом учудил. Сбежал из дому, примкнув к ополчению киевскому, которое пошло к Диру, когда тот в степях с хазарами бился.
Тогда в Киев от Дира богатый обоз пришел. Люди говорили, как лихо побил степняков их младший князь, сколько добычи взял – и людьми, и конями, и возами, – отбив у хазар награбленное. Но возвращаться в Киев Дир не спешил, готовился пройтись и по землям извечных врагов полянских – древлян. Вот ему ополчение и собрали. И с ним-то и отбыл тайно Любомир, посеяв в сердце отцовском страх и тревогу. Ведь было нечто в Любомире, отчего Микула не пускал сына в войско. И оказался прав. Любомир, хоть и вернулся среди тех немногих, кто после древлянского похода уцелел, да только будто подменили парня. Волхвы говорили, исполох завладел им. Может, и исполох. Да только считай уже больше месяца Любомир людей дичится, сидит в закуте, смотрит в стену, ни с кем не разговаривает.
На паром успели. К Городцу, усадьбе Селяниновича, подъезжали уже по темну. За сжатыми нивами Городец возвышался на насыпи темной значительной массой, отсвечивая изнутри огнями. Здесь еще не спали, дожидались хозяина. И едва он появился, сторожа на вышке подали сигнал отворять крепкие ворота.
Во дворе заходились лаем псы, но, признав в прибывших своих, стали повизгивать, припадая на лапы. Из людской вышла челядь. К спешивающемуся Микуле подбежали двое дворовых отроков, даже заспорили, кому соловую вести в стойло. Боярин обоим отпустил по незлобивому «лещу», заметив, чтобы сперва поводили лошадь по двору, дали остыть.
На высокое крыльцо вышла боярыня Любава. Дородная, статная, выряженная, как Твердохлеба-княгиня, на византийский манер, в серебрящиеся одежды. Боярыня стояла, подняв плошку с огнем. Родовая спесь не давала ей кинуться навстречу, но по дрожавшему от волнения в руке жены огоньку, по сдерживаемому нетерпению Микула понял, что его сударыне есть что сказать. И наверняка о сыне.
– Ну что, звала волхвов? Смотрели сына?
Она закивала так, что даже тяжелые височные кольца закачались.
– И не только их, но и настоятеля Агапия из христиан кликнула. Он-то и помог.
И, уже принимая у мужа дорожный опашень на рыжей лисе, стала тараторить, как волхвы едва не подрались, споря, как выливать исполох, а вот Агапий прямиком прошел к Любомиру, беседовал с ним долго. Она пыталась подслушать, но побоялась. Бог весть какой силой обладают эти христиане, что их даже в Царьграде чтут. А что Агапий помог, сразу стало видно. Любомир-то впервые к общей трапезе вышел, справлялся, когда родитель вернется.
У Микулы радостно застучало сердце, но к сыну в горницу поднимался степенно, не спеша.
– Здрав будь, сокол мой Любомир.
Сын вскочил с лежанки.
– Тато!
Так звал он отца еще несмышленым мальчишкой. И от этого у сурового Селяниновича увлажнились глаза. Захотелось обнять юношу, приголубить – такого крепкого, юного, с русыми кудрявыми волосами, ниспадающими на глаза. Но сдержался.
– Если есть что сказать – я всегда готов слушать.
Он и раньше говорил это сыну, но тот только отворачивался. И сейчас что-то мелькнуло во взволнованных синих глазах. Может, не так что сказал Микула? Он всегда был суров. Но теперь для сына себя сломил.
– Душу ты мне всю вытряхнул, хлопче мой. Не видишь али, что раз тебе покоя нет, то мне и подавно плохо.
У Любомира тряслись губы.
– А то, что скажу… В радость ли тебе будет?
– Мне все от тебя в радость. Только не молчи. Слышал, с этим длиннополым Агапием ты поделился. Али он тебе ближе отца родного?
– Он понимает. Они… христиане вообще понятливы. Волхвы бы меня за это с капищ прогнали камнями, житья бы не дали. Ты же… Я всегда знал, какой ты великий воин был, отец. В самом войске бистаганов удаль показывал. Я же… – Он вздохнул, собираясь с духом. – Я трус, отец.
Микула никак не отреагировал. Опустился на покрытый овчинами полок, жестом велел сыну сесть рядом. Видел, какое взволнованное и жалкое у того лицо.
Но Любомиру все же удалось взять себя в руки. Рассказывал спокойно. О том, как они с ополчением присоединились к войску Дира в степях, как весело шли вдоль древлянских лесов, как нападали на редкие селища. Тогда страха он еще не чуял, хотя и уходил, когда Дир, как обычно, начинал древлянских воев калечить. Муторошно становилось, в животе дрожало. Думал, это пройдет, когда своего первого врага зарежет, узнает, каково это – вражью кровь пролить. Потом они углубились в чащи. Лес там густой, нехоженый, порой просто приходилось прорубаться в чаще. Но проводники у Дира были из самих древлян. Князь их детей вез в обозе, грозился казнить люто на глазах отцов, если не выведут его проводники к древлянским погостам, к селищам, запрятанным в чаще. Однако, пока шли лесом, растянуться пришлось. Обозы и вовсе отстали.
Напали на них внезапно. Словно ведали о рейде Дира с дружиной, поджидали. Проводники вмиг исчезли, а к обозу было уже не вернуться. Да и о каком обозе говорить, когда казалось, что сам лес шел на них в атаку, стрелы летели отравленные, с визгом наскакивали древляне, страшные в звериных личинах, покрытые листвой. Возникали словно прямо из-под земли.
Вот когда Любомир настоящий страх ощутил. А древляне шли так, как и не ведалось. Отовсюду несся их дикий клич. Выскакивали их воины, налетали их бьющие ястребы, набрасывались их страшные клыкастые псы, свистели их стрелы, даже деревья вдруг стали валиться, видимо, заранее подрубленные. А потом полетели из леса вязанки горящего хвороста, словно какой-то гигант метал их. Сушь в лесу была, потому и запылало все. Он, Любомир, шел сразу за отрядом прославившегося варяга Торира. Копье того умело биться по-особому, Гуляй Полем, да только получилось, что в лесу выстроиться как надо не выходило.
У юноши было несчастное лицо.
– Я держался среди своих покуда мог. Мне хотелось бросить все и бежать. Но куда? Те, кто сходили с тропы, оказывались в спрятанных под листвой ямах-ловушках, напарывались на заостренные колья, стонали страшно. И я жался к группе воинов из ополчения, даже, кажется, отбивался. Подле меня был Сурко, рыбацкий сын. Ты ведь помнишь его, отец? Он жил в селище на Черторые. Мы с ним и в поход вместе пошли. И как же смел был Сурко, как сражался, даже меня прикрывал! Но вдруг… В голове моей загудело, и я стал падать. Это позже я понял, что меня просто оглушило камнем из пращи. Шлем выдержал, но на несколько минут я словно потерял соображение, рухнул под кусты. А когда выполз… Гляжу, вокруг все пылает. Карабкаясь, я схватился за что-то, но это оказалась отсеченная рука. И тут я запищал, как заяц. Умолк, только когда увидел Сурко. Сурко еще был живым, даже силился привстать, но над ним уже сидел скрючившийся древлянин, рвал из распахнутой на животе раны Сурко внутренности и пожирал их. А как повернул ко мне лицо свое, жуткое, раскрашенное, окровавленное… Но я не убил осквернителя и злодея. Я сбежал.
Очнулся где-то в зарослях. Огонь и крики были в стороне. Но я был все в том же гиблом древлянском лесу, и эти упыри– древляне могли прятаться за каждым деревом. Тогда я затаился, сидел в кустах и хотел лишь одного: чтобы лешаки лесные меня схоронили, спрятали от людей.
Вдруг слышу – кто-то идет. Не спеша так, уверенно. Я выглянул из убежища и увидел варяга Торира. Он остановился шагах в пяти от меня, огляделся и, приложив руки ко рту, прокричал трижды дикой птицей. Из леса ему ответили. Но я не стал ожидать, что будет дальше, вылез, кинулся к варягу. Ведь Торир из дружины Дира, да и витязь славный. С ним я бы не чувствовал себя таким беззащитным.
Он сперва как будто шарахнулся от меня. Лицо было такое, словно убьет сейчас. Но я плакал и просил помочь. И похоже, варяг смягчился. Велел сидеть тут, пока он не вернется. Я бы и сидел, если бы откуда-то не налетел этот древлянин, спрыгнув сверху. Я видел его рожу совсем близко – страшную, наполовину черную, наполовину красную, жутко оскаленную. Когда древлянин замахнулся, я успел только откатиться. Он все же достал меня своим тесаком, но у меня были твои доспехи, и они выдержали. Хотя удар получился сильный, даже разбил мне ребра, и они шатались и болели потом… Ах, отец, лучше бы он убил меня тогда. Но не убил. А меня обуял исполох…
Помню только, как что-то кричал появившийся невесть откуда Торир и раздавался звон булата. А очнулся… О, лучше бы я умер тогда же!.. Ибо я был весь изгажен собственным дерьмом. В животе моем саднило, и Торир, который тащил меня, был весь перепачкан тем, что не удержала моя утроба. Он не скрывал своего презрения. Однако он спас меня! Обмыл в ручье, обмылся сам и вновь потащил, пока мы не догнали своих. И этот варяг Торир ни единым словом не обмолвился о моей трусости. Меня считали одним из тех, кто чудом уцелел в той резне… Потерпевшим неудачу, но спасшимся хоробром. А Торир молчал.
Рассказывая, Любомир даже отсел от отца, вжался в стену.
Микула Селянинович молчал. Легко ли родителю узнать, что его любимец трус? Но и другое понимал боярин: вся дальнейшая жизнь Любомира будет зависеть от того, что он сейчас скажет. Поэтому сперва осторожно спросил:
– Ты и христианскому попу все это поведал?
Любомир отрицательно мотнул головой. Сказал, что лишь на страх свой жаловался, но ничего не рассказывал.
– Это хорошо, – вздохнул Микула. – Ведь спасший тебя варяг молчит, будем молчать и мы.
У Любомира было измученное лицо. Легко ли парню вновь и вновь переживать такое, мучая себя позорными воспоминаниями? Микуле трудно было начать речь. Не мастак он был цветисто говорить, а тут слова надо было сложить так, чтоб они до сердца сына дошли. И Селянинович медлил: то подвигал поближе масляную глиняную лампадку с огнем, то отодвигал, глядя, как кренится язычок пламени.
– Ты нашел в себе мужество поведать мне обо всем. Это хорошо.
Любомир чуть поднял голову, ждал. И тогда отец заговорил… Он сказал, что не все рождаются отмеченными Перуном воинственным. Любомиру это рано довелось познать – что ж, в том есть и своя польза. Будет знать, чего ему лучше избегать, где не надо рваться проявлять себя. И если нет у него ратной храбрости, зато голова мыслит ясно. Разве отец не поручал ему прежде дела – и как с людьми сговориться, и как дело торговое наладить? Любомир всегда справлялся с редкой для его юного возраста смекалкой и умением. Да и речью сын владеет так, как Микуле и на раде боярской не удается. Сейчас вон как он все поведал, даже когда говорил о своей панике, страхе, обычно туманящем разум. Вот не ответит ли он Микуле на пару вопросов?
Любомир слушал, морщил лоб под длинным чубом. Не показалось ли ему, что не все с этим лесным походом ладно? Например, не знали ли древляне заранее, что на них пойдут, раз успели собраться таким скопом? Ведь древлянские роды не больно между собой дружат и их не просто объединить для схватки с киевскими витязями. Да и манера боя не та. Обычно они нападают быстрыми наскоками и так же быстро исчезают. А на этот раз, похоже, киевлян продуманно завели в заготовленное место да и обложили, как кабанов во время облав.
Любомира поразили неожиданные выводы отца. Но это и хорошо, отвлечет от собственных дум-кручин. И, припомнив, как все было, он стал рассуждать, делиться мыслями с отцом. Да так здраво, продуманно, словно и не владел им исполох… или, как оказалось, стыд-позор. И юноша сам подивился, какая картина вырисовывалась.
– Что же это выходит, родимый? Неужто соглядатаи враждебные в дружине киевской завелись? Как же иначе лихие супостаты о походе дознались? Как смогли и обозы отбить, и ямы-ловушки заготовить на пути, куда проводники вели? Кто упредил древлян, кто подучил проводников?
Селянинович успокаивающе положил большую ладонь на плечо сына.
– Погоди горячку пороть. Все, о чем мы говорим, пока лишь наши домыслы. Древляне тоже ведь не лыком шиты, могли и проведать, куда дружина киевская идет.
Сказал это затем, чтоб успокоить сына, но у самого на душе было неспокойно. Потрепав Любомира по голове, велел отправляться почивать. Дел у них на завтра много. И с хитниками[118]118
Хитники – изыскатели болотной руды; рудокопы.
[Закрыть] встретиться, чтоб кузни в зимнюю пору не простаивали, и ястребов погонять – дичи побить. Так что пусть сын выспится, чтоб к утру голова ясной была. А о терзаниях пущай забудет. Кто в этой жизни не оступался да дров не ломал?
– И ты ошибался, тато?
Любомир впервые улыбнулся. Правда, еще робко, застенчиво. Но до того же пригожим показался родителю – сердце замерло. А ямочки на щеках у парня – ну прямо Любавины.
– Всяко бывало и со мной. Как-нибудь поведаю.
Сам поднялся на гульбище, опоясывавшее второй поверх усадьбы. Стоял, прислонясь плечом к резному столбику навеса. Думалось боярину о варяге этом, Торире, который столь недавно прибыл к Диру и о ком уже столько речей вокруг. И странное вертелось в мыслях боярина.
От темнеющего в стороне леса веяло осенними запахами и сыростью. Местность по эту сторону Днепра была низменная, болотистая. В окрестных лесах немало заводей, заросших ряской. Давно подумывал Микула их осушить, да только в весенние паводки вся окрестная земля вновь влагой от разливавшегося Днепра наполнялась. Однако не об этом размышлял сейчас Микула, когда произнес в дремотную темноту:
– Что бы там ни было, но этот варяг спас мне сына. А значит – я его должник.
Солнечная желтневая погода все держалась. Леса пестрели красками, лист опадал тихо и плавно, ковром устилая землю.
Для Микулы осень всегда хлопотное время. Селянинович не больно полагался на тиунов, за всем приглядывал лично, да и Любомира не оставлял, заставлял всюду ездить с собой, давал поручения. Проследить, как унавожены поля, как наполнены риги соломой для скота, как обустроены конюшни и хлева к предстоящему зимнему суровью. Вместе с сыном он отправлялся смотреть на зеленеющие среди ярких лесов озимые пашни, следить, как заготавливают штабеля дров для зимнего времени.
Как-то, вернувшись из поездки, Микула увидел во дворе рослую фигуру певца Бояна. Спешившись с коня, он поприветствовал гостя. Они ладили с Бояном, а его приход для боярина всегда был в честь.
Но в этот раз Боян прибыл не один, а с дочерью. Микула обратил на нее внимание, лишь когда Боян сказал о ней. Дескать, напросилась со мной девка Карина, уговорила ее Селяниновичу представить.
О дочке Бояна Микула был уже наслышан. Говорили, мол, сумела сделать то, чего никому до нее не удавалось, то есть уговорила родителя отдать ей то место на Подоле, где раньше Боян любил просто посидеть, песни попеть да люд потешить. По разумению Микулы, в этом только блажь была, отвлекать людей от дела – торга. А ведь и место было самое для торговли удобное, у Боричева узвоза, где всегда людно, где народ с Горы и на Гору движется. И вот в этом году на точке этой торговой вдруг дочь Бояна стала свой торг вести. И чем? Смешно сказать – орехами. Прежде их дети вокруг Киева собирали да разносили по городу, по хозяйским дворам за мелкую плату. Но дочь Бояна сама заплатила детворе, и они стали к ее лотку носить орехи. А в Киеве известное лакомство – ореховые пироги с медом. Вот и потянулись к ее лотку на Подоле хозяйки, ругались, что цена высокая, а все равно брали. Да и гости торговые не утруждали себя поисками лакомства, подходили, покупали. Хотя долго такое продолжаться не могло. Всякое дело в Киеве быстро другими перенимается. Но хитрая Бояновна не тянула с начальным промыслом. И как накопила деньжат, обустроила на месте у Боричева узвоза богатые лавки с навесами, мостки к ним выложила, раскрасила все ярко. И сдала в аренду. Не кому-нибудь, а кузнецам известным – Стоюну да Жихарю. И брала с них за то немалую плату.
Микуле это ловким делом показалось, потому и любопытно стало увидеть сию разумницу Карину. Пока ее родитель с боярином разговаривал, она в сторонке держалась, а как заметила, что Микула ее глазами поискал, поднялась с завалинки, шагнула вперед. Завидев ее, Селянинович даже заморгал. Ишь какая! Высокая, стройная, плечи отведены назад, голова гордо поднята на лебединой шее. Держится – ну что княгиня. И одета нарядно, хотя без вызова, как бы сказали в иных землях – элегантно.
По прохладной осенней поре на девице был крашеный темно-алый полудлинный кафтан, в груди узкий, стянутый рядом мелких темных пуговиц, а ниже колен ниспадал широкими складками. У ворота, запястий и по подолу оторочен черным каракулем. Юбка снизу черная, с яркой тесьмой до щиколоток, открывала узкие, по византийскому крою сапожки с острыми носами. На голове пушистая соболья шапочка с алым парчовым верхом. В ушах чуть колышутся полумесяцы сережек, а через плечо перекинута длинная коса, черная, как и каракуль ворота, алой кистью на конце украшенная.
Девушка подошла, глянула дымчатыми глазами из-под темных бровей вразлет. Брови свои, не подведенные. Да и румян красавица не наводит, личико у нее белое, овальное, кожа гладкая.
– Многие тебе лета, боярин Микула, – сказала с поклоном. – Прости, что напросилась к тебе в неурочное время. Да только дело у меня такое, что сейчас лучше решать.
– Ишь ты – сразу и дело. Ты сперва гостьей в терем мой войди, хлеб-соль отведай.
Такой красе почет не оказать – сам на себя обидишься. И провел их с Бояном Микула в терем, велел нести угощение.
Боян в Городце и раньше бывал, потому не глазел по сторонам. Он вообще к богатству других не шибко был любопытен. А вот дочь его оглядывалась, глазами сверкнула. И Микула с гордостью подумал, что есть на что тут поглядеть столь прекрасным очам.
Полы в тереме Селяниновича были сложены в шахматном порядке из брусков алого и черного цветов. Бревенчатые стены увешаны узорчатыми ткаными коврами, между ними крест-накрест висят начищенные копья. Окна – со вставленными в свинцовые переплеты кусочками светлой слюды в виде кружков да ромбиков. Лари, скамьи, кресла – все в резьбе, даже ножки выточены в виде когтистых лап. Длинные столы накрыты алым сукном с бахромой. Под сводом на цепях горят масляные светильники. Масло в них заморское, светлое, без копоти и запаха. А уж печь – огромная, целую торцевую стену занимает – устроена со специальным дымоходом-трубой, и вся выложена узорчатой византийской плиткой – изразцами.
За столы в доме Микулы садилось много людей: сами хозяева с гостями, дружинники боярина, челядь, немало и прихлебателей – сородичей дальних, прислуги. Кормили обильно: подавали в глубоких горшках варево на мясе и рыбе, густые масленые каши, огромного сома жареного, запеченных в подливе из ягод куропаток, грибы соленые, икру осетровую, репу разваренную. Пили сладкие кисель и квас, к концу трапезы и мед хмельной выставляли.
За столами было весело, разговаривали, шутили, смеялись. Женщины следили, чтобы дети не слишком шалили, стариков слуги подкармливали. Как подъели малость, кто-то попросил певца Бояна поведать кощуну-былину. Сидевший подле отца Любомир встрепенулся, подался вперед. Даже боярыня Любава, до этого хмуро поглядывавшая на гостью-красавицу, и та заулыбалась. Но по обычаю спросила мужа, дозволит ли. А как не дозволить, когда песни Бояна радость и счастье в дом несут?
Но сам Микула не больно в пении разбирался. Послушал сначала ради приличия о деяниях старых героев и их удали, но, заметив, что дочь Боянова на него выжидающе глядит, сделал ей знак и встал из-за стола.
Они поднялись в ближнюю горницу, сели под окошечко.
– Давненько я с такими красавицами не уединялся, – усмехнулся Микула, распуская цветной кушак на сытом животе. – Ну, что скажешь, девушка?
Она держалась без смущения. Заговорила сразу о деле, о том, что приглядела одно место на Подоле, возле ручья, который Кудрявцем зовется. Место хорошее, близко и от причалов Почайны, и от Житного рынка, правда, недалече стоит невзрачный храм христиан, но это в стороне. И подумалось ей, что неплохо бы там было возвести гостевое подворье.
– Какое подворье? – не понял боярин.
Карина стала пояснять. Ведь в Киеве всегда много приезжих, некоторые с одним возом прибывают, но есть и такие, кто целые караваны ведет. И те и другие обычно устраиваются на постой у киевлян, для которых это дело весьма прибыльное. Однако, как ей рассказывали, в иных землях так не принято. Там есть дома, где гости торговые располагаются со своим товаром, не завися от воли хозяев. Вот и она задумала построить такое гостевое подворье, где бы приезжие могли жить в удобстве и где их будут сытно кормить. И плату за то можно брать немалую.
– Погоди, девушка, – поднял руку боярин. – С чего ты взяла, что дело это выгорит? Те же бояре с Горы не позволят, да и невыгодно это для хозяев, что с постоя мзду берут.
– Потому и пришла к тебе, Селянинович. Ты вес в граде имеешь, тебя всякий послушает. Вот и добейся разрешения, мол, под собой это подворье держать будешь. Тебе не запретят. А при любом подворье постой по домам в Киеве не прекратится. Я же, как отстрою подворье да стану там заправлять, начну тебе с прибыли оброк платить чем скажешь – кунами ли, гривнами али еще как.
Микула пошевелил кустистыми бровями, обдумывая. Он тоже знал, что в иных городах заморских такое принято и выгоду приносит, но чтоб в Киеве? С другой стороны, он общался с гостями приезжими, слыхивал, как те выражают недовольство, что вынуждены под обычаи хозяев подстраиваться. А в отдельном гостевом подворье они могли сами быть себе хозяевами, только деньги плати.
– А большое ли будет подворье? – спросил.
У нее даже лицо засветилось. Стала рассказывать, что надумала построить в ряд несколько небольших теремов двухповерховых, соединить их мостками. А за ними – склады, где товар храниться будет, скотина содержаться. Двор будет общий, с кузней и кухней, можно и общую трапезную соорудить.
Микула слушал, пощипывая ус. То, что она предлагала, сулило выгоду. К тому же Карина говорила, что возьмет на себя и расходы на постройку, и зазывал наймет, чтоб в порту гостей привечали. В дальнейшем собирается хозяйство вести, а ему, Микуле, треть от дохода отдавать. Вот тут она прогадала, неопытна еще, – он бы и на меньшее согласился, ибо выгоду уже углядел. Ведь от него-то никаких хлопот, а куш немалый получить можно. И все, что от него требуется, это место на свое имя застолбить.
– А не боишься ли, девица, что я, пользуясь тем, что на меня место будет, сгоню тебя со временем?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































