Текст книги "Чужак"
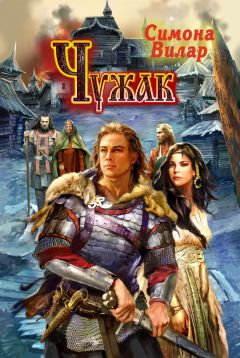
Автор книги: Симона Вилар
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Когда незнакомка вошла, даже скоморохи притихли, только кто-то присвистнул восхищенно. Она же, завидев приглашающий жест Бояна, подошла ближе, села на лавку с самого края, но глядела так, словно ей первое место должны были уступить. Ивка засуетилась, придвинула миску с варениками, даже Третьяк кувшинчик со сметаной подал. И когда она улыбнулась… Боян напряг память. Было у него волнующее чувство, что и впрямь где-то видел он девицу эту. Но как мог позабыть? Краса такая редко встречается. Какие ресницы, какая гордая белая шея, какой яркий выразительный рот! Однако с расспросами приступать не спешил. Чувствовал, что гостье негаданной следует оглядеться, обвыкнуться.
Карина и впрямь робела. Прежде думала, что, как только разыщет батюшку, так в ноги и кинется. А сейчас видела, что не признал ее родитель. Да как и признать в ней, бродяжке замызганной, ту маленькую девочку, которую некогда качал на коленях, песни ей пел.
После трапезы Боян занял место на полавке у окна, скоморохи у его ног на шкуре медвежьей расположились. Говорили о предстоящем празднике, о новых песнях. И словно уже не потешники непоседливые были, в глаза заглядывали серьезно, каждому слову внимали.
Карина понемногу пришла в себя, огляделась. Да, богато живет певец Боян. Печь в его доме большая, беленая. Вдоль одной из стен наверх ведет лесенка с резными перилами. А сами стены ярко расписаны, все в завитках причудливых трав, цветов, птицами длиннохвостыми разрисованные. Вдоль помещения целых пять окошек вырублено, небольшие, все в резных наличниках, распахнутые сейчас по теплой поре. И каждое окошко цветным рушником убрано.
Карина замерла, когда Боян заиграл на гуслях. Видела, как слушают скоморохи. Сама заслушалась.
– Уразумели? – спросил Боян. И, повернувшись к одному из потешников, проговорил: – А ну, поддержи.
Тот достал дудочку, подхватил мелодию. Тут и другой скоморох стал наигрывать на сопилке, а бородатый лысый дед со шрамом на темени забренчал на простецкой трехструнной балалайке. Да так верно мотив уловил, что просто диво.
Карина так бы и слушала, но не дали. Бояна от нее заслонила тучная фигура Олисьи.
– Что сидишь без дела? Поела, так будь добра помочь Ивке казан помыть.
Карина подчинилась. Во дворе у колодца помогла девочке-рабыне скрести посуду песком.
– Да я сама, сама управлюсь, – робко улыбалась та. – Вы то, небось, к такой работе не приучены. Ручки вон у вас какие холеные, беленькие.
Ишь, косенькая, а приметила. Олисья же с ней словно с прислугой. И отец ничего не замечает. Хотя… Карина оглядела себя. Понева мятая, кое-где даже рваться начала, нитками обтрепалась. На рукаве рубахи грязь, зелень от травы. Да, сразу видно, что несладко ей пришлось в последнее время… Когда от перунников в лесах заречных таилась.
Ее отвлек веселый смех за спиной. Оглянувшись, увидела, как вбежали во двор двое – парень и девушка, оба ладные, пригожие. Он стройный, плечистый, с темно-русыми кудрями до плеч, в богатой красной рубахе. Она – невысокая, гладенькая, но в поясе узкая. Светлая коса сбилась на плечо, беленый летник с вышивкой яркой. Дворовой лохматый пес так и припал, пополз к ним на брюхе, ласково поскуливая. Девушка задержалась, потрепала пса по голове. Парень же взбежал на крыльцо, окликнул:
– Идем же. Идем!
Карина заметила висевшие у него через плечо гусли.
– Это кто ж такие?
Ивка заулыбалась.
– Это? Сразу видно, что ты пришлая. Это же Кудряш и Белёна, самая славная пара в Киеве. Все женихаются, гуляют, но уже третий годок парой ходят, а над текучей водой мужем и женой все не названы.
В последних словах рабыни послышалось невольное злорадство.
Когда Карина вернулась в дом, увидела, что скоморохи теперь сидят в стороне, а подле Бояна на полавке устроилась Белёна. Оглянулась на вошедшую Карину и улыбнулась так светло, что та даже растерялась. И чего это девка так приветлива с ней? Но Белёна уже отвернулась, что-то объясняла певцу. Зато стоявший возле них Кудряш даже кудри рукой со лба отвел, глядел на Карину во все глаза. Но Белёна уже нетерпеливо дергала его за рукав.
– Так я говорю, милый? Здесь ведь помедленнее надо.
Парень склонился, слушая, как наигрывает Боян, тоже стал что-то пояснять, потом подыграл на своих гуслях. Боян кивнул, уловив мелодию. Белёна же запела:
Что ты сладко кукуешь, кукушечка,
Обещая мне долюшку долгую.
Что поешь, запеваешь, соловушка,
Беспокоя сердечко ретивое.
И были в ее голосе и легкость росы, и шорох трав, и птичьи трели. А голос… какой голос! Сильный и высокий, летящий. Карина невольно подалась вперед, смотрела на Белёну, как та поет, чуть подняв голову, словно птичка. Ее слушали все: и притихшие скоморохи, и замершая с казаном на пороге Ивка, и глядевший исподлобья Третьяк. Даже Олисья слушала, подперев щеку ладонью. Один из скоморохов тонко звякнул колокольчиком, Боян согласно кивнул, и скоморох в конце каждой строфы повторял звон, словно падала серебряная капелька.
– Ох и умница же ты у меня, – воскликнул Боян, когда песня окончилась, – ох и лелюшка!
Он обнял ее, приголубил, поцеловав в пробор надо лбом. Карина вздохнула. И ей бы хотелось вот так, как Белёна, сидеть рядом, улыбаться, слушать похвалы Бояна.
– Теперь мой черед! – сказал Кудряш.
Он прошелся по избе, устраивая удобнее на ремне гусли. Карина встретилась с плутовским взглядом его карих глаз, даже удивилась, когда он остановился напротив, чуть расставив длинные ноги в сафьяновых сапожках, улыбаясь белозубо. И заиграл весело:
Ты не прячь своих глаз-озер, дева красная.
Позволь сердцу песнь сложить да красе твоей.
У тебя косы черные, как густая ночь,
У тебя губы алые, словно маков цвет.
Карина почувствовала себя смущенной. Взглянула туда, где сидела Белёна. Но непохоже было, чтобы та гневалась, – сидела, качая в такт мелодии светлой головкой. Карине даже подмигнула. «Странная она», – подумала Карина, не видя в той ни гнева, ни ревности. А может, несмотря ни на что, девушка была уверена в своем милом.
– Кто же ты такая? – спросил Кудряш, окончив петь. – Так и хочется петь, играть, глядя на красу твою дивную.
Подошел и Боян. Карина робко взглянула на него, видела невольный вопрос в его взоре, с грустью понимая, что не узнает, забыл ее родитель.
– А ведь и впрямь, когда глядишь на такую красу, гусли сами в руки просятся.
Она потупилась, слушала, как он поет. А пел он… Другая порадовалась бы, а ей вдруг грустно сделалось. Боян пел про то, как луна дрожит от страха, что нашлась ей более яркая соперница, пел, как гнутся травы и склоняются цветы, когда идет по земле дева юная, краса ненаглядная. И волнуются сердца молодецкие, так как нет им покоя, а есть одна забота, чтобы стать ладом для девы-отрады со звездоподобными глазами.
– Да она плачет! – первой заметила Белёна.
Карина и сама не заметила, как расплылись вдруг во влажной пелене цветные росписи на стенах, как бликами стали лица. Ведь единственный, кого она звала своим ладой, стал для нее первым врагом, и теперь встречи с ним она страшится, как своего смертного часа.
А Белёна уже рядом подсела, утешала, гладила ласково по плечу. Карине и хорошо, и больно от ее участия сделалось. Тут и Боян склонился над ней, отвел с ее лица упавшую волну волос.
– Вот что, девица, нам о твоей кручине не ведомо, да только не гоже в моем доме горевать. Иди-ка, милая, отдохни, успокойся, а там и потолкуем маленько. Если пожелаешь.
Как-то странно он глядел на нее, Карина даже смутилась. Да только и впрямь неловко было вот так, на глазах у всех, слезы лить. Поэтому, когда что-то ворчавшая Олисья сделала ей знак следовать за ней, она повиновалась.
Ключница Боянова отвела ее в прирубок,[102]102
Прирубок – подсобная постройка.
[Закрыть] где сладко пахли сохнувшие по стенам травы, кинула овчины на лавку.
– Спи! – наказала.
Но Карина не могла сразу уснуть. Лежала, глядя в открытое волоковое окошко. Хотела успокоиться, но слезы сами текли из глаз, скатывались по вискам, горючие, тяжелые. И вспоминалось…
Вспоминалось, как очнулась, еще одурманенная, в древесном жилище волхва, стала вслушиваться в звучавшие снаружи голоса. Пока не разобрала слов… поняла, какую участь готовит ей сокол ее ненаглядный, варяг Торир…. Участь полюбовницы Дира. Хотел хладнокровно отдать погубителю ее родни, как некогда предлагал в Копыси посаднику Судиславу. Тогда чуть не погубил ее Торир, и вот вновь лихое надумал. Но главное, как кнутом стегнула обида, что вез-то он ее с собой все время только затем, чтобы использовать… И никаких теплых чувств не испытывал. Так, пользовался, как волочайкой приблудной.
От горьких этих мыслей хотелось зарыдать в голос. Но Карина успокаивала себя. Ведь не поддалась она, смогла сбежать, а теперь вот под кровом батюшки родимого оказалась. Который хоть и не признал, но ведь и не обидел. Однако главное не это. Понимала ведь, что так просто с перунниками не расстанется, больно много тайн ей ведомо, чтобы тот же Торир не пожелал избавиться от строптивой рабы своей… И жизнь ее теперь не стоила и вытертой овчинки. Может, ей надо было смириться, согласиться с тем, что готовила ей доля в лице милого варяга-погубителя? Жила бы хоть… Только жить так она не стала бы. Было ли это ее прежней упрямой гордостью или жгучей обидой на равнодушную измену варяга, она не знала. Но все же, все же…
Карина вспомнила, как выбралась из жилища волхва, как, шатаясь и падая, брела не ведая куда. Дивно, что ни на кого из перунников тогда не наткнулась, а вышла прямо к крутому берегу реки. И в отчаянии хотела даже броситься вниз, уйти к страшному Водяному, чтобы разом отдать ему в холодную глубь все свои печали вместе с жизнью. В реку-то тогда она и впрямь кинулась, но когда стала ощущать удушье – словно опомнилась. И поманила ее назад могущественная Жива. Карина вынырнула, барахтаясь, доплыла до берега. Тогда же и челн привязанный в зарослях у берега заметила – это ли не Живино благоволение было?
Когда Карина выгребла на самую ширь реки, уже совсем соображать стала. Поняла, что ее скоро хватятся, станут искать. И от того, как она сможет схорониться, зависит ни много ни мало – жизнь. Хотя страх, что ее будут искать волхвы, мастера этого дела, в первый миг едва опять не лишил ее сил. Захотелось опустить весло, довериться судьбе, а там – будь что будет. Но опять проснулось в душе что-то отчаянное, упрямое. Ну, это мы еще поглядим, кто кого!
Она направила лодку к берегу. Этот противоположный Киеву берег был низинным, болотистым, малолюдным. Здесь легче спрятаться. Вот Карина и выбралась по нависавшим над водой ветвям, лезла, как кошка, не касаясь земли, чтобы следов не оставить. В сумраке, на фоне светлевшей реки, увидела, как течение уносит ее челн. Сама же спрыгнула в одну из мелких заводей, побрела по воде, придерживая подол.
Утро тогда вставало сырое, мглистое, да и комары совсем заели, однако она упрямо шла в эти низинные, затопленные водой чащи. Сзади оставались заселенные места и опасность, впереди – заболоченный незнакомый лес и зверье дикое. И все равно этот лес казался укрытием, а летом в лесу не пропадешь.
Это тогда ей так казалось. А как поскиталась несколько дней среди болот и озерец лесных, как поголодала да пострашилась ночного леса, потянуло к людскому жилью. Благо стоило лишь к реке приблизиться, чтобы увидеть проплывающие по Днепру ладьи, челны рыбаков, ялики с катающейся веселой молодежью, груженные товаром баржи. Да и на этом берегу жили люди. В сырые чащи тянуло дымком от редких хуторов, слышались звуки била, блеяние коз. Один раз Карина даже вышла к весьма внушительной усадьбе, вокруг которой были возделанные полоски пашни. За ними, ближе к лесу, она увидела пасеку с колодами ульев, крытых соломенными навершиями. Несколько пасечников окуривали ульи, большинство по виду простые смерды в сермяжных рубахах да лаптях, но один из них явно был хозяином – рослый крепкий мужик в богато расшитой рубахе и красных сапогах. Карина дикой кошкой смотрела на них из-за кустов, пока не заметила недалеко от себя столец, куда пасечники складывали пласты меда в сотах. Тут же стояла крынка, в каких хранят молоко, лежал на рушнике каравай хлеба – поджаристый, с потрескавшейся от выпечки корочкой. Карина взгляд от него не могла отвести, рот слюной наполнился.
Она начала подкрадываться. А когда совсем рядом оказалась – заметили ее. Вокруг вились, гудели пчелы, а люди стояли раскрыв рты, глядели на женщину в кустах.
Вдруг кто-то крикнул:
– Лесовичка! Лесовичка![103]103
Лесовичка – человеческое существо, выкраденное в детстве духами леса и живущее среди леших и всякой нечисти; перенимала у них колдовскую силу и вредила людям.
[Закрыть]
Кинулись к хозяину, словно тот мог защитить их от нечисти. Карина же быстро схватила хлеб и бежать было… Да ноги словно к месту приросли. Глядела в насупленное лицо хозяина, как птица, завороженная горностаем. Почему-то замечались всякие мелочи: коротко подстриженная челка над бычьим лбом, строгий взгляд исподлобья, на запястье золоченый браслет – знак боярина.
Холопы уже опомнились.
– Воровка! Да это же воровка, бродяжка обычная!
Кто-то и кол схватил. Но боярин удержал.
– Пустое. Пусть бродяжка подкрепится.
Уже в лесу, жадно жуя хлеб, Карина ощутила жгучий стыд. Дожила. Когда-то ведь княгиней хаживала, а теперь бродяжкой полудикой стала. А этот боярин, вишь, пожалел. И потянуло ее к людям. Даже страх перед местью перунников отступил.
Она кое-как привела себя в порядок, вымылась, а с утра пошла туда, где заприметила место причаливания парома через Днепр. Надела венок – ведь была русалья неделя – и смешалась с толпой идущих в град на гуляние девушек. И надо же! – сразу встретила Бояна. А встретив, оробела. Не признал ее батюшка родимый. Лет восемь они не виделись, наверно, сильно она изменилась. Может, и позабыл дочь, рожденную в отдаленном терпейском селении.
И вот теперь она здесь, в его доме. Еще только предстоит открыться Бояну. Примет ли, если признает? Да и, поняла она, несмотря на всю славу, не столь могуществен отец, чтобы оградить ее от мести волхвов. Было в нем, невзирая на годы, что-то юношеское, беспечное. Такому ли тягаться с кудесниками, в чьи тайны она проникла?
Все это были тревожные, горькие думы. Но отчего-то хотелось отринуть их прочь, расслабиться. Карина вытерла совсем уж взмокшие от слез виски, повернулась набок. Под овчиной уютно зашуршало сено, сладко пахли травы на стенах, в волоковое окошко долетали обычные для людского поселения звуки: лай собаки, скрип колодезного журавля, воркование голубей. Из-за стены доносилась музыка – тихая, бесконечная струнная мелодия. Под нее Карина и заснула…
Сон ей снился светлый, добрый. Грезилось, что нашел ее Торир-варяг, но не гневался, а улыбался, как только он один мог – по-мальчишески беспечно. А она, истомившись, так и ластилась к нему. Его прикосновение к щеке, шее было столь явственным… что она проснулась.
Открыла глаза, щурясь на огонек свечи. Рядом стоял Боян в распоясанной рубахе, гладил ее по шее, прошелся ладонью к груди, там, где расходились тесемки завязок.
Карина подскочила, вжалась в стену.
– Нельзя, нельзя!.. Нас боги проклянут! Запрещена ведь любовь меж кровными родичами… Меж отцом и дочерью!
Боян застыл, не сводя с нее округлившихся глаз.
– Отцом и дочерью? Что говоришь ты?
Она только судорожно сглотнула, стягивая у горла ворот рубахи.
– Ты ведь батюшка мой. Оттого и пришла, когда совсем одна осталась. К кому же еще идти, как не к тому, кто жизнь дал?
Свеча дрогнула в руке певца, огонек заметался. Боян медленно вставил ее в глиняную плошку, отставил на приступок, сел, упершись ладонями в колени.
– А ну поясни!
Пока она говорила, он хмурился.
– Так ты Каринка? Похожа, похожа. А я-то думал, когда взяли тебя князья радимичей, мол, ладно пристроена дочка. Но пошто там не осталась?
Боян опять слушал, молчал, не проявляя ни малейшего желания приголубить родное дитя. Карина поведала ему, что после того, как сгорела Копысь, деваться ей было некуда и пришлось пробираться к нему, в Киев. Когда окончила рассказ, он не сказал ни слова. Она же подняла глаза к волоковому окошку, моргала, опасаясь, что вновь заплачет.
– Я детей в дом не беру, своих ли, чужих, – сказал после раздумья Боян. – Хотя ты уже не дитя, могу и поселить. Но ты ведь княгиней была, как же я тебя содержать стану? Если рассчитываешь…
Он умолк, когда Карина встала, вытерла рукавом слезы. И в лице ее появилось что-то жесткое.
– Не больно-то мне радости в жилички набиваться. Но все же лучше так, чем стать девкой-волочайкой при капище Уда да рассказывать всякому, что он дочь певца Бояна пользует.
– Да ты никак грозишься? – Боян спросил удивленно, но без гнева. – Но ведь я тебя уже принял, хотя и упредил, что поклоны тебе бить не стану. Живи уж. А там поглядим.
Он взглянул на ее стройную фигурку, на гордо вскинутую голову с массой спадающих по спине черных как смоль волос. И что-то потеплело в его глазах – как всегда, когда на красу глядел. А эта краса – его порождение. Вон и черноволоса в него, вернее, в деда его хазарского, которого и сам не знал, но от которого у всех в роду эта масть передается. Что ж, родная кровь – не водица. Да и было в дочери негаданной нечто, из-за чего за порог не погонишь, даже не думая о ее угрозах нелепых.
Покинув Карину, Боян ходил по избе, переступая через спавших кто где скоморохов, вышел на крыльцо, сел на ступеньки. Спущенный на ночь пес Жучок подошел, положил лобастую голову на колени хозяину. С неба светил яркий полумесяц, слышалось, как перекликается стража на заборолах града. В воздухе пахло сыростью и навозом. На соседней голубятне сонно ворковали голуби.
Боян гладил пса по голове, сам же думал о том, сколько у него таких детей случайных по свету. Сила Ярилина у него была немалая, много семени он посеял – как в городах, так и в весях отдаленных. Но детей своих к очагу не брал, не привечал. Ведь несмотря на то, что до седых волос дожил, все ж чувствовал в себе что-то детское, беспомощное. Куда ему семьей обзаводиться, кормильцем быть. Оттого и ворчливую Олисью терпел, что она в его доме и хозяйка, и мамка заботливая. Ему чувствовать рядом кого-то мудрого и заботливого было необходимо. И, зная, как с ним самим нянчится ключница, мог ли он на нее повесить еще и байстрюков своих нагулянных? Правда, порой кой-какие его полюбовницы, зная, что милостью князей певец не обижен, и подбрасывали к порогу глуздырей. Однако Боян кого назад отправлял, одарив богато и дав понять, чтоб большего не ждали, а кого и пристраивал у хороших людей. По крайней мере, в неволю, даже в сытую, ни одного не продал. И уже потому считал себя хорошим отцом. Да и девку эту, Карину, не составит труда пристроить. Экая краса.
Боян даже загордился, что породил подобное диво. Ведь Карина – прямо Лебединая Дева из песней-кощун.[104]104
Кощуна – история, сказка.
[Закрыть] И он вдруг ощутил что-то теплое в душе, а потом и некое удовлетворения от того, что принял дочь. Олисья, правда, разворчится. Да ляд с ней. В конце концов, кто в доме хозяин?
С утречка Карина вместе с Олисьей и Ивкой взялись за хозяйство. Олисья поглядывала на нее недобро, ворчала на безрукую: мол, и тесто у той сбегает, и пироги до срока вынула из печи. Боян, чтобы не слышать ее, пораньше ушел из дома. Но и на следующий день его преследовало ворчание ключницы. Зато как глянет на Карину – руки сами к гуслям тянутся. Хочется петь о красе и любви, о радости, что дарят улыбки красавиц. Однако заметил Боян: девицу что-то кручинит. Вздрагивает, всматривается в каждого, кто приходит на гостеприимный Боянов двор.
– Тебя что-то гнетет, Каринка?
Она поглядела странно, казалось, поведать о чем-то хочет, но смолчала. Вообще была не из болтливых – это он успел заметить. Даже придирки Олисьи сносила с горделивым, презрительным спокойствием.
До ключницы ли Карине было, когда ее не оставляло непроходящее чувство опасности. Вести здесь, на Горе киевской, расходились быстро, и уже на второй день гости едва ли не с порога спрашивали о новоявленной дочери Бояновой. Ей приходилось выходить, беседовать с ними, обхаживать. Ведь не только простой люд тянулся к Бояну, были и бояре именитые, и старейшины городских концов, и купцы. Они слушали песни-сказки певца, расплачивались щедро. Некоторые начинали просить, чтобы красавица Карина сплясала для них. Она терялась поначалу, но потом – убудет, что ли? – шла лебедушкой под гусельный перезвон, кружилась, закинув руки, выбивала каблуками новых чеботов бойкую дробь. Гости платили за усладу не скупясь, даже ворчливая Олисья подобрела. Улыбаясь, говаривала Карине:
– Они справляются, какое приданое за тобой Боян даст. Так что, может, скоро сама хозяйкой где на Горе станешь.
Но не о том думала Карина. Ни днем, ни ночью не покидал ее страх. Люди вокруг о празднестве на день Купалы говорили, Ивка с глупыми вопросами приставала, Боян струны новые к гуслям прилаживал, а она только и думала: сколько живой еще быть? Но и к страху привыкают. И когда в долгожданный праздник Купалы с утра в дом Бояна заявился Торир, даже виду не подала, что испугалась. Сидела с вышиванием у окошка, только глянула – как будто и не подпрыгнуло сердце к горлу, – когда варяг шагнул в дом, склонив светловолосую голову под притолокой двери.
Он тоже посмотрел на Карину лишь мельком. Поклонился Бояну почтительно. Подсел, когда тот пригласил, выложив на стол связку кун.
– Говорят, ты, Велесов избранник, знаешь все, что было в Киеве, – завел речь варяг. – Сможешь ли поведать кощуну не о том, как в Киев со славой пришли Аскольд и Дир, а о том, что случилось с теми, кто не ждал и не желал их принять.
Боян любовно перебирал выложенные гостем блестящие шкурки. Улыбнулся заказчику своей особой, светлой улыбкой.
– Ты, вижу, из русов северных будешь, хоробр. Значит, тебе не о последнем князе Хориве слушать надобно, а о твоих земляках, что стояли за него.
У Торира заходили желваки на скулах. Синие глаза стали странно пустыми, словно скрывали что или глядели только в себя. Но голос звучал с рычащей интонацией:
– Смотрю, ты догадлив, али подсказал кто?
У Карины голова кругом пошла. Рядом подсел охранник Третьяк, взглянул на нее пытливо. Она и не заметила – думала о том, что Боян, высказав догадку, угодил в самую суть. Третьяк же, наблюдая за ней, нахмурился, перевел взгляд на варяга и за рукоять ножа неприметно взялся. Торир вроде не замечал. Расположился на полавке у окна, глядел, как певец перебирает струны гуслей.
– Не кощуну я тебе поведаю, рус, песню спою. Ибо песни не только о победах рассказывают, но и о поражениях.
Лицо Бояна стало отрешенным, он смотрел перед собой, словно видел только одному ему ведомое. Торир не сводил с него синих глаз. Убрал упавшую на лоб волну волос, по пухлым, как у мальчишки, губам проскользнула усмешка. У Карины же вдруг забилось глупое сердце. Ах, подойти бы, обнять, сказать, что себя не пожалеет, а тайны его не выдаст. Так не поверит же…
Звуки музыки величаво и плавно полились из-под пальцев Бояна:
Было это или не было,
Правду баяли аль кривдили,
Но пришли ко граду Киеву
Струги длинные заморские.
И сошли на берег витязи,
Русы с Севера далекого,
С ними девица, в булате вся,
Богатырь-дева, красавица.
Подвизались князю стольному
Рода древнего великого
Править службу, охранять его,
Как от другов, так от недругов.
Он пел, что и на сильного есть силушка, и на удалого – удаль. Вот и восстал Киев против князя рода древнего, все ушли, покинули его, и только чужаки-русы не изменили тому, кому обещали служить. Но не за то они стояли, бились, ибо пришлось им идти против воли веча городского, покликавшего себе другого господина. И остались русы в одиночестве, полегла вся их рать, и позабыли о них люди, как всегда забывают побежденного и славят победителя.
Замолк звук струн, замерла песня. Торир сидел, прикрыв глаза, опершись затылком о бревенчатую стену. Сказал хрипло, медленно:
– И как не опасаешься, Боян, петь подобное? Проигравших не восхваляют, когда в силе победители. Или не лгут, говоря, что тебе и князья не указка?
– Я всегда пою о том, что достойно песни, – ответил Боян. – А что до князей… Так не им служу, а людям, Киеву стольному, земле своей. И Велесу.
– Велесу… – эхом повторил Торир.
Он открыл глаза, посмотрел прямо на Карину. И столько люти было в его взгляде… Удивительно, как и сдержалась она, когда сама смерть на нее глядела. Но руки все же обессилели, опустились, выронив вышивание.
Боян же ничего не заметил. Завидев, куда глядит гость, сказал: мол, дочка это моя, Карина.
– Дочка, – повторил варяг глухо. – Хорошая у тебя дочь, певец.
Но тут Карину заслонил от него Третьяк.
– Негоже на наших девушек так глядеть, варяг. Испугать можно.
– Испугать? Такую разве испугаешь?
Он встал, вышел стремительно, будто сбежал. Боян только подивился, но тут же и забыл о госте. На уме у него иное было – праздник Купалы. Скоро его придут звать на гулянье, пора бы и собираться.
– Слышите, как шумит сегодня град! – весело говорил он, выйдя на крыльцо. – Это особый праздничный гомон. Сегодня стар и млад повеселятся вволю. А ну-ка, красавицы, собирайтесь!
И он весело обнял смеющуюся Ивку и молчаливую Карину.
Но Карине было не до Купалина дня. Она боялась, что там, на празднике, ее и постигнет кара. Может, в последний раз видит она этот мир, прежде чем навсегда уйдет во мрак… от руки любимого.
Никто не понял, отчего она вдруг отказалась идти на веселье, отчего так изменилась в лице.
– Тебя что-то гнетет, девонька? – участливо спросил Боян.
Ласково погладил по щеке, даже смутился, когда она пылко прижала его руку, всхлипнула. А через миг просто сказала, что не любит толпу, желает побыть одна. Ей не хотелось вовлекать отца в то, в чем увязла сама.
Певец же только подивился – как это его дочь, да не любит увеселений? Зато Третьяк смотрел внимательно. Он что-то учуял, как чует преданный пес. Смотрел, как дочка Боянова движется будто во сне, и только кивнул каким-то своим мыслям.
Когда на капище Велеса дважды прозвучал громогласный рог, а солнце стало клониться к закату, люди начали покидать град. По традиции все в этот день шли на берега речки Лыбедь, где всю ночь будут палить костры, петь, плясать, любиться, веселиться отчаянно. За Бояном зашли не столько звать, сколько почет оказать. Ведь всем известно: какой праздник без Бояна! Он принарядился, украсил голову золотым обручем, взял гусельки. Олисья тоже собралась. Даже Ивка сплела венок, достала ракушечные подвески, стеклянные бусы.
У молчаливо стоявшей в стороне дочери Боян спросил в последний раз:
– Может, пойдешь? Аль не любо тебе в Купалину ночь хороводы водить, с парнями через костры прыгать?
– Я не пойду.
И опять почудилось что-то Бояну в ее голосе. Он почему-то заволновался, даже хотел задержаться. Но его утешил Третьяк, сказав, что ему тоже незачем идти на гулянье, посидит с девкой. Боян вздохнул облегченно, переложив ответственность на другого.
Город стихал удивительно быстро. Третьяк с Кариной сидели в пустой избе, и обычно немногословный воин вдруг разговорился, стал рассказывать, что он исконный киевлянин, что еще юношей пошел в войско, поведал, каким отличным воином некогда был, пока не покалечила его сабля хазарская. Девушка сидела рядом, но не слушала. Тогда Третьяк спросил:
– Ну, может, расскажешь, чем напугана?
Карина подняла на него горькие глаза. В лице ни кровиночки, даже лоб повлажнел от тайной муки. Но ответила спокойно:
– Мое это дело, хоробр. А ты бы лучше ушел.
Третьяк почесал мохнатую голову.
– Как же… Я Бояну служу, а ты его дочка. Боян не простит мне.
– Да что ему!..
– Не скажи. Я ведь вижу, как теплеют его глаза, когда ты появляешься.
Карина только вздохнула с дрожью.
Однако подлинный страх она ощутила, только когда сумерки стали сгущаться. Косилась на любую тень, вздрагивала от каждого звука.
Оставив возившегося с оружием Третьяка, Карина поднялась наверх, в горницу Олисьи. Здесь было богато, на половицах коврики тканые, ложе с резной стенкой, перина на нем пышная, как у купчихи какой, в изголовье гора подушек. Ох и заругалась бы строгая хозяйка, проведав, что девка хозяйничает в ее горнице. Но Карина зашла сюда не случайно. Горница Олисьи имела широкое окошко, через которое можно было вылезти. Чуть ниже шел скат крыши, а еще ниже, по стене, проходил резной карниз, по нему и можно было выбраться. Все это Карина уже присмотрела как возможный путь к бегству. Она не хотела уступать, как предназначенная в жертву добыча.
Не посмев коснуться пышной постели Олисьи, девушка опустилась на коврики на полу, оперлась спиной о стену. Сидела, обхватив колени, ждала. Напряженная, словно окаменевшая.
Ночь, самая короткая и радостная ночь в году, наползала, как погребальный саван. Хотя было тепло, Карина дрожала в ознобе. Поджала под себя босые ноги, натянув подол. Размышляла. Вот сейчас, наверное, уже жертву Купале принесли, потом хороводы повели, поют, пируют. Народу тьма. Ее сперва будут выглядывать в толпе, решив, что скорее всего девка постарается укрыться среди людей. А как сообразят, что нет ее, – сюда придут. Но дом стоит как пустой, закрытый. Окошко в горнице Олисьи не в счет – могла хозяйка по теплому времени оставить и открытым. А окошко высоко, сюда не всякий и взобраться сможет. Вот ее Торир сможет, ловок ведь, как кошка.
Почему-то Карина была уверена, что лишить ее жизни придет именно он. Вспомнилось, каким смертоносным взглядом он порой глядел на нее. Как сегодня глянул. Но ведь не убил ранее? Вот на это она и надеялась. Было же в его душе что-то к ней, не забыла еще… Хотя она столько узнала о нем, что оставлять ее в живых теперь было опасно. Это она понимала. Как понимала и то, что последняя ее надежда – убедить его в том, что она не предаст. Но как это сделать, когда он может не дать ей и слова сказать? И ледяные мурашки вновь ползли по коже Карины. Она храбрилась, пытаясь не позволить обреченности овладеть собой, помутить разум.
Тихо было кругом. Лишь иногда то тут, то там лаяли собаки, спущенные с цепи в опустевших дворах. Нет-нет и Жучок подавал голос. Вот за забором раздалась поступь городской стражи. Шли, бренча булатом, пели что-то невеселое. Да и какая радость, когда все празднуют, веселятся, а им выпал жребий службу нести в опустевшем граде.
За окошком ярко светит луна. А в горнице Олисьи темень черная. У Карины совсем занемела спина; прилегла на коврики, слушала, как трещит где-то сверчок, да порой различала поскрипывание половиц под шагами Третьяка, звяканье булата на его доспехах. Надо было все же услать воина, однако она была рада, что хоть кто-то рядом остался. Все чувства девушки были до предела обострены, она различила даже, когда Третьяк стукнул ковшиком по бадейке с водой, зачерпнул. И…
Карина резко села. Явственно услышала звук, как будто что-то тяжелое рухнуло, звякнули булатные пластины. У девушки от ужаса зашевелились волосы на затылке. Поняла, что в доме еще кто-то есть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































