Текст книги "Чужак"
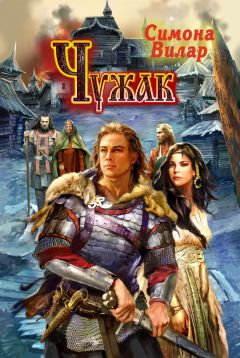
Автор книги: Симона Вилар
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Все было как всегда. Аскольд видел, как еще живое сердце опустили в неугасимый огонь, как волхвы, не переставая петь заклинания, склонились над телом, стремясь по текущей крови угадать волю божества. Они стеной окружили алтарь, так что за их спинами в намокших мехах ничего не было видно. И похоже, их что-то смущало. Дважды верховный жрец недоуменно оглядывался на князей, опять склоняясь над телом жертвы. Аскольд, еще ощущая неприятное головокружение после падения, не осмелился приблизиться. Послал вперед Дира.
Младший брат вскоре вернулся. Теребил серьгу в ухе, пожимал плечами.
– Глупости говорят. Вроде как кровь из девушки не вытекает. Может, просто дождь ее смывает? Но они не видят потоков, по которым можно было бы что-то прочесть. Может, перепили вчера медовухи, вот и маются головами?
Только позже, когда люди разошлись, так и не дождавшись предсказания, верховный волхв подошел к Аскольду.
– Я на тебя загадывал, княже. Но бог молчит. Такого я еще не припомню. Или…
Он замялся, стирая потоки воды с шишковатого оголенного темени.
– Говори! – приказал Дир. Аскольд же только кивнул.
– Раз бог ничего не показал, значит, у тебя, Аскольд, ничего и не будет. Ничего.
– Это как?.. – неожиданно хрипло спросил Аскольд. Едва не застонал, так заныло в груди. – Это… смерть?
Но волхв отрицательно покрутил головой.
– Смерть, княже, кровь показала бы. А так – ничего. Ни жизни, ни смерти.
Только бравада и злые подтрунивания Дира над волхвами придавали Аскольду сил, когда они уходили с капища. К князьям подвели коней, с наборных удил которых свисали лисьи хвосты, сейчас намокшие и жалкие. Аскольд вдруг почувствовал, что сам не заберется в седло, пришлось просить гридней подсадить. И так стыдно вдруг стало. Поглядел на легко вскочившего в седло Дира и махнул рукой.
– Езжай, брат. Я же… Проедусь кой-куда.
Никаких дел у него не было. Но отчего-то решил, что подышать воздухом ему сейчас лучше, чем греться у дымной каменки. Вот и поехал… Куда? Сперва к Угорской горе, где еще год назад велел начать возводить себе курган. И возводить по всем правилам, выложить бревнами утробу кургана, куда можно было бы поместить корабль с его телом. Местные недоумевали, отчего князь заранее могилу себе готовит? Славяне сжигали своих умерших в домовинах, и только пепел вверху засыпали землей, поднимая курганы. К ним они сходились в поминальные дни всем родом, чтобы попировать, поесть да помянуть усопших родичей. Аскольд же хотел, чтобы его курган вырос на славу, чтоб был он не меньше, чем у иных конунгов на его далекой родине.
Но поездка его расстроила. Насыпь-то, конечно, уже возвели, да и бревна доставили из леса, однако теперь все приостановилось из-за ненастья. Пришлось отругать смотрителя работ, хотя тот был из викингов, давно непригодный к воинской службе, но знавший, как возводить курганы. Не стоило его ругать при посторонних. Варяги созданы, чтобы править другими народами, их не следует прилюдно порочить. Да к тому же от волнения боль в груди усилилась. Князь даже согнулся в седле. И услышал рядом:
– Что, даритель злата, спешишь с устройством могилы? Предчувствуешь, что скоро тебя увлечет туманная Хель?
Это было сказано на его языке. И эти дерзкие слова…
Но Аскольд только презрительно скривился, увидев говорившего.
Бьоргульф, которого здесь все зовут Бирюном. И мало кто помнит, каким воином он некогда был. Но по приказу Аскольда его так покалечили, что тому ничего не оставалось, кроме как валяться в грязи и ругаться. Князь так и сказал ему: подвывай теперь, как бездомная шавка, былой ясень брани. По-иноземному сказал, чтобы никто не понял, как владыка Киева реагирует на ругань калеки. Но на себя разозлился – за то, что уделил внимание поверженному врагу.
– Не зря ты сюда прибыл после предсказания волхвов, – только и ответил Бирюн и пополз червяком в грязи.
Лишь отъехав достаточно далеко, Аскольд подумал: откуда ползающий калека знает о предсказании? «Ни жизнь, ни смерть» – сказали волхвы. И полезло в голову всякое: о душах блуждающих, о кромешниках, не имеющих пристанища и мающихся до скончания века.
Вот тогда-то Аскольд и решил отправиться на Подол. Ехал все так же, не спеша, чувствуя, как холодит спину промокший под дождем плащ, как оскальзывается на кручах конь да ворчат недовольно гридни.
Недалеко от основных построек Подола, ближе к городскому лугу, стояла длинная срубная изба с крестом наверху. Это был христианский храм, который Аскольд обещал построить в Киеве ромеям, когда находился у тех в плену и вынужден был креститься. Но хоть он и по сей день продолжал носить на груди серебряный крестик, однако в Христа не больно-то веровал, да и посещал храм только из-за его священнослужителя, отца Агапия, слывущего превосходным врачевателем.
Сейчас Агапий лично вышел на крылечко, длиннобородый, худой, лысый, в черном, по-бабьему длинном одеянии, с серебряным крестом на груди.
– Здрав будь, раб Божий Николай, – кивнул он князю безо всякого подобострастия.
– Говорил же, не зови меня рабом! – огрызнулся Аскольд. А про себя подумал: «И Николаем не зови». Хотя именно это имя дали ему ромеи при крещении.
Князь тяжело слез с коня, голова вдруг закружилась, и он какое-то время стоял, вцепившись в сбрую и опасаясь, что опять упадет.
Агапий понял, что с ним, подошел, поддержал. Гридни смотрели со стороны. Пусть смотрят. Может, решат, что у христиан так принято привечать гостя.
Христианский служитель, которому было позволено жить в Киеве, почти не получал той помощи, которую обещал некогда Аскольд. Жил он, по сути, своим небольшим хозяйством, копался в огороде, ловил рыбу, даже торговал плодами своего труда на рынке. Однако Агапий оказался способным лекарем, к нему стали часто обращаться, что было некоторым подспорьем в хозяйстве, так как киевляне расплачивались с христианином не менее щедро, чем с волхвами. Но его и считали волхвом, пусть даже непонятного им распятого Христа. Хотя то усердие, с каким Агапий вел службы в своем Божьем доме, вызывало у людей невольное уважение. Некоторым волхвам у него бы рвению поучиться не мешало. Да и с людьми окрестными ромей-священник поладил, они помогали ему где советом, где делом, ну и про Христа его слушали. И так он интересно рассказывал, что некоторые легковерные даже зачастили в избу с крестом, уверовали в Спасителя.
Когда приехал Аскольд, у Агапия как раз закончилась служба. Опираясь на плечо священника, князь наблюдал, как из церкви выходят местные жители: жены купцов, патриархи иных ремесленных родов, – женщины и старики почему-то охотнее всего шли послушать проповеди о добром белом Боге, обсуждали потом со своими домочадцами его деяния… «Ну что там за деяния! – думал Аскольд. – Походил, побродил, совершил несколько чудес. Так чудеса и волхвы-кудесники делать могут. Но последние хоть не требуют, чтобы люди подставляли щеку, если их бьют по лицу».
Однако сегодня Аскольд не был настроен на споры с Агапием, которыми иногда не прочь был поразвлечь себя. Князь опустился на скамью в каморке христианина, смотрел, как тот мешает что-то в склянках, подогревает на огне.
– Вот, Николай, выпьешь это и постарайся полежать спокойно. А еще лучше тебе уехать на какое-то время из Киева. Да не на ловы или в полюдье, а в какую-нибудь отдаленную усадьбу. Если сердце болит не переставая, лучше побыть в покое.
Аскольд понемногу хлебал теплый пряный отвар, сидел, облокотясь о бревна срубной стены. Посреди комнатушки стоял стол, горела одинокая свеча, перед ней лежали свитки пергамента, который Агапий покупал, несмотря на дороговизну, делал на них записи.
– Прочитай, что написал.
Князю всегда нравилось слушать Агапия. Особенно о том, как их с Диром призвали в Киев. Про то, как старого Хорива и его людей порешили, велел писцу вычеркнуть. Зато с удовольствием слушал про их с Диром поход на Царьград. Правда, Агапий смешно писал, якобы только благодаря чуду с покрывалом Матери Христа были разбросаны их корабли. И еще Аскольд заставил Агапия зачеркнуть строки, где упоминалось о его крещении и наречении Николаем. А то, что о крещении Болгарской земли пишет, то это пусть. До этого Аскольду не было дела.
Сейчас Агапий послушно развернул один из шуршащих свитков, склонился близоруко.
– В год шесть тысяч триста восемьдесят седьмой от сотворения мира, – начал он зачитывать написанное, – умер Рюрик и передал княжение Олегу – родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, так как тот был еще ребенком.
– Погоди, погоди, – поднял руку Аскольд. – Ты-то откуда про Игоря знаешь?
Агапий только повел плечом.
– Ты на рынке походи. Сейчас там многие о делах новгородских толкуют.
И Агапий продолжил. Читал, что в следующем году князь Дир ходил в полюдье, но привез малую дань, хотя и пленил Родима, князя племени радимичей. А в нынешнем году нашли на Киев уличи лихие, а князей в граде не оказалось. Но город поднялся против супостатов, и отбились люди. А руководил обороной княжеский молодой воевода, Резуном прозванный.
– Да ты совсем сдурел, длиннополый! – так и подскочил разъяренный князь. – О чем пишешь?! Славу мою позоришь!
Агапий смотрел недоуменно.
– Я ведь уже говорил тебе, Николай, что пишу это для других поколений, которым о делах нынешних будет любо почитать.
Но Аскольд даже задохнулся. Стал стучать кулаком по столу, ругаться, путая славянские и скандинавские слова, требовать, чтобы Агапий зачеркнул написанное. Не удержавшись, схватил пергамент, порвал, затоптал ногами. Пока не захрипел, хватаясь за грудь, и не осел на лавку. Перепуганный Агапий утешал, успокаивал, воды дал испить. У князя так изменилось лицо, что священник не на шутку испугался, что тот сейчас помрет. Докажи потом его брату бешеному, что не погубил ведовством князя чародей христианский.
– Гляди, гляди, что делаю, – торопливо говорил он, скручивая остатки дорогого пергамента и бросая в каменку. – Успокойся.
Аскольд, еще тяжело дыша, смотрел, как корчится, словно живая, тонкая кожа на горящих углях.
– Вот-вот, Агапий. Думай, что пишешь. А раз думать не в состоянии – не пиши.
Аскольд тяжело поднялся и пошел к выходу. Агапий еще какое-то время сокрушенно молчал. Потом взял оставшийся лист, не вызвавший гнева князя, и опять прочел про смерть Рюрика. Да, такое не могло рассердить Аскольда, он был доволен кончиной врага своего. Пусть и Олег с Игорем были ему не милы. А потом…
Каменка жарко гудела, распространяя тепло.
– А потом ничего, – вздохнул Агапий. – Пусть все так и думают, что ничего не было.
По утрам Аскольда будил слуга-отрок. Будил – не то слово. Просто стоял у занавешенной турьей шкурой двери, вслушивался в тишину одрины, ожидая, когда великий князь позовет. Еще вчера, после обильных возлияний, двое крепких мужиков из челяди отволокли совсем осоловевшего Аскольда в опочивальню, уложили, раздели и оставили эту гору мяса (ох и раздобрел же князь-варяг за последнее времечко!) на широком ложе. Теперь приходилось ждать оклика. Но князь все не просыпался. А ведь верный отрок и жбан пива ему приготовил, и разглаженный горячим камнем опашень вышитый на лавке разложил, штаны бархатные принес.
Наконец, когда время стало близиться к полудню, пришли на совет бояре и даже Дир стал спрашивать о брате, отрок осмелился откинуть шкуру на двери, толкнуть створку.
В полутемной одрине огонек на носике лампы-ночника еле тлел. И холодно было, печь-каменка почти выстыла.
– Пресветлый князь, – позвал отрок.
Грузное тело князя покоилось на ложе в том же положении, в каком его оставили вчера вечером. Нахмурившись, отрок нерешительно приблизился, да так и застыл, открыв рот в несостоявшемся крике.
Аскольд лежал неподвижно, но его тяжелое дыхание было отчетливо слышно. Руки князя, покоившиеся поверх меховых покрывал, слабо подергивались, а в вытаращенных глазах был такой ужас, что они казались безумными. Губы чуть шевелились, но отрок не разобрал слов. Да и не смог разобрать, потому что вдруг взвизгнул противно, как девчонка, и со всех ног кинулся прочь.
Вскоре весь терем был взбудоражен известием о том, что правитель Киева, мудрый Аскольд, захвачен Марой,[151]151
Мара – злой дух, наводящий на людей порчу, заколдовывающий.
[Закрыть] которая не дает ему ни двинуться, ни заговорить.
Впрочем, князь еще пытался что-то сказать. Прибежавший к брату Дир, склонившись над ним, даже разобрал сквозь сдавленное скрипение тихие слова:
– Ни жизнь – ни смерть…
С князем случился удар. Такое с людьми бывало, но никто не думал, что именно с Аскольдом произойдет подобное. И потому особенно опасливо смотрели на Дира. Теперь, без мудрого руководства старшего брата, что-то выкинет бешеный Дир?
Однако Дир был непривычно тих, словно испуган. Кто-то из бояр велел позвать волхвов. И вскоре уже дюжина служителей колдовала над неподвижным князем, жгла травы, вглядывалась в завитки дыма. В одрине повисла такая туча, что Аскольд даже глаза закатил, постанывать начал, будто отходя. Хвала богам, у Дира хватило ума выгнать волхвов вон, распахнуть закрытые по сырому времени ставни окон. Не зная, что предпринять, он даже послал за Агапием, к которому благоволил Аскольд. Кликнул он и Твердохлебу. Сам же заметался по покоям, нетерпеливо отмахиваясь от следовавших за ним бояр-советников, у которых накопилось немало дел и которым теперь не к кому было обратиться, кроме как к младшему из князей.
Ближе к вечеру прибыла наконец Твердохлеба. Дир глянул на нее сердито. Ишь, муж едва дышит, а эта вся разряженная пришла, в парче, в венце с длинными колтами. Ее обшитый мехом плащ волочился по навощенным половицам, когда она, слушая Дира, ходила по высокой гриднице да крутила перстни на руках.
Дир же только и бубнил, что Агапий предписал князю полный покой, сытную пищу, никаких возлияний, только успокаивающие настои из трав. Говорил, что понадобится некоторое время, и Аскольд поднимется. Если, конечно, волнения не подкосят его раньше времени.
– Ясно, – кивнула княгиня, выслушав. – Ты, Дир, пока ступай, успокой людей. Я сама посижу с князем. Кому и ходить теперь за занедужившим Аскольдом, как не жене.
Дир только поглядел ей вслед. Но отчего-то стало немного легче. Ибо как ни был дерзок и лют Дир, но на самом деле он боялся своей беспомощности. Соображал, что без брата он, воин и завоеватель, не справится с правлением.
Аскольд сразу понял, что это пришла Твердохлеба. Узнал запахи ее притираний, шелест одежд при ходьбе. И когда она склонилась над ним, когда заблестели, свисая вдоль щек, ее длинные колты-подвески, он даже постарался улыбнуться – одной половиной лица. Другая оставалась неподвижной.
Но было нечто новое в лице милой Твердохлебы, отчего улыбка его кривая словно растаяла. Он не замечал прежде в ее глазах этой черной бездны, от которой внезапно пробрал страх. И она это увидела.
– Что, выродок? – сказала неожиданно грубо. – Пришел и твой черед отвечать за все зло? Да, воистину мельницы богов мелют медленно, но верно.
Он только заморгал. В глазах появилось беспомощное выражение. Она же, воровато оглянувшись на дверь, придвинула табурет к самому изголовью мужа.
– Думаешь, Навозник, пес варяжский, я хоть на миг забывала, как ты и твои прихвостни исковеркали мою жизнь? Думаешь, простила тебя за то, что ты, сын рабыни, сделал меня своей жертвой? Нет. Из года в год, изо дня в день я молила богов отомстить тебе. И не только это. Не надеясь на милость небес, я мстила. Я была твоим врагом, муж мой проклятый. – Княгиня говорила негромким свистящим шепотом. Потом, видя, как искажается подвижная половина его лица, засмеялась злорадно. – Ну, вой теперь, зови кого, посмотрим, поверят ли тебе. А теперь я расскажу тебе такое, что уж не знаю, выдержит ли твое больное сердце. И тогда наконец упьюсь своей местью.
Он слушал: о том, как она возненавидела его в тот же миг, когда он вытащил ее из-под своих похотливых соратников, когда велел с честью похоронить ее сыновей, когда приказал отнести перепуганную маленькую Милонегу в терем на Горе, приказав никому не упоминать о том, что случилось с княгиней. Да, он кого-то услал, кого-то убил из тех, кто знал позорную правду о жене нового князя киевского. Но ей этого было мало. Все страшное и позорное, что произошло в ее жизни, случилось из-за его жажды власти. Поэтому она лгала ему изо дня в день, опутывала чарами, поила приворотными зельями, чтобы не было у него плотского желания ни к какой другой женщине. Сама же рвала на части собственное нутро, не желая иметь от него детей.
С каким торжеством она напоминала князю всякие, уже позабытые им, моменты, когда она не допускала его к себе, так как была нездорова после очередного выкидыша! С каким отвращением описывала их соитие, когда он хрипел на ней от наслаждения, а она отворачивалась от омерзения! Она хотела, чтобы его гнилое семя никогда не дало ростков, чтобы после него не осталось детей и продолжателей.
Но у Аскольда был сын от другой женщины, зачатый, еще когда он не знал Твердохлебы. И теперь она, торжествуя, рассказывала, как подстроила гибель этого сына в походе на болгар. И любо ей было видеть, как забился князь, давясь слабой яростью.
– Но и это еще не все, – шипела княгиня. – Я ни о чем так не пеклась, как о том, чтобы лишить тебя места, которое ты занял после моего поругания. И я связалась с наворопниками Рюрика. Перунники были моими помощниками, через них я держала связь с новгородским соколом.
Она смеялась, вспоминая, как Аскольд бегал к ней за советами, считая мудрой и сведущей, а она давала их, всякий раз соблюдая свою выгоду, всякий раз разрушая созданное Аскольдом. Она перечисляла одно деяние за другим, одно предательство за другим. Все это ее память хранила как дань своей ненависти, она упивалась этим, как и унижением доверчивого мужа…
Твердохлеба даже задохнулась от избытка чувств. В бледном свете горевшей свечи ее лицо было призрачно-белым, только алели подкрашенные губы. И сейчас, нависая над больным князем, наблюдая, как он хрипит, как подергиваются его руки и как из расширенных глаз текут на поседевшие рыжие виски слезы, она могла торжествовать. Но отчего-то ее торжество было неполным.
– И попробуй оговорить меня теперь – кто тебе поверит? Кто поверит, что любимая княгиня-жена призналась во всем и ждет, подохнешь ты или нет? Ну же! Ведь тебе нельзя волноваться. Где же тот Кровник, что потащит твою душу через все кошмары кромки?
Она даже развела руки, оглядываясь и бурно дыша, словно желая увидеть нечто ужасное и желанное.
Тихо оплывала воском свеча. От каменки дымок поднимался в волоковое окошко под сводами кровли, пахло травяными настоями из бадеек и кувшинов, расставленных на лавке у стены. Все было буднично, тихо. Не кружили в воздухе чудища и ужасные духи, которых она призывала.
И тогда Твердохлеба бессильно уронила руки, села в изножье ложа, глядя куда-то в сторону. И по ее пухлым щекам вдруг потекли слезы.
Аскольд не смотрел на нее. Боль, раздиравшая грудь, была невыносима. И он уже не понимал – хвороба ли это или душа взорвалась от предательства и жестокости той, которую он всегда любил и лелеял, как только мог. Но в какой-то миг, собрав остатки сил, он заставил себя отвлечься, не думать обо всем услышанном. Она ждет его кончины? Нет уж! Путь все демоны славянской земли взвоют, но он не позволит им прийти по ее зову. Он вытерпит и осилит хворобу. А там… Он еще встанет. И тогда поглядим, кто кого.
Аскольд вздрогнул, когда княгиня вдруг стала взбивать подушки, устраивая его поудобнее. Действительно поудобнее, ибо он даже смог перевести дыхание. Правда, глаза его испуганно округлились, едва Твердохлеба поднесла к его губам плоскую чашу с питьем. Неужели эта змея вознамерилась отравить его? И он забился, захрипел, силясь позвать кого-нибудь. Она же неожиданно ласково погладила его по голове, сказала мягко:
– Ну будет, будет. Многое мы вместе пережили, супруг мой. А то, что я сказала… В какой семье не бывает ссор? Но кажется мне, что та злоба, что столько времени придавала мне силы, теперь иссякла. Да, я ненавидела тебя всю жизнь. Однако теперь только поняла, что нет у меня на всем белом свете никого, кроме тебя.
Аскольд не глядел на нее. Молчал. Он не мог говорить. Ей же нужно было прощение.
– Я сказала сегодня слишком много правды после стольких лет лжи. Ты видишь – я плачу. Вспомни, разве ты когда-нибудь видел меня плачущей? И я выхожу тебя. Я разделаюсь со всеми, кто тебе враг, стану тебе собакой преданной. А там решай – убьешь меня али простишь… если сможешь.
Он готов был взвыть от ее ласки. Но он хотел жить и с неожиданной трезвостью понял, что она сейчас не лжет. С ним она теряла все – положение, почет, защиту. И он презирал ее, как никогда. Хотя и понимал, что ей выгодно поддержать его теперь. Когда он слаб и немощен. Но жив. И пока он жив, она будет служить ему.
Темные глаза княгини смотрели на него так нежно, как не смотрели никогда, когда он возвеличивал ее и почитал. Он же, выпив питье, устремил взгляд в сторону. И если он не в силах велеть изгнать ее – он не будет ее замечать.
Твердохлеба с искренней радостью отмечала, что князю постепенно становится лучше. Правда, видела это только она. И он. Тянулись дни, княгиня не отходила от мужа, сама кормила, расчесывала, обмывала. Если и покидала его, то только по зову Дира. Оказалось, что младший из братьев и впрямь не справлялся с властью без ее советов. Нескончаемые будничные дела утомляли его и ставили в тупик. Твердохлеба же, как никогда, ощущала теперь свое могущество. И как никогда – свое одиночество. Потому, оставив гридницу, где заседала с боярами, она спешила вернуться к Аскольду.
Он же почти не реагировал на ее присутствие. Некое вялое безразличие нахлынуло на больного князя. И он только смотрел на матицу под кровлей. Часами смотрел. А виделось… Он вспоминал…
Вот он рыжим коренастым мальчишкой в длинном задымленном доме завистливо глядит на недавно прибывших к хозяину викингов. Викинги едят мясо с кровью, рассказывают о подвигах, громко смеются. У них славная веселая жизнь, в ней столько всего происходит. Оскальд – тогда еще Оскальд – пробирается вперед, он не хочет пропустить ни одного слова. Но грубый пинок опрокидывает его на спину, по губам течет кровь, а хозяйский голос кричит:
– Иди к себе в свинарню, навозник.
Он вспоминает…
Кузнец Хаки спит с храпом, даже поскуливает во сне. А Оскальд пробирается к стене, где, завернутые в сукно, лежат новые мечи. Оскальд понимает, что будет, если Хаки проснется, ему страшно, но он уже решился. И он откидывает промасленное сукно, тянет еще не оплетенную ремнями рукоять меча. Чуть лязгая, клинок ползет за рукоятью, словно говорит: возьми меня, я буду хорошим другом. Оскальд знает, что никогда не вернет его назад. Что лучше расстаться с жизнью, чем вернуть меч, сразу ставший другом, семьей, жизнью. И Оскальд покидает усадьбу, сбегает с украденным оружием, хотя знает, что его ждет, если догонят. Поэтому, несмотря на холодную пору, он идет только по ручьям, чтобы ищейки не взяли след, пробирается по самым пустынным местам, питаясь кореньями и засохшими ягодами, пьет воду из болот, лакая, как волк, голодает, выбивается из сил. Случайно ему попадается чужой силок с полуживым кроликом. Он есть его, еще дергающегося. Но ему надо есть, потому что силы на исходе.
Видимо, боги все же были на его стороне, раз он выжил и даже добрался до священной Уппсалы[152]152
Уппсала – древний шведский город, где находились святилища богов скандинавов; расположен недалеко от современной Уппсалы.
[Закрыть] – города, куда часто приезжали делать подношения богам вольные викинги. Там Оскальд сумел доказать, что он хорошего рода, назвал имя отца-викинга, которое всегда знал, и один из хевдингов[153]153
Хевдинг – вождь викингов; буквально – главарь.
[Закрыть] взял его на свою ладью. Да, тогда для него все только начиналось…
Ах, какая это была жизнь! Он быстро научился усмирять свой страх, научился сражаться. И убивать. Он помнил, как убил человека, узнавшего в нем тюборинна – сына свободного и рабыни. Но не смог обрезать все длинные языки. Не успел срезать с них свое позорное прозвище – Навозник.
Это было его наказанием на всю жизнь. Он хотел уничтожить прошлое, он вернулся в родное поселение и вырезал всех, кто некогда пинал и оскорблял его. Не пощадил даже свою мать и ее нового мужа. Никто не должен был остаться в живых из тех, кто знал его прошлое. Но на кого у него не поднялась рука, так это на брата. Дир – тогда он звался Дьури – был на двенадцать лет младше Оскальда, он узнал о нем только через пару дней после того, как покинул сожженное им поселение его бывшего хозяина. Ему сказали, что еще один сын его матери живет с пастухами на горных выпасах, и он поехал за ним, так как не хотел, чтобы его брата, его кровь и плоть, тоже называли Навозником. Брата он узнал сразу, такого же рыжего, как он и мать, хотя лицом они были не похожи. А Дир… Что ж, Диру он много позже признался, что кто-то из его людей случайно убил их мать. Дир это принял спокойно. Он уже забыл женщину, породившую его, зато просто боготворил брата-викинга, который увез его в полную опасных приключений жизнь. Ибо Дир был прирожденным викингом…
Аскольд смотрит на матицу, слышит рядом движение, но не поворачивается. Она, опять пришла она, его враг, его жена. Хотя она говорит, что больше не враг. Но ему сейчас это все равно. Вспышка боли, едва не убившая его во время признаний Твердохлебы, уже миновала, как миновала и ненависть к жене. И сейчас княгиня все время сидит рядом, в так нелюбимом ею старом тереме Горы, поит его настоями, кормит с ложечки, приговаривая:
– Ты ешь, не отказывайся. Ты должен выздороветь. Пусть проклятая Мара и все духи Кровника уйдут от тебя, ибо я тебя им не отдам.
А потом она начинает говорить о делах. Он молчит, но она знает, что он слушает.
– Я заставила раскошелиться бояр, и мы возвели двойную дамбу над Днепром у Подола. Для этого мне пришлось поднять почти весь низинный град, и они орали и шумели, что боярам с Горы наплевать на них. Так что оказалось несложно стравить их с боярами-толстосумами, а самой получить выгоду. И часть денег на валы я спрятала в казну. Иначе нельзя. Дожди не прекращаются, все вокруг размыло, Дир не может ехать в полюдье. Боги, на что гневаетесь, посылая нам такую напасть?
Ей все же удавалось его заинтересовать. Он разлепил губы, зашептал, а она, склонившись, слушала.
Да, Дир не сможет углубляться в подвластные племена, не сможет кормиться за их счет и кормить дружину, но он может жить за счет окрестных сел. Пусть же пока навестит погосты в округе. Окрестные князья-старшины давно не чувствуют руки Киева. Так пусть возьмут на прокорм князя-защитника с дружиной.
Столь длинная речь утомляет князя, и Твердохлеба заставляет его выпить макового настоя, уснуть. Во сне приходит спокойствие, исчезает тяжесть в груди. Аскольд каждый раз думает, что если княгиня ошибется хоть на каплю… Сердце его не выдержит. Но она никогда не ошибается, ее лечение верно, недаром жизнь нескольких волхвов и христианина Агапия зависит от того, как долго протянет князь. И Аскольд спит спокойно. Не замечает сколько, не замечает, когда явь сменяет сон, и он вновь глядит, как дым, огибая матицу, вьется к волоковому окошку под стрехой, откуда по-прежнему веет дождем.
Аскольд вспоминает…
Его корабли входят в устье рек в краю бьярмов,[154]154
Финно-угорское племя, жившее на восточном побережье Белого моря.
[Закрыть] люди из деревянных изб разбегаются, когда его ладьи с низкой осадкой подходят прямо к их причалам. Эти берега богаты пушниной и рабами. Он совершает набег и плывет в Хюсабю, где самые большие торги. А дальше… Он вспоминает соленую волну, вспоминает союзы с другими ярлами – ибо он, Навозник Оскальд, уже ярл и у него свой хирд из отважных викингов. Он вспоминает, как лихо они повеселились на берегах Восточного моря[155]155
Балтийское море.
[Закрыть]. Вспоминает и Хрерика, который позже станет князем новгородским Рюриком, но вспоминает его не как врага, а как предводителя, ценившего его, Оскальда, хотя и знающего его прошлое. Может, поэтому и ценил… Он умел уважать удачливых, несмотря на их род. Пусть же Рюрика не минет пенная чаша в чертогах Валгаллы… Потому что с ним Оскальд прославился, ему Рюрик доверил стать посадником в Пскове, ему же дал часть своих людей, когда он, уже Аскольд, сказал, что хочет плыть за золотом и славой в Миклегард. Но он уже тогда замыслил обмануть Рюрика. А подсобил ему получить дружину молодой ярл Олег. Ладили тогда Аскольд с Олегом. Вот юный родич Рюрика и поверил Аскольду. Вещий. Ха!
Князь вновь видит рядом Твердохлебу. Она рассказывает о том, как на месте мужа восседала в Думе, решая киевские дела по закону, именуемому Правдой. Не самая славная обязанность, но Аскольду она нравилась. Это теперь он понимает, что нравилась. Раньше же разбирать, кто у кого своровал овец из хлевов, кто передвинул межевой столб на нивах, казалось нудной работой. Бывало и такое, когда простой люд шел к князю решать свои мелкие проблемы, вплоть до того, что кто-то сделал заказ да расплатился не так, как сговаривались, кто-то продал больную корову, выдав ее за здоровую. Начинался вызов видоков-свидетелей, опрос их… Долгое и нудное дело, но какое ощущение власти это давало! Твердохлеба-то, небось, всегда к власти стремилась, вот пусть теперь и возится. Дира на такие посиделки и калачом не заманишь. Да, а как Дир? Поехал ли по окрестностям, силу показать и дань собрать? Что-то его долго не видно.
И Аскольд, с трудом ворочая языком, произносит имя брата. Твердохлеба понимает.
– Услала я сокола нашего. Непросто это было, однако. Раньше для него полюдье забавой казалось, в Киеве его не задержишь. А тут… Ох и замутила же голову Диру Боянова дочка. Он все к ней на подворье бегал. Смеялся, что даже сватов зашлет, но как-то нерадостно смеялся. Видать, змея эта чернокосая не больно рада тому, что сам князь за ней приударяет. Хотя я с самого начала знала, что ничего там не сладится. Я ведь выведывала у перунников, что за краля эта Карина. И узнала, что когда-то Дир сжег ее селище, всю родню погубил. Подумай, прощается ли такое?
Аскольд хочет что-то сказать – мол, все может быть, но молчит. Вспоминает злые речи жены, ее страшные признания, ее месть. Нет, не нужна его брату подобная суложь. А ведь Карина – баба хитрая. Вон за три каких-то года почитай почти весь Киев покорила. И она найдет, как отомстить врагу родни.
И тут князь, словно вспомнив что-то, беспокойно заворочался, с уголка безвольного рта на неподвижной стороне лица стекла струйка слюны. Твердохлеба тут же наклонилась, заботливо, словно мамка услужливая, вытерла мужу подбородок.
– Ты не волнуйся, что о перунниках заговорила, – молвила она, верно угадав мысли Аскольда. – Служители Громовержца все еще верят мне, а нам знать кое-что от них даже полезно.
Она говорит «нам», будто и не было ее страшного признания. И Аскольд словно уже смирился с этим. Рад бы вновь осерчать, но сил нет. Да и поздно уже жизнь перекраивать, когда одной ногой почти стоишь у кромки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































