Текст книги "Чужак"
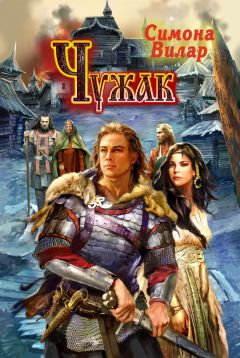
Автор книги: Симона Вилар
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
– Ты видишь мою душу, – тихо сказал варяг. – И знаешь, что для меня главное. Прости же меня.
Волдут поднял руки над огнем, и языки пламени словно вспыхнули ярче, полетели ввысь искры.
– Расскажи, как ты жил, Ясноок. Вижу на тебе печать дальних странствий.
Варяг только смотрел. Небрежно распустил косицу, удерживающую сзади волосы, тряхнул головой, откидывая их назад. В его лице еще что-то угадывалось от того мальчика, каким помнил его Волдут, но это уже был другой человек – мужчина, научившийся никому не доверять. И его глаза в сетке ранних морщин были холодными и непроницаемыми.
– Мы не сможем говорить, если меж нами будут недомолвки, – заметил волхв. – Что ж, не хочешь делиться, скажи тогда, как вышел на Вещего? Я ведь помню, ты отбыл с дружиной на полдень,[87]87
Юг.
[Закрыть] к Царьграду.
– Ну, не совсем так, – засмеялся варяг. – Сколько я прошел и как вынужден был петлять – не великое повествование. Скажу только – я искал того, кто захочет свалить правителей Киева, и нашел его в лице воеводы Рюрика Олега.
Волхв Волдут спокойно смотрел на искаженное ненавистью красивое лицо варяга. Что и говорить, кровная месть всегда свята. А у этих выходцев с севера, как ни у кого. Но сам волхв с годами понял иное: месть испепеляет душу, подает жизнь только в одном свете.
– Расскажи об Олеге, – вновь сказал Волдут. – Мы все знаем о великом воине-волхве, поднявшем Перуна над остальными богами. Но каков он? И что ждет от нас?
– Он хочет поквитаться с предателями, которые служили Рюрику, а потом хитростью выпросили у него отряды якобы для набега на Царьград, а на самом деле осели в Киеве. Аскольд с Диром клялись в верности Рюрику Новгородскому, сами же стали против него, сделались препоной на пути из варяг в греки. А то, что они объявили себя князьями… Знаешь, каким было прозвище Аскольда ранее? Навозник. Он низкого рода. Там, на севере, таких зовут тюборинн – сын свободного викинга от случайной девки-рабыни. Мог Аскольд и в ошейнике раба всю жизнь проходить, но еще когда ему было десять и он чистил двор в имении хозяина, его мать приглянулась свободному бонду, он выкупил ее и женился. И Дир уже был рожден свободным. Хотя без старшего брата он бы ничего не смог. Аскольд же хитер, сумел собрать отряд смелых, нашел предводителя поудачливее, того же Рюрика, примкнул к нему.
Торир замолчал, глядя на волхва, но тот не больно выказывал возмущение, не ужаснулся тому, что Киевом правит рожденный в рабстве Аскольд.
– Не стыдно родиться в грязи, Ясноок, стыдно всю жизнь прожить в ней. А то, что Аскольд сумел столького достичь, говорит о нем как о не самом последнем из мужей.
– Ха! – Варяг только хлопнул по колену. – Ты будто слова Рюрика подслушал, мудрый Волдут. И он тоже не имеет обиды на изменника. А вот Олег… Он ведь хлопотал перед князем, чтобы тот дружину дал братьям Аскольду с Диром, он слово за них замолвил, он им руны удачи на щиты нанес, когда те шли якобы на ромеев. И он не прощает обиды, хочет поквитаться со лжецами.
Торир умолк, пытливо глядя на волхва. Но его горячая речь не возмутила Волдута. Тот сидел все так же прямо, и в осанке его была величавость.
– Ты слышал, что я говорил раньше. Здесь в Киеве все сжились с Аскольдом и Диром. И мало кто захочет менять их на Рюрика или на его воеводу Олега. Более того, и Рюрика, и Олега в Киеве давно принято считать врагами.
Торир чуть подался вперед.
– А ты, Волдут? Кем ты их считаешь?
Волдут долго молчал. По сути, он посвятил жизнь, чтобы вновь возвысить Перуна. И он многого добился, Аскольд с Диром не перечили ему в том. И хотя их подношения Громовержцу и были богатыми, но волхвы Перуна при встречах со служителями Велеса должны были уступать тем дорогу. Олег же возвысил перунников несказанно. Это ли не повод, чтобы поддерживать Вещего? Чтобы вместе с ним поднять Перуна, подателя плодородия, славы и побед, над иными богами? Но было и еще нечто. Не только о богах думал Волдут, слушая Ясноока. Волхва волновал Дир, прозванный Кровавым. И не зря прозванный. Конечно, своими походами он расширил границы земель полян, но и с самими киевлянами держался как с побежденными. Другое дело Аскольд. Старшего князя в граде почитали как своего. Но Аскольд уже в летах, его единственный сын и наследник погиб, и случись что с мудрым Аскольдом, Дир Кровавый единовластным хозяином в Киеве стольном сядет. Вот тогда… Тогда хорошо не будет никому. Волхвы гадали о таком, и оторопь их брала: и птица жертвенная не так тогда кричала, и кровь жертв не туда с алтаря стекала, и ветер не так шумел в кронах священных дубов. Не лучше ли и впрямь тогда признать Рюрика? О князе Новгородском говорят как о мудром и рачительном правителе. Кроме того, его первый воевода сам перунник.
– Тебя что-то смущает, Волдут? – не выдержал долгого молчания волхва наворопник Олегов.
– Не торопи меня. Дай прикинуть, какая нам выгода чужакам против своих помогать.
– Чужаки, свои… О Волдут, только не заводи старую песню о любви к своей земле, – откинулся назад варяг. Сидел он, опираясь на поваленный ствол дуба, светлые пряди свешивались на глаза, и он нетерпеливо сгреб их пятерней. – Ты и раньше вел со мной такие речи. Но того, кто повидал полмира, этим не проймешь. И учти: я побывал в разных землях, при дворах разных правителей и твердо усвоил одно: чем больше правители говорят людям о любви к своей земле, о том, как надо беречь свой край, – тем охотнее они пошлют их на смерть ради этой земли.
От него вдруг словно повеяло дикой яростной силой. Силой волка. И верховный жрец даже стушевался. Это было ему непривычно, обычно он умел как разговаривать с людьми. Знал, как на них влиять. Но сейчас этот пришлый варяг будто вливал в него свою уверенность и свою злость. У чужака была сила. У Волдута – мудрость. Вот только… Ему бы лучше очнуться от влияния синих глаз некогда взлелеянного им мальчишки. И волхв поспешил отвернуться, даже встал, отошел в сумрак леса. Лес всегда успокаивает, дает пищу мыслям и особую вечную мудрость. И отсюда, из сумрака, Волдут уже совсем будничным голосом велел варягу принести еще дров для костра: пламя догорало, осело. Волхв вздохнул облегченно, когда тот повиновался.
– Мне надо подумать, Ясноок. Мне нужен знак от богов.
– Хорошо…
Торир старался не глядеть на волхва, но на его скулах напряглись желваки.
– Хорошо, я не стану торопить тебя, Волдут. Но учти, если откажешь… Не я решаю. Но тебя уже не спасу. Не я ведь один замешан.
Он стал с треском ломать сучья и кидать их в огонь.
Волхв понял. Перунники с севера могучи, они смогут убрать того, кто им неугоден. А вот союзнику воздадут сторицей. А что нужно ему или кому иному, как не поднять низвергнутого здесь Перуна? Выходит, думая о людях, о смене власти, он забыл свое главное предназначение.
Не успел волхв и слова молвить, как из темного леса мелькнула белая тень. Это была ручная сова Волдута. Но сейчас вещая птица прилетела не к нему. Описав круг над костром, она опустилась на плечо чужака. Или старая ночная охотница не забыла мальчишку, некогда жившего среди жрецов Громовержца? Сова – птица мудрая и выбрала сейчас не хозяина. Сидела на чешуйчатом от брони плече чужака, мигала слепо на огонь костра. Торир же сперва замер, опасаясь спугнуть ночную посланницу. Лишь через миг улыбнулся. Все той же покоряющей мальчишеской улыбкой.
– Это ли не знак, перунник?
Волхв вздрогнул.
Они долго молча сидели друг против друга.
– Если ты хочешь только мести, Ясноок, – начал наконец жрец, – если только гибели князей, я помогу тебе. Несложно это.
– Нет, – замотал головой Торир. – Мне мало их гибели. Я хочу их с места согнать, власти лишить, чтоб потеряли они все, чего добились, стали ничем! И чтоб видели это. И вот тогда… только тогда, волхв, я омою руки в их крови.
Он бурно задышал. Потревоженная сова взвилась белой тенью, неслышно исчезнув в ночи.
Волхв спокойно смотрел на юношу.
– А ты знаешь, как это сделать?
Спокойствие Волдута резко контрастировало с волнением молодого варяга. И Торир словно устыдился, отвел взгляд. Когда заговорил, голос звучал уже спокойно:
– Не я. Олег Вещий.
– Тогда говори. Думаю, уже пришло время поведать тебе, какая выгода Киеву подчиниться князю новгородскому.
– Не подчиниться, Волдут. В союз вступить. И объединить все племена, чтящие Перуна. Подумай, волхв, какая это будет сила! Что тогда для нас хазары, что сама Византия!
Волдут решил, что он стареет, раз не может сразу представить себе подобное объединение. Разве не исстари живут славянские племена во вражде? Но на то он и волхв, чтобы заставить себя представить невозможное. А когда уяснил, впервые позволил некоему чувству пробиться сквозь завесу невозмутимости, то заволновался.
Торир глядел на него горящим взглядом. Отбросил рывком длинные волосы с лица и смотрел. Варяг любил этого волхва, если в его очерствевшем сердце еще могло остаться место такому чувству. Но он верил в Волдута, верил в то, что тот поймет. Ведь хотя Волдут и волхв, но он славянин. И как все славяне, не мог вот так сразу принять огромную новость. Славянам все приходится втолковывать постепенно, давая насытиться новостью, как понемногу насыщают изголодавшегося после осады. И Торир стал объяснять, как учил его некогда Олег Вещий. Разве не объединил под своей рукой Новгород большинство племен на севере? И разве под данью Аскольда с Диром не состоят славянские племена на юге? Два таких могучих правителя, как Аскольд с Рюриком, рано или поздно должны схлестнуться в битве. Чем это грозит? Пусть Волдут сам представит. Но если помочь одному из них взять власть – то какое могучее княжество родится тогда в славянском краю! Весь путь «из варяг в греки» проляжет по его землям. Но одно дело, если во главе такого объединения станет Аскольд, возвеличивший Велеса, другое – если Рюрик, покровительствующий служителям Перуна.
Волдут слушал невозмутимо. Но его била дрожь. В этот миг он не думал ни об Аскольде, ни о Рюрике. Он был волхвом и знал то, о чем не ведал наворопник Торир. И уже не единожды ветер нашумел ему, река наплескала, зверь накричал, что Рюрик, которого Торир видел князем, уже не жилец. А если так… Дрожь усилилась. У Рюрика сын совсем еще дитя. В Новгороде могут и смуты возникнуть. Что тогда все их старания подточить трон киевских князей? Но Волдут не столько предвидел, сколько понимал разумом, что произойдет тогда. Ведь в новгородском крае как нигде сильны волхвы Громовержца, и они настоят, чтобы власть перешла одному из них, но тому, кто реальную силу имеет, – Олегу Вещему. Молод, говорят, Рюриков воевода, да только сила у него такая, какой и у самого князя нет. И если княжить в Новгороде станет Вещий… В Новгороде, потом в Киеве… Волдут перестал дрожать. Он смог понять, что это значит.
– Нужно, чтобы Аскольд с Диром стали неугодны Киеву.
Торир перевел дыхание. Волдут понял. И теперь он мог заручиться поддержкой местных волхвов.
Они еще долго разговаривали, до часа, когда небо засветлело, птица ранняя петь начала. Теперь объяснял и указывал уже не Торир, теперь давал указания Волдут. Но во все не посвящал. Торир чувствовал это, однако не обижался. Его цель была увлечь главного волхва на Днепре, но не подчинить. К тому же он и так сделал многое. Он убедил Волдута и тем спас его. Теперь Волдут сам найдет пути к Олегу. А то, что волхв не договаривает, – тоже правильно. Много знать Ториру даже опасно. Ведь теперь он пойдет к самим князьям, а если где оступится, оплошает – палачи Аскольда наверняка умеют и пытать, и вызнавать.
Волдут говорил:
– Нам обязательно понадобится свой соглядатай в тереме князей. Чтобы приближен к ним был и знал, о чем толкуют.
– У тебя есть такой на примете?
Волдут не ответил, гладил ладонью языки огня и те тянулись к нему, точно живые. Торир понял: своего он не укажет. Тогда варяг кивнул в сторону распахнутой двери в дереве.
– А я подошлю к Диру свою девку. Он любит красавиц. Да и она уже привлекла однажды его взгляд, понравилась. Вот и подложу к нему Карину. Разве не славный дар для Дира Киевского – вдова Боригора радимичей? Она же станет оповещать нас обо всем. Девка она хитрая и смышленая, сумеет подластиться к князю да выпытать что нужно.
Волдут чуть нахмурился.
– Тебе видней, Ясноок. Да только у твоей чернокосой радимички гордый рот и взгляд не из робких. И сильна она. Я это сразу понял, еще до того, как приказал ей уснуть. Даже чарам она не сразу поддалась, пришлось приложить усилие.
– Гм. – Торир чему-то усмехнулся. – Что есть то есть, она редкая девка. Но я прикажу – послушает. Любит она меня, а кто послушнее влюбленной бабы? Я же давно продумал, для чего она пригодится. Зря, что ли, тащил ее за собой через земли племен славянских?
И он улыбнулся такой задорной лучистой улыбкой, так пригож стал, что Волдут понял: его Ясноок знает, как влиять на женщин, его любая послушается. Наверняка уже не раз этим пользовался, раз так уверен. И все же… Волдут припомнил, как эта девушка отводила глаза, как устояла дольше других, кому он приказывал взглядом. Сложна она. Ну да варягу виднее. И он лишь сказал:
– Рискованную игру ты затеял, Ясноок.
– Не я – мы. Мы затеяли, Волдут. И чтобы это «мы» осталось в силе, сейчас, на заре, мы пойдем к Перуну и обменяемся перед его изваянием нашей кровью из чаши.
Он улыбался, и его выразительные глаза светились лукаво.
– Я побывал во многих землях, волхв, многое узнал, но не забыл обычаев перунников, которым обучался в дубравах над Днепром. Помню и то, что обменявшийся кровью на заре не посмеет предать. Иначе сам Перун отдаст его душу Кровнику. – И серьезнее добавил: – Ты нужен мне, Волдут. Ты и Олег Вещий. Я же сведу вас – тебя и Олега. Ради величия Перуна и силы славян.
На заре они пили воду с кровью перед златоусым идолом бога-громовержца, говорили зароки. Их никто не видел, никто не должен был знать об их уговоре. Вернувшись же к дубу, вновь все обговаривали, уточняли, пока Торир не решил, что пришло время будить Карину, готовить к намеченному. Но когда по ступеням-колодам он поднялся в недра дуба, то увидел, что оно пусто. Карины в дереве не было, даже лежанка, куда ее уложили, успела остыть.
Это был удар, едва не рассоривший их с волхвом. Торир упрекал Волдута в том, что тот не сумел как следует наложить чары на девушку. Тот же, в свою очередь, гневался, что воспитанник доверился девке, оказавшейся не такой преданной, как тот уверял.
– Одно знаю: она не выдаст, – настаивал Торир.
– Ты уверял и в том, что она послушна, – отрезал жрец. – Но в любом случае мои люди отыщут ее и уничтожат до того, как она начнет болтать. И клянусь в том…
– Не клянись!.. – остановил делающую клятвенный жест руку волхва варяг. Побледнел сильно. – Пусть ее ищут, Волдут. А найдут – мне доложат. И тогда я сам решу ее участь!
Часть II
Горяне
Глава 1
В Киеве стольном три возвышенности – их называли горами – носили имена князей-основателей града: гора Кия, уже звавшаяся Старокиевской, или просто Горой, Хоревица крутая и Щекавица, стоящая поодаль. Люди давно их заселили, особенно Старокиевскую и Хоревицу. А вот на Щекавице, долгое время бывшей выселком, только в последние годы раскинулись теремные дворы любимой жены князя Аскольда – Твердохлебы Киевны.
Да, побаловал отдельным теремом княгиню пресветлую варяг Аскольд. Он, бродяга с севера, не мог не оценить, что брал в жены женщину древнего рода, восходящего к основателям града. А то, что она была вдовой скинутого им старого правителя, никого не удивило. Обычное дело, когда победитель вместе с доставшимся ему от предшественника добром получает еще и его вдову. Да к тому же Твердохлеба была хороша неимоверно и с годами красы своей не растратила. А то, что некогда поваляли княгиню пресветлую хирдманны[88]88
Хирдманн – у викингов дружинник в отряде – хирде.
[Закрыть] Аскольда – о том говорить было не принято. Да и забылось уже. Зато все знали, как лелеял и берег Твердохлебу князь, и любовь мужнину имела она при себе, как пояс с хозяйскими ключами.
Богатые терема выстроил на Щекавице для жены Аскольд: строения все из крепкого дуба собраны, резьбой да завитушками разукрашены, кровли высокие гонтом[89]89
Гонт – особая деревянная черепица, каждая досточка которой натиралась олифой и отливала желтизной, что при дневном освещении создавало впечатление позолоты.
[Закрыть] покрыты, блестевшим на солнце, словно золотая чешуя.
Обычно жизнь в вотчине Твердохлебы начиналась лишь после того, как волхвы на горе Старокиевской в рог прогудят, объявляя полдень. До этого же здесь и челядь не шумела, и дружинники не галдели, и купцы не вкатывали на широкий двор возки с товарами. Все знали: любила подольше поспать суложь великого князя. Потому, когда на рассвете кто-то постучал у ворот, требуя впустить, было непривычно. Но пропустили. Да и как иначе, если стражи узнали крытый двухколесный возок княгини Милонеги, жены второго князя Дира Киевского и единственной дочери Твердохлебы.
Милонега позволила возничему спустить себя на землю и тут же заторопилась, почти побежала, стуча подкованными каблучками чебот[90]90
Чеботы – низкие в голенище сапожки.
[Закрыть] по плитам двора. Стражи невольно переглянулись, хмыкнули. Нет у супруги Дира Киевского ни капли той степенной важности и величия, как у их хозяйки. Маленькая, хлипкая, росточка неказистого. Модная, византийского кроя пенула[91]91
Пенула – цельнокроеная накидка наподобие длинной пелерины, с отверстием для головы и мягким капюшоном; в таких одеяниях-пенулах часто изображаются православные святые.
[Закрыть] болталась на ней, как мешок, сбившись недостойно на одну сторону. И бегает, семенит ножками, словно девчонка дворовая, а не княгиня великая, которой уже двадцать годков проскочило, да и дочь родила мужу-то.
Но Милонега сейчас и впрямь спешила, торопясь к матери. И только взбежав на высокое крылечко с витыми столбами, все же постаралась придать себе некую степенность. Тиуну княгининому велела отвести ее прямо в спальню госпожи. У этого тиуна были вырваны ноздри (след наказания), и он мялся, задерживая раннюю гостью. Знал, как не любит Твердохлеба, когда ее до поры будят. Милонеге-то что, пощечиной отделается, а у него и так уже лицо обезображено. Однако Милонега неожиданно сильно оттолкнула управляющего, пошла по переходам, пока не постучала в расписные двери опочивальни, вошла, не дожидаясь.
И тут оробела. Темно и душно было в покоях матери, только храп клокочущий раздавался. Но не с ложа, шелками занавешенного, где высилась целая груда подушек. Ложе – это где мать Аскольда принимает. А так обычно спит Твердохлеба, словно какая чернавка, на топчанчике низком. Но тут княгиня о другом думает: она красу бережет, ибо, как обучили ее лекарки заморские, – упругость и гладкость кожи лишь на жестком ложе сохранить можно. Вот бы подивился Аскольд, если бы хоть[92]92
Хоть – любимая жена.
[Закрыть] свою желанную застал на топчанчике в углу. Да разве только это…
– Матушка, – потрясла за плечо княгиню дочь. – Очнись, родимая. Весть я тебе принесла.
Твердохлеба только зачмокала со сна губами. Во мраке ну и страшной казалась она Милонеге. Лица не видать из-за привязанных к щекам кусков сырой телятины. До бровей надвинут жирный колпак, полный сметаны с выжимками из трав, питающими волосы княгини. И все-то чтоб уходящую младость-красу сохранить. А для кого – для мужа, что ль, ненавидимого? Видел бы он сейчас свою зазнобу превозносимую! А как негаданно нагрянет?
И Милонега уже решительнее тряхнула мать за плечо.
– Вставай, княгиня пресветлая! Аскольд утром с турьих ловов прибыл. С боярами заседает, но, неровен час, сюда прибудет.
Милонега принялась с шумом распахивать ставни окошек, впуская свет, гомон мира. Твердохлеба подскочила, куски мяса наехали на рот, она сорвала их резко.
– Что?.. Милонега, ты? С чего это Аскольд вернулся? Ведь только же отбыл.
– Говорю – вернулся. А почему – сейчас поведаю.
Но мать и так уже что-то понимать стала, улыбнулась перемазанным телячьей кровью лицом.
– Позже. Молодец, что упредила. А сейчас выйди, обожди, пока красу наведу.
Она жестом выставила дочь за двери. Не как равную, а как подвластную, хотя та и была женой мужнего соправителя Дира.
И Милонега покорно ждала. Сидела в полутемной комнате, наблюдая, как засуетились теремные девки княгини, забегали чернавки, несли баночки, склянки с притираниями, зеркала оловянные, лукошки с гребешками. Сильные холопы протащили большую, обитую медными обручами лохань с теплой водой. Твердохлеба взяла привычку вместо бани каждое утро принимать омовение, по образцу византийских матрон. Долгонько теперь провозится. А Милонеге – жди. Что ж, ей есть о чем поведать. Для того и вынуждает ее мать жить на Горе возле князей, чтобы та в курсе всего была. Да только плохо Милонеге на горе Старокиевской рядом с мужем злым, сердитым. Дир и руку на Милонегу поднять может, порой и при людях. Ему ее родство со старой киевской знатью – тьфу. Силком их свели Аскольд и Твердохлеба, едва княжна в пору вошла. Но понесла она сразу, родила дочь, когда и четырнадцати не исполнилось. Дир раздражен был: отчего дочь, не сына? Кого сделал, того и получил. Да только с тех пор Милонега больше не беременела. И хотя была главной женой, да только никто с положением ее особенно не считался. А когда три года назад из степи привезли Диру хазаренку Ангуш, положение Милонеги и того хуже стало. Ангуш сразу сына родила князю, а после такую силу взяла, что Милонега вообще никем стала. И уж сколько она просила мать: забери, схорони подле себя, но та только гневалась. Должен же кто-то около князей быть, вести приносить. Но почему она? Эх… Кабы за нее Аскольд добрый порой не вступался… Но Твердохлеба добрым Аскольда не считает. Для нее он тот, из-за кого она горе и поругание перенесла, из-за кого сыны ее погибли. А вот Аскольд ее любит и чтит, как редкий муж достойную жену почитает. Захотела она свой отдельный терем на Щекавице – он и рад стараться. Велит она ему так и так поступать – он исполнит. И все за советом спешит к жене.
Милонега всегда знала, какую власть имеет мать над грозным князем. Хотя ни разу и не понесла от него. Так говорят. Но Милонеге ведомо, что Твердохлеба не один раз от мужа плод вытравливала. Пока не стало лоно ее пустым, как оскудевшая пашня. Но Аскольд к бесплодной жене не охладел. Ибо только с ней мужчиной себя чувствует. А что с другими не выходит… Это опять же мать постаралась, навела с колдунами порчу на ненавистного мужа. Никто о том не знает, кроме нее, Милонеги. Но она молчит. И помогает матери месть ее вершить. Вот и сейчас пришла предупредить. Ее дело оповестить, а там – мать умная, решит, как быть.
Взгляд Милонеги скользнул по резьбе на потолочных балках, по богатым полавочникам,[93]93
Полавочник – нарядное, тканое или меховое, покрытие на лавках.
[Закрыть] по рядам развешанных на стене серебряных мисок с чеканкой. Дочь всегда завидовала роскоши, в какой жила мать. Однако сейчас она думала не о богатстве Твердохлебы. И не о сообщениях, ради которых приехала. А думала Милонега о своем сокровенном, о бабском. Сказать ли, поделиться с матушкой? Да и кому поведать, как не родимой? И полудетское маленькое личико Милонеги сделалось вдруг нежным, мечтательным. Задумалась так, что не сразу и откликнулась, когда к матери позвали. Вздрогнула, словно выйдя из царства грез, увидев перед собой кланяющегося давнишнего тиуна.
– Свет Милонега Хоривна, вас княгиня Твердохлеба трапезничать с собой кличет.
В светлице с распахнутыми окошками колыхались расшитые райскими птицами занавески. Светло, богато, нарядно. Да и саму Твердохлебу не узнать. Вот она краса киевская, правнучка легендарного Кия… а может, Щека или Хорива – кто упомнит. Сидит Твердохлеба на высоком стуле за уставленным яствами столом, пригубливает ковш-утицу с квасом. Глянула поверх него на дочь карими глазами. Сама вся в византийской парче, жесткой, шуршащей; с высокой, блестящей каменьями шапочки вдоль щек спускаются узорчатые колты-подвески, все в россыпи мелких самоцветов.
Княгиня кивком выслала кланяющуюся прислугу и поманила дочь.
– Ну, говори!
Милонега покосилась на уставленный яствами стол. Ведь выскочила с утречка, не имея даже маковой росинки во рту. Но сперва с матерью поделиться надобно. И она, скромненько теребя край пенулы, рассказала о том, что случилось. А случилось…
Твердохлеба довольно заулыбалась алым ртом. Ведь все вышло, как она и предвидела. Иль не она посоветовала Аскольду Дира в Киеве оставить, пока сам на ловах будет? Говорила, дескать, Дир то в походах, то в полюдье – киевляне его и не знают толком. Пусть же поживет среди людей, правителем себя покажет. Да только мало кто знал, что для Дира, Кровавым прозванного, поляне не более чем покоренным народом были. О том, как сами киевляне братьев позвали, он не думает. Зато об этом помнят киевляне. И они ужаснулись тому, как повел себя с ними младший правитель Киева.
– Дир у боярина Гурьяна гостил, – рассказывала Милонега, – вот там он и схлестнулся с людьми нарочитыми. Говорят, они с дружинниками там так разошлись, что уже мечи повыхватывали. Хорошо еще, что дядюшка Борич за волхвами послал, чтоб усмирили.
– Зря это мой брат посуетился, – недовольно откладывая ложку, нахмурилась Твердохлеба. – Крови надо было дождаться.
– Так была уже и кровь, – всплеснула маленькими ручками жена Дира. – Скамьями они бились, колья из тына выхватывали. Средненькому Гурьянову голову проломили, говорят, помрет парень. Если бы волхв с капища не поспел, не разорвал на себе одежд, грозя, что проклянет всех, Кровника нашлет, так и до всеобщей бойни дойти могло. Ведь уже люди сбегались, а ярл Ульв в детинец за подмогой позвал.
– Ох, сладко! – даже опустила длинные ресницы Твердохлеба.
Умолкла, словно наслаждаясь представленной картиной. Сидела статная, ядреная, с ярким персиковым румянцем на полных щеках. Но словно силой темной от нее веяло. Милонега даже отшатнулась, заморгала частенько.
– Что далее? – не открывая глаз, спросила княгиня.
А далее волхвы Велеса поспешили послать гонцов за Аскольдом. Вот он и бросил ловы, в Киев поспешил. А Дир со своими в детинце закрылся, пьет много, но и бахвалиться столько крови пустить, что она потечет по Боричеву узвозу[94]94
Одна из старейших улиц Киева (ныне Андреевский спуск); в описываемые времена главный путь со Старокиевской горы на Подол.
[Закрыть], словно река. Теперь вот Аскольд старается уладить дело миром.
– Ха, миром! – развеселилась княгиня. – Погоди, Милонега, мы еще таких дел натворим, что эти проклятые варяги не раз вспомнят, как обошлись с нами когда-то. Не мы ли сгубили сына Аскольдова? А он, глупый, и по сей день думает, что от стрелы болгарской пал его выродок. Не мы ли лишили их наследников, вытравляя плод от них в себе, чтобы род их никогда не продолжился в Киеве? Погоди, мы и выщенка Ангуш изживем, и ее саму, сучку хазарскую. Мы все сможем. Не будет им счастья, недоля горькая их сгубит.
Она встала, начала ходить столь стремительно, что развевалась белая паволока, ниспадавшая из-под головного убора.
Милонега между тем украдкой схватила со стола пирожок, отщипнула быстренько. Едва не подавилась, жуя, когда княгиня спросила:
– О чем сейчас Аскольд в гриднице речи ведет с боярами? Знаешь?
Милонега кивнула.
– Да что-то о вече толкуют. Я не разобрала, к вам поспешила.
– О вече? Дура! И ты не дослушала?
Милонега почувствовала себя обиженной. К чему слушать, если рано или поздно Аскольд сам все жене милой доложит? Она же поспешила… Неужели лучше, если бы князь застал распрекрасную Твердохлебу в сметане и телятине?
Твердохлеба крепко задумалась. Подперла тяжелой от перстней рукой щеку, повернулась к окну. Вече… Аскольд так повел правление, что веча почти не созывал. Довольствовался радой бояр и именитых людей Киева, слушал их, поддакивал их речам, но всегда убеждал поступить по-своему. Мудро он правил, что тут скажешь. И бояре довольны оставались, и народ не шумел лишний раз. А вече в Киеве так просто не созывалось. Киевляне – не то что новгородцы неспокойные, они не больно рвутся шуметь да глотки драть на сходках. Так, порой соберутся по дворам, пообсуждают дела градские, но все больше от праздности, для интереса, а не от гнева. Заботы у них иные: свой двор, свой торг, свое хозяйство. Каждый род киевский, каждая усадьба своим миром живут. Им работу делать нужно, доходы получать, жизнь свою поднимать любо, а не орать на вече. По сути, киевляне народ деловитый и спокойный. Но если они так обозлились, что о вече вспомнили… Твердохлебу это не устраивало. Вече умаляло власть князей, власть Аскольда, а с ним и власть самой Твердохлебы. А власть она любила. Хотя разве не она дала некогда клятву погубить обоих братьев? Но пока рано. Пока она не наладила связи с тем, кто, по ее мнению, был в силе их заменить. А таким человеком Твердохлеба считала только Рюрика Новгородского. И продумывала, как подобраться к нему, помощь свою предложить. Знала она, что у Рюрика уже есть жена, иноземка Эфандхильд, от которой он имел сына. Но и Рюрик, и Эфандхильд, и сын их были чуждым здесь племенем. Вот породниться бы Рюрику с древним славянским родом почитаемым… Аскольд эту выгоду сразу учел, когда ее, Твердохлебу, из-под своих похотливых дружинников вытаскивал. И Рюрик поймет, когда она ему Милонегу предложит, последнюю наследницу рода Кия, Щека и Хорива.
Княгиня повернулась к дочери. Та украдкой жевала пирожок, взгляд был отсутствующий, пустой. Ребенком она премиленькая была, но с годами… Нет, не дурнушка, но и не пригожа. Черты лица мелкие, невыразительные, в углу бледного ротика родинка, которая любую другую могла бы украсить, а у Милонеги словно кривила губы в некую робкую улыбочку. Глаза светлые, близорукие, отчего молодая княгиня часто моргает, щурится. Что же касается стати, то Твердохлебе дочь напоминала тех животных, которые останавливаются в росте, когда слишком рано произведут на свет детеныша. Да, не самая лакомая приманка ее дочь для сокола новгородского. Эх, будь она сама помоложе…
– Иди, Мила. Ты вовремя упредила меня. Я довольна.
Милонега вздрогнула. «Милой» мать ее давно не звала. С тех пор, как она из малюток вышла. А значит, мать расположена к ней. Может, стоит с ней поделиться? С кем же, как не с ней?
И молодая княгиня сползла к ногам матери, обхватила ее колени.
– Выслушай меня, сударыня родительница!
Она закинула лицо, мягкий капюшон пенулы сполз, открывая светлые, зачесанные на пробор волосы.
– Бьется мое сердечко ретивое, не дает покоя. Витязь один появился в Киеве. Кто, откуда – не ведаю. Да только куда ни пойду, везде его встречаю. Осторонь он держится, но глаз не отводит – глаз лазоревых, ласковых…
– Встань, Милонега. Веди себя княгиней, не бабой глупой.
Но Милонега только сжалась и вдруг заплакала тоненько, всхлипывая.
Страсть как раздражала она княгиню.
– Ты что же, бабьей хворобой тоскливой заболела? Уймись. Я ведь тебе такого…
Но осеклась. Рано еще дочь посвящать, надежду давать. Да и выгорит ли? Но неожиданно подумала, что бахвалистый Дир давно заслужил, чтобы ему жена рога наставила.
– Кто витязь твой? – уже более миролюбиво спросила Твердохлеба.
Дочь так и просияла.
– Пригож больно. Ликом на варяга более всего схож, но одет по-ромейски.
– Скорее всего, из наемников-варангов, что со службы царьградской возвращаются, – сразу определила княгиня. – И что же, так люб он тебе?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































