Текст книги "Право на жизнь. История смертной казни"
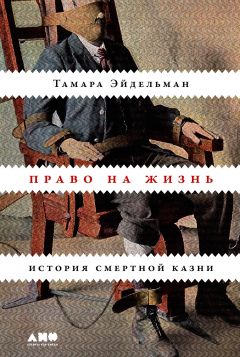
Автор книги: Тамара Эйдельман
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Глава 11
Культура против казни. Вместо послесловия
Философы, политики и взволнованные граждане могут спорить о том, нужна ли смертная казнь, и снова и снова выдвигать древние как мир аргументы. Но художники, поэты и писатели в этом вопросе почти единодушны. Много ли мы знаем картин, воспевающих смертную казнь и с удовлетворением показывающих, как убийца идет на виселицу?
А вот картин, изображающих казнь с сочувствием к казнимому, мировая культура знает бесчисленное множество. Подумаем хотя бы, сколько существует изображений дороги на Голгофу и распятия Христа – архетипической казни, которую часто вспоминают во всех спорах вокруг высшей меры. Сестра Элен Прежан попросила Патрика Сонье перед смертью смотреть на нее, сказав, что «мое лицо будет для тебя лицом Христа».
И Христос – далеко не единственный казненный, к которому художники испытывают сочувствие.
Сразу можно вспомнить «Утро стрелецкой казни» Сурикова, где непокоренный и несломленный стрелец вызывающе смотрит на восседающего на коне Петра, а пестрая, дикая – живая – толпа оплакивает тех, кому сейчас предстоит умереть, и даже солдат, ведущий одного из стрельцов на казнь в самом центре картины, как будто приобнял его.
«Третье мая 1808 года в Мадриде» – огромная картина Гойи, показывающая расстрел французами повстанцев, пытавшихся свергнуть власть Наполеона. Здесь тоже ясна позиция автора: у солдат, которые навели ружья на приговоренных, даже не видны лица, это как будто странная машина для убийства. Лица есть только у тех, кто сейчас умрет, и прежде всего в глаза бросается человек в белой рубахе – это единственное светлое пятно на холсте. Он поднял руки так, что сразу вызывает ассоциации с Христом. И хотя стоит на коленях, но возвышается над всеми.
Через полвека, в 1867 году, Эдуард Мане, на которого полотно Гойи произвело сильное впечатление, стал писать картину «Расстрел императора Максимилиана». Мане, как и Гойя, работал «на злобу дня». «Третье мая» было написано через шесть лет после подавления восстания, а Мане откликнулся на только что произошедшие события – казнь австрийского эрцгерцога Максимилиана, сделанного при усиленной поддержке Наполеона III императором Мексики. Революционеры свергли несчастного наивного правителя и, несмотря на просьбы, приходившие со всего мира, расстреляли его. Мане создал несколько вариантов картины, и в результате до сегодняшнего дня дошли эскиз, литография, этюд и три полотна, одно из которых было разрезано, возможно, самим художником. Во всех этих вариантах солдаты стоят спиной к зрителю, превращаясь, как и у Гойи, в безликую мрачную массу, а Максимилиан повернут к нам лицом, и его белая рубашка тоже символизирует невинную жертву.
Вспомним также репинский «Отказ от исповеди», где самой казни нет, зато есть смертник, не желающий каяться в своих грехах. И здесь то же противостояние – священник, лица которого почти не видно, и арестант. Приговоренный к смерти изображен в арестантском халате, сидящим на койке, застеленной чем-то темным, на темном фоне. И тем сильнее выделяются его лицо, грудь и краешек сияющей белизной рубахи. Белая полоска – не слишком реалистичная деталь при изображении заключенного – появилась здесь, конечно, не случайно.
Василий Верещагин, который побывал на многих войнах, упорно, на разном материале показывал бессмысленность и ужас убийства. Среди его работ есть и «Апофеоз войны» с горой черепов, и триптих «На Шипке все спокойно», где изображен замерзающий, засыпанный снегом часовой. Казни у Верещагина тоже показаны с огромным сочувствием к погибающим. В своем «Распятии на кресте у римлян» Христос и разбойники оказываются где-то на заднем плане, на переднем – недоумевающая, любопытствующая или ужасающаяся толпа, чем-то напоминающая «стрелецких женок» у Сурикова. Большую часть картины занимает стена – огромная, мощная, неприступная, глухая стена как символ государственной мощи, сминающей человеческие жизни. В общем-то, та же стена, которая у Гойи и Мане представлена в виде безликой массы расстреливающих.
Картина «Подавление индийского восстания англичанами» была продана на аукционе, и следы ее, увы, затерялись. Но на сохранившихся фотографиях видно, что и здесь солдаты, участвующие в казни, почти все показаны со спины, а вот привязанные к пушкам повстанцы, которых ядра вот-вот разорвут на части, повернуты в профиль к зрителю – и все в белоснежных, буквально сияющих одеждах.
Наверное, эти белые одеяния, в той или иной мере присутствующие на самых разных картинах, как-то связаны с реальным облачением смертников, но в то же время они создают устойчивую ассоциацию: в белые одежды в «Апокалипсисе» облекаются те, кто появился после снятия пятой печати, – «убиенные за слово Божие».
В верещагинской «Казни заговорщиков в России» сами пятеро народовольцев не видны, но использован все тот же прием – зрители и жандармы повернуты к нам спиной, они просто безликая толпа, стена, сила, уничтожающая людей, а на заднем плане, за снежной дымкой, которой, вообще-то, быть не должно, потому что казнь состоялась 3 апреля, – пять виселиц, превратившиеся в странные рамки для портретов или, может быть, порталы, через которые убитые люди уходят в бессмертие.
Странным образом вспоминается финал набоковского «Приглашения на казнь», когда Цинциннат Ц. вдруг в последний момент оказывается куда более реальным, чем все его сюрреалистические мучители.
Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.
Литература, живопись, кино, как мы знаем, совсем не чужды насилия, благородные разбойники и неуловимые мстители уже как минимум два века не сходят со страниц романов, сцены убийств дают возможность художникам использовать все возможные оттенки красного и показать невероятное разнообразие эмоций, а что уж говорить об экране, на котором для нас так привычны горы трупов, герои, отстреливающиеся из пистолетов с бесконечным количеством патронов, взрывы, грохот, выстрелы… Но казнь? Героя могут казнить – и это будет выглядеть как трагедия. Во множестве детективов Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и другие ловят преступников, которых ожидает виселица. Но часто ли нам ее показывают? Мы с увлечением следим за тем, как силы добра ведут борьбу с силами зла, но почему-то не слишком стремимся увидеть, чем завершается эта борьба, и удовлетворяемся сознанием того, что зло в очередной раз оказалось побеждено. Загадочное преступление раскрыто, убийца разоблачен, его уводят. Шерлок Холмс предлагает доктору Ватсону отправиться в оперу.
Одно из редких ярких описаний казни, не показанной с сочувствием к преступнику, есть… в «Графе Монте-Кристо». Наверное, можно сказать, что вся эта великая книга – о том, как человек сам казнит своих обидчиков. О связи казни и мести было сказано уже достаточно, и, конечно, Эдмон Дантес так и воспринимал свои действия: он взял правосудие в свои руки, потому что рассчитывать на справедливость власти не приходилось. Общаясь в Италии с двумя молодыми людьми, один из которых – сын его возлюбленной Мерседес и ненавистного графа де Морсера, Монте-Кристо сообщает Францу и Альберу, что «мало найдется таких казней», которых он не видел. Ясно, что за годы, прошедшие с момента бегства Эдмона Дантеса из замка Иф и до его появления в виде блистательного графа, он много путешествовал и внимательно изучал разные способы казни – обдумывал будущую месть. Монте-Кристо, как в реальной жизни отчим несчастной Фейс Хатауэй, не может примириться со слишком простой и быстрой казнью. «И я еще говорю о таком случае, – продолжал граф, – когда общество, потрясенное в самых основах убийством одного из своих членов, воздает смертью за смерть. Но существуют миллионы мук, разрывающих сердце человека, которыми общество пренебрегает и за которые оно не мстит даже тем неудовлетворительным способом, о котором мы только что говорили. Разве нет преступлений, достойных более страшных пыток, чем кол, на который сажают у турок, чем вытягивание жил, принятое у ирокезов, а между тем равнодушное общество оставляет их безнаказанными?..» Друзья являются в роскошную квартиру, выходящую окнами на место казни, граф уже объяснил им, что одного из преступников в последний момент помилуют. Так и происходит, и тогда второй приговоренный начинает буйствовать и требовать, чтобы первого тоже казнили, из-за чего Монте-Кристо разражается речью о подлости всего человеческого рода и после требует, чтобы друзья смотрели вместе с ним на ужасающее зрелище:
Франц отшатнулся; но граф снова схватил его за руку и держал у окна.
– Что с вами? – спросил он его. – Вам жаль его? Нечего сказать, уместная жалость! Если бы вы узнали, что под вашим окном бегает бешеная собака, вы схватили бы ружье, выскочили на улицу и без всякого сожаления застрелили бы в упор бедное животное, которое, в сущности, только тем и виновато, что его укусила другая бешеная собака и оно платит тем же, а тут вы жалеете человека, которого никто не кусал и который тем не менее убил своего благодетеля и теперь, когда он не может убивать, потому что у него связаны руки, исступленно требует смерти своего товарища по заключению, своего товарища по несчастью! Нет, смотрите, смотрите!..
Требование графа было почти излишне: Франц не мог оторвать глаз от страшного зрелища. Помощники палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря на его пинки, укусы и крики, принудили его стать на колени. Палач стал сбоку от него, держа палицу наготове; по его знаку помощники отошли. Осужденный хотел приподняться, но не успел: палица с глухим стуком ударила его по левому виску; Андреа повалился ничком, как бык, потом перевернулся на спину. Тогда палач бросил палицу, вытащил нож, одним ударом перерезал ему горло, стал ему на живот и начал топтать его ногами. При каждом нажиме ноги струя крови била из шеи казненного.
Франц не мог дольше выдержать; он бросился в глубь комнаты и почти без чувств упал в кресло.
Альбер, зажмурив глаза, вцепился в портьеру окна.
Граф стоял, высоко подняв голову, словно торжествующий гений зла[217]217
Здесь и далее пер. с франц. В. С. Вальдман, Д. Г. Лившиц и К. А. Ксаниной.
[Закрыть].
А дальше граф Монте-Кристо начинает свою долгую и прекрасно продуманную месть, за которой все мы хоть раз в жизни с восторгом и ужасом следили. Один за другим его обидчики попадают в расставленные им сети. При этом все устроено так хитро, что каждый из них в какой-то мере становится жертвой собственных преступлений. Монте-Кристо нашел в жизни каждого из них зловещие тайны, которые затем просто выпустил на свободу, и прошлое обрушивается на злодеев. Прекрасно воплощенный в жизнь принцип соразмерности преступления и наказания. Но в какой-то момент граф останавливается. Он довел до самоубийства графа де Морсера, уничтожил и свел с ума прокурора Вильфора, а дальше в его планы входило разорить и уморить голодом барона Данглара, которого он считал виновным в голодной и одинокой смерти своего отца. Но когда гнусная злодейка госпожа де Вильфор по требованию мужа кончает жизнь самоубийством и дает яд еще и своему маленькому сыну, граф понимает, что должен остановиться. Данглар, оказавшийся в пещере у разбойников, которые служат графу, вынужден отдавать все свои миллионы ради жалкой еды, и во время голодных галлюцинаций он видит старика, умирающего от голода, – это, конечно же, воспоминание о Дантесе-старшем. А затем наступает катарсис.
– Возьмите мое последнее золото, – пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, – и оставьте меня жить здесь, в этой пещере; я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь.
– Вы очень страдаете? – спросил Вампа.
– Да, я жестоко страдаю!
– А есть люди, которые страдали еще больше.
– Этого не может быть!
– Но это так! Те, кто умер с голоду.
Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке, на жалкой постели.
Он со стоном припал лбом к каменному полу.
– Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики.
– Вы раскаиваетесь? – спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом.
Своим ослабевшим зрением он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба.
– В чем я должен раскаяться? – едва внятно пробормотал Данглар.
– В содеянном зле, – сказал тот же голос.
– Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь! – воскликнул Данглар.
И он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой.
После этого Данглар оказывается прощен. Граф Монте-Кристо, который так долго и упорно готовил свою месть, отказался от нее, потому что понял, что зашел слишком далеко.
Вряд ли роман Дюма можно назвать художественным высказыванием, направленным против смертной казни, но то, что под конец Монте-Кристо ужаснулся содеянному, говорит о многом. Не забудем, что книга была написана в то время, когда романтическим злодеям многое прощалось, и поэтому особенно удивительно, что Эдмон Дантес под пером Дюма нашел в себе силы остановиться.
Чем сильнее накал гуманизма, чем больше вера в человека, тем сложнее принять саму возможность смертной казни. Не случайно столько ярких текстов против смертной казни было создано русской литературой. Те, кто «вышли из гоголевской "Шинели"», отказывались мириться с узаконенным убийством людей.
Толстой, на которого еще в 1857 году произвела такое страшное впечатление казнь в Париже, всю жизнь последовательно отвергал любые способы убийства человека человеком или человека государством и оставил невероятно яркие и сильные описания того, что происходит, когда у человека насильственно отнимают жизнь. Герой рассказа «После бала» видит, как отец его любимой девушки, к которому он испытывал только почтение и уважение, руководит наказанием солдата – того прогоняют сквозь строй. В России, где к смертной казни почти никогда не приговаривали, солдат обрекали на пять, десять, двенадцать тысяч «палочек», что во многих случаях оказывалось казнью – и мучительной. Описание экзекуции у Толстого чем-то напоминает картины Гойи и Мане: раннее утро, уже светло, но, наверное, еще предрассветные сумерки. Герой видит вдалеке что-то «большое, черное», оказывается, что это «солдаты в черных мундирах», которые стоят в два ряда. Вот только татарин, которого тащат сквозь строй, совсем не похож на расстреливаемого повстанца или императора Максимилиана, у него нет белой рубашки, он не стоит в красивой позе. Его тащат, и главное ощущение – полное расчеловечивание жертвы, которая уже напоминает странную марионетку: «Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад». А спина его представляла собой «что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека».
Но при этом Толстой не был бы Толстым, если бы не напоминал нам, что этот кусок мяса – все равно человек. У него «сморщенное от страдания лицо», и он, всхлипывая, повторяет: «Братцы, помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте».
Мы не знаем, что произошло с несчастным, выжил ли он, сколько тысяч шпицрутенов обрушилось на его спину, но на рассказчика все это произвело такое впечатление, что разрушило его любовь к милой Вареньке и изменило всю его жизнь.
И это мучительное ощущение неправильности, невозможности допускать узаконенное убийство, будет с Толстым всегда. Это касается не только казни. В знаменитом начале третьего тома «Войны и мира» говорится:
12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.
Еще страшнее, чем в «После бала», показано превращение казни в убийство в «Войне и мире», когда граф Ростопчин, московский генерал-губернатор, покидая город перед приближением французской армии, выдает толпе на растерзание Михаила Верещагина. Купеческий сын Михаил Верещагин действительно был арестован летом 1812 года и обвинен в том, что он не то написал, не то распространял французскую прокламацию. Сын Ростопчина после выхода «Войны и мира» пытался оправдать поступок отца и говорил, что Верещагин в любом случае был приговорен к смертной казни. Но это, во-первых, было не так – Верещагина приговорили к каторжным работам, а во-вторых, никто не приговаривал его к суду Линча. Толстой, всегда внимательно работавший с источниками, знал, что рассказы свидетелей расходились – сам Ростопчин утверждал позже, что просто приказал солдатам зарубить изменника, то есть вроде бы срочно провести казнь. Но несколько человек, присутствовавших при этом, подтверждали, что Верещагина растерзала толпа. Очень характерно, что Толстой взял из этих воспоминаний одну важную деталь: толпа набросилась на несчастного не сразу. Кто-то должен был сделать это первым. По одним воспоминаниям, Верещагина по приказанию Ростопчина ударил казак саблей, по другим – ординарец графа ударил его в лицо, по третьим – сам Ростопчин толкнул его в толпу. В любом случае кто-то начал, переступил черту, после чего началась расправа: «…вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы». Следующее за этим жуткое описание построено так, чтобы показать дикий, звериный характер происходящего. «Дикий крик», «ревущий народ», «хрипенье», люди в толпе «били и рвали Верещагина», «душили и рвали», масса «колыхалась» – перед нами безусловно противное человеческой природе событие.
Когда позже Пьер в уже захваченной французами Москве видит расстрел людей, которых обвинили в поджоге города, то оказывается, что солдаты, расстреливающие «поджигателей», испытывают настоящий ужас. Они испуганные, бледные, «у одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть», «молодой солдат с мертвенно-бледным лицом» шатался как пьяный, и Пьер осознал невероятно важную и для него, и для Толстого вещь: «Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления».
Толстой очень любил подводить многочисленные рациональные обоснования под свои убеждения. Это видно в его поздних работах, где он подробно, как будто загибая пальцы, подсчитывает, почему ненасилие лучше насилия, почему правильнее не подчиняться преступным приказам, – и перечисляет, каковы будут выгоды и невыгоды различных поступков. Но даже в одном из своих последних произведений, знаменитом публицистическом выкрике «Не могу молчать» Толстой начинает с того, что просто описывает казнь. И здесь, в работе 80-летнего писателя, который к тому времени уже пришел к отрицанию своего предыдущего творчества, все равно самым ярким доводом против казни становится это вымышленное, вымученное, воображенное им преступление:
Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, – двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи – их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, – разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли.
И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности…
…Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.
Главный аргумент, высказанный русской (и не только русской) литературой против казни, можно выразить словами князя Мышкина: «Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?.. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!»
Через 100 лет Камю в своих «Размышлениях о гильотине» будет приводить много рациональных доводов, говорить о том, что смертная казнь не может никому служить уроком, что нет никаких доказательств того, что угроза ее остановила хоть одного преступника, что смертная казнь «является отвратительным примером, последствия которого непредсказуемы», то есть она развращает общество. А потом в какой-то момент как будто забудет о том, что он пишет не художественную прозу, а публицистическое произведение – и, как Толстой в «Не могу молчать», вдруг отбросит все логические аргументы и разрешит себе высказаться как художнику:
Вместо того, чтобы туманно напоминать о долге, который в это самое утро кто-то возвратил обществу, не стоило ли бы воспользоваться подходящим случаем, расписав перед каждым налогоплательщиком подробности той кары, которая может ожидать и его? Вместо того, чтобы твердить «Если вы совершите убийство, вас ждет эшафот», не лучше ли сказать ему без обиняков: «Если вы совершите убийство, вам придется провести в тюрьме долгие месяцы, а то и годы, терзаясь то недостижимой надеждой, то непрестанным ужасом, и так – вплоть до того утра, когда мы на цыпочках проберемся к вам в камеру, чтобы схватить вас во сне, наконец-то сморившем вас, после полной кошмаров ночи. Мы набросимся на вас, заломим вам руки за спину, отрежем ножницами ворот рубахи, а заодно и волосы, если в том будет необходимость. Мы скрутим вам локти ремнем, чтобы вы не могли распрямиться и чтобы затылок ваш был на виду, а потом двое подручных волоком потащат вас по коридорам. И, наконец, оказавшись под темным ночным небом, один из палачей ухватит вас сзади за штаны и швырнет на помост гильотины, второй подправит голову прямо в лунку, а третий обрушит на вас с высоты двух метров двадцати сантиметров резак весом в шестьдесят кило – и он бритвой рассечет вашу шею».
Как раз прочитав Камю, сестра Элен Прежан, неоднократно ссылающаяся на него в своей книге, стала говорить о том, что лучше сделать казни публичными – и тогда отвращение к происходящему поможет отказаться от них.
Примерно в те же годы, когда Толстой работал над «Войной и миром», другой писатель, уже воспринимавшийся как патриарх, – Виктор Гюго – работал над романом, в развязке сюжета которого одного из главных героев казнят. Гюго, вечный защитник милосердия и любви, писатель, чьи романы очень внимательно читали и Достоевский, и Толстой и многое заимствовали у него, всю жизнь был пылким противником смертной казни. Вернее, не так. Гюго был всю жизнь защитником человека и поэтому написал «Последний день приговоренного к смерти», а в «Отверженных» рассказал о том, как любовь спасает каторжника Жана Вальжана. Для Гюго человеческая жизнь была важна в любых обстоятельствах – и в подземных тоннелях под Парижем, по которым Жан Вальжан несет раненого Мариуса, возлюбленного Козетты, и в соборе Парижской Богоматери, где Квазимодо борется с толпой, жаждущей убить «колдунью» Эсмеральду, на баррикадах и на улицах, в судах и на каторге. Епископ Бьенвеню – единственный, кто пожалел затравленного каторжника и не выдал его полиции, – стал человеком, превратившим озлобленного Жана Вальжана в воплощение милосердия. А инспектор Жавер, холодно и неумолимо преследовавший его в течение многих лет, не принимавший во внимание ни возможность перерождения бывшего каторжника, ни все то добро, которое тот успел сделать на посту мэра города, не знавший снисхождения и милосердия, в конце концов оказался так потрясен душевным величием своего врага, что отпустил его, переступив через основу всей своей жизни и характера – веру в справедливость суровых законов, и покончил с собой, не выдержав того, что мы сегодня назвали бы психологической сшибкой.
Действие «Девяносто третьего года» происходит во Франции в эпоху Великой французской революции, когда король уже казнен и большая часть страны охвачена жестокой гражданской войной. Персонажи романа, как всегда у Гюго, яркие романтические герои, они совершают невероятные подвиги, проявляя сверхчеловеческий героизм – или нечеловеческую жестокость. Но в этих, в общем-то, фантастических обстоятельствах Гюго упорно проводит свою линию – ту мысль, которую почти через 100 лет Булгаков вложит в уста самого Сатаны: «Я о милосердии говорю, – объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. – Иногда совершенно неожиданно и коварно оно проникает в самые узенькие щелки».
Жестокий маркиз де Лантенак, без малейшего содрогания отдававший приказы о расстреле не только революционеров, но и мирных жителей, женщин, стариков, оказывается осажден в своем родовом замке, где заложниками становятся попавшие в его руки дети Мишель Флешар, которую он, не дрогнув, за некоторое время до этого приказал казнить. Осажденным удается бежать через потайной ход, но маркиз возвращается в охваченный пожаром замок, чтобы спасти детей, – и попадает в плен к революционерам. Когда же выясняется, что кровавый Лантенак добровольно вернулся за детьми, его вечный антагонист Говен – бесстрашный и вдохновенный борец за революцию, дает ему возможность бежать и спасает таким образом от смертной казни. Для него Лантенак, пожалевший детей, стал уже другим человеком. Революционный трибунал приговаривает самого Говена к казни – двумя голосами против одного. Все это разворачивается на фоне ужасающих, сегодня, наверное, кажущихся излишне напыщенными страстей – солдаты падают в обморок, видя, что их любимый командир обречен на смерть. Суровый Симурден, сам проголосовавший за смерть своего воспитанника, которого он любит как сына, исполняет свой долг, но после этого кончает жизнь самоубийством, не выдержав случившегося, – своеобразная вывернутая наизнанку отсылка к самоубийству инспектора Жавера.
Да ладно, скажем мы сегодня. Не надо так нагнетать обстановку. ХХ век знает смертные приговоры, вынесенные сыновьями отцам, в «Артек» свозили десятки детей, «повторивших подвиг» Павлика Морозова и обрекших своих родителей в лучшем случае на лагерь, а возможно, и на расстрел, брат шел на брата, и мало кто думал о детях, погибавших от голода, тифа, пуль, бомбежек. На этом фоне, быть может, излишне высокопарный, склонный к очень уж длинным описаниям, восторженный Гюго кажется устаревшим. Но все его книги полны того же чувства, которое владело им в 1848 году в Учредительном собрании, когда он восклицал, что человек не может брать на себя «безвозвратное, непоправимое, нерасторжимое».
И почему-то оказывается, что слегка устаревший, превратившийся в писателя «для юношества», описывающий выдуманные романтические ситуации Гюго во всех своих книгах рассказывает об одной из самых важных коллизий в мире – о столкновении милосердия и сурового человеческого правосудия.
Через сто с лишним лет после публикации «Отверженных» и «Девяносто третьего года», в 1973 году, на экраны Франции, а потом и всего мира вышел фильм «Двое в городе». Он был снят в тот момент, когда Франция погрузилась в бурные дискуссии о необходимости – или ненужности – отмены смертной казни из-за вполне реальной, а не кинематографической истории.
Роже Бонтан был военным, служил в Алжире во время мрачной колониальной войны, что наверняка наложило на него свой отпечаток. Позже он стал водопроводчиком, попал в аварию, сильно болел, пил, совершил несколько преступлений, за которые попадал в тюрьму, в 1962 году угнал такси, тяжело ранив водителя, попытался ограбить бистро и в 1965 году оказался приговорен в 20-летнему заключению. Несколько раз он безуспешно пытался бежать из тюрьмы и наконец разработал новый план вместе со своим сокамерником Клодом Бюфе, приговоренным к пожизненному заключению. 21 сентября 1971 года Бонтан и Бюфе пожаловались на боль в животе, и их повели к врачу. Подойдя к медицинскому кабинету, они сумели оттолкнуть охранников, вытащили изготовленные заранее ножи и захватили трех заложников – 25-летнего охранника, 35-летнюю медсестру, мать двоих детей, и заключенного, работавшего в медицинском кабинете. Последнего они отпустили, а двух остальных удерживали почти сутки, пока 22 сентября в 3:45 утра в помещение не ворвалась охрана, сбившая преступников с ног мощными струями воды. Увы, заложники в этот момент уже лежали на полу в луже крови – Клод Бюфе перерезал им горло.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































