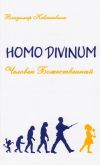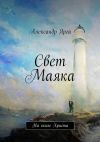Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
«– Ну, а действительно-то гениальные, – нахмурясь, спросил Разумихин, – вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и не должны страдать совсем, даже за кровь пролитую?
– Зачем тут слово должны, – возражает Раскольников, – тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдают, если жаль жертву… Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца… Истинно-великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть, – прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора»[255]255
«Мы уже видели на лице того, кому подражает Раскольников, на кого он и наружностью похож так же, как пушкинский Герман, на странно-неподвижном лице Наполеона, в глазах его, будто “устремленных вдаль все на одну и ту же точку”, печать этой “великой грусти” – не раскаяния, не угрызения, не скорби, а именно только грусти: как будто увидел он то, чего не следует видеть глазам человеческим, какую-то последнюю тайну мира, и с той поры уже не сходит с лица его эта грусть, эта тень, даже в самых ослепительных лучах славы и счастья» (Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. С. 194). «Век двадцатый воплощает гениальные идеи / Относительно и время, и космическая даль, / Но печальны абсолютно все великие злодеи, / Убиваемые мысли, убивающая сталь» (А. Дольский).
[Закрыть].
Наполеоновские войны унесли жизни сотен тысяч людей, и в ХХ в. Бонапарта судили бы как военного преступника. В глазах многих он был чудовищем, демоном, «крошечным мерзавцем» (Л. Толстой). Но Наполеон своей жизнью и своей смертью начал переоценку всех ценностей и позволил заглянуть «по ту сторону добра и зла». Он не потушил искру Великой революции, а перебросил ее на всю Европу. После его войн стал уже невозможен прежний мир, после его реформ стали постепенно вызревать идеи невозможности прежнего хозяйствования и администрирования. Личность Наполеона оказала огромное влияние и на культуру, например, породила в литературе «людей рока»: Чайльд Гарольда, Онегина, Печорина, Ивана Карамазова. Видимо, она же способствовала живучести представлений о темной силе, «всегда хотевшей зла, творившей лишь благое». Наполеон – сверхчеловек, Антихрист, темная сила, сподвижник Мефистофеля и Воланда. Так что его, несомненно, можно назвать сверхъестественным человеком, сложным, противоречивым и трагическим существом, каким он только и может быть.
В ХХ в. сущность и значение сверхчеловека значительно изменились. В обществе массовой культуры к власти часто приходят представители массы – малокультурные, малообразованные. Вернее, не приходят, а пробиваются наверх, проявляя недюжинную волю, фантастическую энергию и даже гениальность – в том смысле, в каком Троцкий назвал Сталина «гениальной посредственностью». Можно сказать, что к власти приходят «маленькие люди» – маленькие по масштабу личности, типичные серые представители серой массы. Они плоть от плоти этой массы, они ей ближе, родней и понятнее, чем высоколобые, яркие, оригинальные умники с их глобальными идеями. Они очень простые и все вокруг опрощают и упрощают соответственно своему уровню: политику, философию, литературу. Ленин – простой, обычный человек. Такой же простой была его жена Н. Крупская[256]256
Например, в 1924 г. появилась наиболее полная инструкция по «пересмотру книжного состава библиотек», подписанная председателем ГПП Н. Крупской. Изъятия, произведенные по этой инструкции, привели к катастрофическому оскудению библиотечных фондов, сократившихся в среднем на 50 процентов. Например, Московская областная библиотека организовала «помощь» библиотекам по составлению списков для изъятия. Из художественной литературы в них значились полные собрания сочинений Л. Андреева, Белого, Бунина, Брюсова, Гамсуна, Гарина-Михайловского, Гауптмана, Гюго, Гофмана, Додэ, Жеромского, Жироду, Диккенса, Лескова, Ростана, Соболя, Уайльда, Фета, Г. Манна, Метерлинка. А уже «на местах» с книжных полок исчезли Лонгфелло, Де Костер, Флобер, Шиллер (см.: Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. С. 173).
[Закрыть]. И как в типичном представителе массы в каждом из них живет зависть и ненависть ко всему яркому, талантливому, ко всему, что нельзя разделить поровну и, следовательно, нужно уничтожить. «Мало мы еще стреляем профессоров», – говорил Ленин в одном из своих выступлений, имея в виду некоторых ученых, не принявших советскую власть. Сталин же «имел в виду» всех профессоров, и никто не может его упрекнуть в том, что он мало их уничтожил[257]257
«Век ушёл. В огне его и блуде / Яркая особенность была: / Всюду вышли маленькие люди / На большие мокрые дела» (Г. Губерман).
[Закрыть].
Ныне одни считают Сталина великой личностью, другие – великим злодеем. Противоречие содержится в самом понятии «великий злодей». Великие дела, созданные во имя Великой идеи, оправдывают любые преступления. Хладнокровному убийце миллионов можно найти тысячи оправданий. Этим и занималось огромное количество прокоммунистических литераторов и политиков. Этим часто грешит и любая власть, исподволь воспитывая в народе тоску по Хозяину, по сильной руке, который хоть и нарушает законы, но является настоящим «отцом народа».
Все эти «гениальные посредственности» – Сталин, Гитлер, Муссолини, Саддам Хусейн, Ким Ир Сен и другие, разумеется, люди незаурядные, обладающие часто мощной харизмой, огромной сверхчеловеческой энергией, но они прежде всего выражают собой природное, «звериное» начало. Они представители того Зверя, который, как предвещал в своем Откровении св. Иоанн, в самом конце мира, перед вторым пришествием «выйдет из бездны»[258]258
«И дивилась вся земля, следя за Зверем. И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И отверз он уста для хулы на Бога. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их; и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И творит он великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» (Апокалипсис. Откровение Иоанна).
[Закрыть].
И есть же какая-то неисчерпанная сила у этого Зверя, ежели дано ему, как Антихристу, восстать на Христа и сразиться с Тем, Кто «победил мир». Есть же какая-то страшная, неоткрывшаяся мудрость и знание у этого Зверя. Он знает что-то, чего не дано знать человеку, что человек уже забыл и никак не может вспомнить, какое-то ночное зрение, ясновидение, которое мы называем «чутьем зверя», инстинктом. Зверь в человеке уснул; но, может быть, он когда-нибудь проснется, может быть, действительно, предстоит еще последний поединок человека со Зверем, Богочеловека с Богом-Зверем[259]259
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. С. 322.
[Закрыть]?
Результат этого поединка никто не может предсказать, никто не может дать гарантии, что не произойдет жуткой метаморфозы – все звериное станет божественным. Все великое связано с жуткими образами, с мистическими видениями, в которых как будто прорывается к нам страшная нечеловеческая сила, которая может и погубить человека, и поднять его на небывалую высоту.
Часто личность монарха, диктатора, полководца окружается мифами, легендами, всевозможными рассказами об их необыкновенных способностях, мистической силе – начиная от излечения золотухи путем наложения рук и кончая способностью слышать внутренний божественный голос или разговаривать со звездами. Почти все харизматические личности прибегали к мистическим аргументам для доказательства своей исключительности. Не к логике, а к мифологическим архетипам, к древним, давно забытым верованиям, культу предков. Подобное погружение в истоки бессознательной жизни, в «психическую преисподнюю» вообще свойственно всем выдающимся личностям – от кровавого тирана до великого поэта. И тем и другим нужны такие ошеломляющие аргументы, которых нельзя найти в примерах повседневной жизни, в логике, за которыми можно только «нырнуть» в бездну бессознательной жизни, только ощутив в себе и пережив действие древних архетипов. Здесь и Лютер, поносящий дьявола и швыряющий в него чернильницей, и Гитлер (да простят нам такое близкое сопоставление), верящий, что в мире борются два мифа: семитский и арийский.
Психический материал, с которым имеют дело мистики или мистически настроенные люди, не имеет в себе ничего, что было бы привычным. Он как бы происходит из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, состоит из неких первопереживаний, перед лицом которых человеческая природа бессильна и беспомощна. С одной стороны, это переживание весьма двусмысленного, демонически-гротескного свойства, оно ничего не оставляет от человеческих ценностей и стройных форм – какой-то жуткий клубок извечного хаоса; с другой, как считал К. Юнг, перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить. «Потрясающее зрелище мощного явления повсюду выходит за пределы человеческого восприятия и, разумеется, предъявляет художественному творчеству иные требования, нежели переживания переднего плана… переживание второго рода снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно, в состояние помраченного духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность не рожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием»[260]260
Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 130.
[Закрыть].
Ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука – взамен оживают сновидения, ночные страхи и жуткие предчувствия темных уголков души. Как правило, глубинный смысл таких произведений сосредоточен в мифологическом материале и в выразившем себя через них изначальном видении.
Мы только воображаем, полагал Юнг, что наши души находятся в нашем обладании и управлении, а в действительности то, что наука именует психикой и представляет себе как заключенный в черепную коробку знак вопроса, есть, в конечном счете, открытая дверь, через которую из нечеловеческого мира время от времени входит нечто неизвестное и непостижимое по своему действию.
Этот нечеловеческий мир был давно известен людям.
Для дикаря он составлял часть его общей картины мира, а современные люди из-за отвращения перед суеверием и страха перед метафизикой исключили его, чтобы построить прочный и сподручный мир сознания. Лишь поэты, ясновидцы и пророки время от времени видят образы ночного мира, духов, демонов и богов, тайное переплетение человеческой судьбы со сверхчеловеческим умыслом.
Звериная, дьявольская, сверхчеловеческая основа психической жизни, подспудно свойственная всем людям, выступает наружу в деяниях и писаниях необыкновенных личностей, не только царей и полководцев, но и великих художников. Показательна в этом отношении фигура Н. Гоголя, до сих пор не разгаданного гения русской литературы. «Но, делая скидку на “гения”, на “творческую натуру”, следует признать, что Гоголь своими странностями превосходил остальных, известных в этом роде поэтов. “Нечеловеческое” в нем проявлялось чуть ли не на всяком шагу, причем в каком-то греховном, омерзительном и темном растворе, как если бы сама сердцевина души была у него “не наша”. Все-таки странно: Пушкин, распутный, скандальный, почти животный, – внутри светел; Гоголь – постный, богомольный, целомудренный, добродетельный – внутри темен – не то что темен, – черен, чернее его трудно сыскать человека. Уже в лице его проступает эта идущая снизу, сгущающаяся в глубину, к недрам души, темнота. Пока он еще писал, смеялся, чертыхался, это не было так разительно, но едва он заглох и притих, перейдя на душевную пользу и законное благочестие, нутряная тьма так и поперла из него, словно добро и молитва, творимые им, вменялись ему в грех и шли во вред душе, почерневшей, как иссохший колодец. Измерить тот колодец на всю глубину нет ни средств, ни способностей. Гоголь, я уверен, как пани Катерина в “Страшной мести”, не знал и десятой доли того, что знала его душа. Но это огромное, подспудное знание давило его и подавало весть о себе. Оттуда слышались его вопли, его муки и ужасы. Как будто давным-давно, может быть еще до рождения, он совершил тяжелейший грех на земле и потом уже целую жизнь не мог его замолить. Не об этом ли гласит “Завещание”? “Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!”»[261]261
Терц А. В тени Гоголя. М., 2003. С. 204–205.
[Закрыть].
Подобным же образом черт Ивана Карамазова – одно из самых загадочных созданий Достоевского, уходящее корнями в последнюю глубину его сознания и его бессознательного. Недаром же устами черта высказывает он свои собственные, самые заветные мысли. О сущности своей говорит черт почти теми же словами, как и сам Достоевский о сущности собственного художественного творчества, о первом источнике, о той рождающей силе, из которой возникли все его произведения. «Я ужасно люблю реализм – реализм, так сказать, доходящий до фантастического. То, что большинство называет фантастическим, то для меня иногда составляет самую сущность действительного», – говорит Достоевский. И черт в «Братьях Карамазовых» утверждает, что он страдает от фантастического и любит реализм, поскольку там все очерчено – тут формула, тут геометрия, а у нас, говорит он, все какие-то неопределенные уравнения. «Моя мечта – это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую, семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит»[262]262
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1991. Ч. III–IV. С. 365.
[Закрыть].
Это не черт, это сам Достоевский хочет спрятаться за реализмом, тоскуя по утраченному здоровью, нарушенному равновесию духа и плоти, чтобы отдохнуть от себя самого, от своей страшной истинной нечеловеческой сущности. И Смердяков – явное проявление нечистой силы, и Чичиков у Гоголя тоже черт[263]263
«Чичиков, в самом деле, имеет признаки беса, но таковыми далеко не исчерпывается, и самые улики, рассеянные по тексту, на эту тему могут быть повернуты несколько по-иному. Скажем, привлекшая, помнится, внимание Мережковского ножка, которой он ловко подшаркивает направо и налево, “в виде коротенького хвостика или наподобие запятой”, служа принадлежностью черта, способна при известной доле воображения сойти и за признак подземных, змееногих богов и героев (вроде Эрихтония), что не исключает, естественно, бесовской змееногой природы» (Терц А. Указ. соч. С. 314).
[Закрыть], и Хлестаков черт[264]264
«Идеальный демонический персонаж Гоголя – это, конечно, не черт ранних повестей, не мистические и патологические “старики-колдуны”, а Хлестаков. Идеальный образ чертовщины. Идеальный минус-герой, с прекрасной демонической родословной: и самозванец, и мим, и враль, и мистификатор, и, притом, неизвестно как наводящий такую мороку и порчу на жителей провинциального городка, что прийти в чувство, да и то странным образом, они смогли лишь в последнем акте пьесы. Естественно, Чичиков – это черт уже более умудренный, прагматичный и в какой-то мере более ловкий, пугающий провинциальное общество раздутым, неимоверным образом “блистательного комильфо”, “миллионщика”, “похитителя невест” и даже “Наполеона”»… (Подорога В. Мимесис. М., 2006. Т. 1. С. 189–190).
[Закрыть], и в то же время они самые живые люди в гоголевском пантеоне. И Во-ланд у Булгакова гораздо симпатичнее многих борцов за счастье людей. И все-таки эта темная сторона человеческой души, которая безобидна до поры до времени, может вырваться с такой силой, что переродит человека, превратит его в зверя. Не в животное, каким в большей своей части является естественный человек, а в искушенного, умного, проницательного и безжалостного зверя.
Мы неизбежно приходим к зверскому началу, если берем отправным пунктом не духовную человеческую природу, а физическое или психическое ее основание, не богочеловеческое, а человекобожеское начало. Начиная с эпохи Ренессанса и вплоть до нашего времени европейская духовная жизнь, считал Франк, протекала под знаком ожесточенной, смертельной вражды между двумя верами – верой в Бога и верой в человека. Со времени Ренессанса просветителям и гуманистам вера в Бога казалась неоправданной и духовно гибельной верой в начало, порабощающее человека, препятствующее его самоопределению и свободному творчеству, к которому он призван по своей собственной природе. Назначение человека в том, чтобы быть самодержавным хозяином своей собственной жизни и верховным властителем мира. Человек осознал себя земным богом. Утратив сознание Бога, человек заменил нераздельное двуединство своего богочеловеческого, боготварного существа какой-то смутной мешаниной обоих начал.
Безрелигиозный, плоско-рационалистический гуманизм выдвигает, как правило, голословные оптимистические лозунги типа «человек добр по своей природе», т. е. осуществление нравственных ценностей совпадает с удовлетворением субъективных природных влечений. Но как быть, если стремление к добру и стремление к удовлетворению земных желаний, жажда власти и безграничной свободы не совпадают? Вера во всемогущество человека, в его доброе по природе естество была поколеблена еще в прошлые века. Первый удар был нанесен ей Французской революцией, когда царство свободы, равенства и братства быстро превратилось в царство разъяренной кровожадной черни. Еще более убедительное обличение несостоятельности этой веры принесло наше время, когда под тонкой оболочкой просвещенного европейца обнаруживается неукрощенная звериная природа, демонические силы садизма и отвержения элементарных начал нравственности.
Века воспитания, просвещения не создали для подавляющего большинства людей никакого нравственного иммунитета. И по-прежнему можно, как писал Достоевский, «поскрести современного интеллигента, и выглянет звериная морда». А обожествление этой морды приводит к тому, что сам бог приобретает зверские черты.
В предсмертном бреду или видении Ипполиту, одному из героев «Идиота», является Бог-Зверь под видом огромного и отвратительного насекомого: «Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее». Достоевский изображает его с такою же страшной, наглядной, почти геометрической точностью, как описываются видения Апокалипсиса, и вместе с тем чувствует, «что в звере этом заключается какая-то тайна».
Бог-Зверь, Бог-тарантул или паук преследовал всех героев Достоевского – от Свидригайлова до Федора Павловича Карамазова и, видимо, не давал покоя самому Достоевскому, мучил и преследовал его всю жизнь, как будто для него самого в этом образе заключалось что-то роковое. И если посмотреть на лица великих тиранов и преступников ХХ – XXI вв., действительно в них проступает что-то паучье, что-то откровенно нечеловеческое, словно какая-то сила рвется через них к нам, в наш мир, пытаясь установить в нем свой порядок. Наблюдая этот парад лиц, поневоле начинаешь проникаться мистическими мыслями о последней битве, царстве сатаны и т. д. Конечно, в рябом, простоватом лице Сталина (не на портретах, а на фотографиях) ничего ужасного нет, но, видимо, в нем каким-то образом отражается его черная душа и воплощаются наши знания о тех преступлениях, что он совершил. Видимо, у всех, направивших свою огромную энергию и волю не на благое дело, совершивших в этом смысле сделку с дьяволом, проступает эта печать глубинного животного страха и злобы на весь мир.
Как перестать быть человеком?
Человек не последнее звено в цепи космического развития: так же как человек произошел в результате превращения животных видов, новое существо, считал Ф. Ницше, возникнет в результате превращения человеческих, культурно-исторических видов. Это новое существо, «новая тварь» – сверхчеловек.
Стать сверхчеловеком можно, только изжив из себя человека, пройти через болезнь, смерть, неслыханные страдания. Только великая боль, считал Ницше, – последний освободитель духа, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах. Эта боль не торопится и заставляет человека спуститься в последние глубины, отбросить от себя все доверчивое, добродушное, мягкое, непосредственное, в чем, быть может, он сам прежде полагал свою человечность. «Только великая боль приводит дух к последней свободе; только она позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа, – и тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе: “Я знаю о жизни больше потому, что так часто бывал на границе смерти”»[265]265
Цит. по: Цвейг С. Ф. Ницше. Таллин, 1990. С. 90.
[Закрыть].
Ницше, подобно «идиоту» Достоевского, находит в боли, в болезни своей «минуты вечной гармонии», источник «высшего бытия»; в смерти человеческого находит первые молнии, проблески сверхчеловеческого. «Человек есть то, что надо преодолеть», – говорит Заратустра. Только преодолев, умертвив и в духе и плоти своей все «человеческое, слишком человеческое», сбросив плоть «ветхого человека» со звериною, змеиною мудростью, как старую, мертвую кожу, может человек достигнуть божеского существа, для которого – «новое небо и новая земля»; только умерев, истлев, может он воскреснуть в нетлении.
Основная мысль культуры, полагал Ницше, «содействовать созиданию философа, художника и святого в нас и вне нас и тем трудиться над совершенствованием природы. Ибо как природа нуждается в философе, так она нуждается и в художнике – для метафизической цели, именно для своего собственного самоуяснения, для того, чтобы иметь, наконец, чистый и законченный образ того, что ей никогда не удается отчетливо рассмотреть в беспокойном процессе своего становления, т. е. для своего самопознания»[266]266
Ницше Ф. Несвоевременные размышления // Ницше Ф. Избр. произв.: В 3 т. Т. 2. С. 43.
[Закрыть].
Человек тогда и становится человеком в подлинном смысле слова, когда погибает как человек в стремлении стать сверхчеловеком – философом, художником или святым. Когда стремишься к невозможному, тогда, по крайней мере, достигаешь чего-то определенного – например, становишься на истинный путь, ведущий к сверхчеловеку. Человек всегда должен брать на себя непосильные задачи, на выполнение которых заведомо не хватит жизни. Только в этом случае человек отвечает своему предназначению – быть всегда больше, чем ты есть. Поэтому он никогда не фиксируется в конкретных рамках, он постоянно впереди или выше себя. Для этого, как думается, и существует символ бессмертной души: когда-нибудь мне удастся завершить то, на что не хватило жизни.
Понимание необходимости смерти облегчается для нас тем, что нас скорее нет, чем мы есть, что мы можем приблизиться к постижению собственной природы тем более, чем менее являемся людьми, помещенными в мир, живущими в отведенный им отрезок времени, обреченными в силу хрупкости своего тела на всевозможные болезни и страдания, страсти и нервные расстройства, стремящимися скрасить свою жизнь всевозможными удовольствиями или хотя бы убить время. В полной мере есть только Бог, а мы живем только в редкие, счастливые минуты жизни – когда любим, когда творим, когда нам в голову приходит мысль. То есть когда находимся в чистой стихии человечности. Мы становимся живыми тем более, чем более пытаемся освободиться от всех спецификаций, на которые обречен человек, ибо любое отличие, любая спецификация омертвляет. Но человек не может жить без спецификаций, без конкретных дел и забот, не может жить как чистый дух. Поскольку он всегда является кем-то, то основное, осознанное или неосознанное, стремление человека – перестать быть человеком, быть чистым духом, трансцендентальным сознанием[267]267
«Эмпирическое сознание, изучаемое психологами, – писал Э. Гуссерль, – никоим образом не захватывает оригинальности и первого волнения жизни. Первоначальное волнение жизни дано нам в очевидности cogito. Но чистое cogito, трансцендентальное сознание – это результат эпохэ, очищения эмпирического сознания от всех натуралистических утверждений, это метафора, которую мы постоянно пытаемся осуществить и, осуществляя, чувствуем, что живем, что являемся незаместимой частью этого мира» (Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1996. С. 86).
[Закрыть].
Но чаще всего это совершенно невозможно. Человек никогда не может себя опредметить, выразить до конца в своих делах и поступках, в нем всегда есть много незавершенного, непроявленного. Он – существо трансцендирующее, постоянно переступающее самого себя, свои положенные им самим или кем-то границы. Человек может сказать про себя: «Я состоялся как врач», «Я состоялся как учитель», но никто не может сказать о себе: «Я состоялся как человек». Никто, кроме сверхчеловека. Потому что он «просто человек». Но быть просто человеком – фантастически сложная задача. Это, прежде всего, значит быть обыкновенным, не замутненным никакими исключительными отклонениями. Все стремятся к исключительности, к тому, чтобы быть лучше других, больше знать, больше уметь, все чувствуют себя такими сложными и многогранными, что быть просто человеком, вероятно, может только гений. «Под посредственностью, – писал Б.Л. Пастернак, – мы обычно понимаем людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные…»[268]268
Вознесенский А.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 437.
[Закрыть]
Сверхчеловека не определяют ни профессия, ни должность, потому что он не находится в этом мире, который для него умер. И про каждую подобную личность можно сказать словами Г. Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал».
Мы становимся живыми, когда умираем. «Я начал жить, – писал Ж.-Ж. Руссо в «Исповеди», – лишь когда счел себя уже мертвым». Перестать быть человеком – значит приостановить в себе автоматическую работу природных механизмов.
Автор «Заратустры» обращается к тем, кто захочет преодолеть в себе слабости человеческой природы, все «слишком человеческое». Ведь в его системе представлений любить себя – значит жаждать гибели всего серого, стадного и посредственного внутри себя. И хотя творить сверх себя – также значит гибнуть, нужно принять эту благородную гибель во имя прихода Сверхчеловека. Ведь человек как он есть (вырождающийся, гнущийся под грузом многовековых ценностей) должен сгореть на алтаре Сверхчеловека. Эта суровая истина непонятна толпе. Мыслители мужественные, одинокие, вещающие правду о человеке, жертвуют собой, чтобы стать мостом к Сверхчеловеку. Они первенцы, с них начинается путь. «Но самый опасный враг, который может повстречаться тебе, – это ты: ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах. Одинокий, ты на пути к самому себе! И на этом пути ты минуешь самого себя и пройдешь мимо семи своих искусителей!.. Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени: как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел!»[269]269
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 46.
[Закрыть]
Чтобы достигнуть такого состояния, мы должны дистанцироваться от своего эмпирического существования, оторваться от него. Для человека такое отречение подобно самоумерщвлению. Прежде всего мы должны отказаться от эгоизма, от своего Я, перестать держаться за жизнь и трепетно оберегать ее. Достигнув такого сознания, мы, собственно, перестаем и существовать: тяжелая ноша – наше Я – сброшено с плеч; познание еще существует, но без центра, следовательно, без формы круга, т. е. внешний мир еще есть, но без Я. «То, чему на свете подходит название достоинство человека, начинается только там, где человек отвергает свою природу, например не ценит жизни превыше всего другого, не заботится главным образом о субъективном удовлетворении потребностей, а направляет свое внимание на нечто объективное и, к примеру, таким путем превращает половое влечение в страстную любовь к одному лицу…»[270]270
Шопенгауэр А. Новые Paralipomena // Шопенгауэр А. Соч. Т. 6. М., 2001. С. 141–142.
[Закрыть]
Жить в атмосфере бескорыстной любви, забыв о своих капризах, притязаниях, гордыни, о своем эгоизме и желании во что бы то ни стало продолжать жизнь, и означает одну из разновидностей высшего сознания, т. е. разума в полном смысле слова. «Совершенный философ теоретически представляет собой высшее сознание в чистой форме, обособляя его резко и всецело от эмпирического. Святой делает то же самое практически. Для обоих характерным признаком их совершенства служит то, что они не щадят ни одной части эмпирического сознания, в каком бы виде оно ни являлось»[271]271
Там же. С. 137.
[Закрыть].
Человек становится человеком, вырабатывая правила морали и подчиняясь им, запрещая себе то, что разрешено животным, ограничивая себя. Отказ от принудительных форм морали может обернуться возвратом к варварству, к дикости, а может быть своеобразным условием возникновения сверхчеловека. Первое, что отталкивает человека от нравственных идеалов, – их холодная и беспощадная принудительность. Человек обязан их исполнять и не вправе отступать от них. Правда, со времен И. Канта говорят об их свободном признании личностью в отличие от юридических законов. Но считается, что эти нормы принимает и им подчиняется лишь высшее начало человеческой личности, «трансцендентальное я», а эмпирический человек просто обязан им беспрекословно повиноваться. Более того, в живом опыте человека притязание этих норм на внутреннюю авторитетность не смягчает, а усугубляет их властность, беспощадность, тиранию над нашей душой, ибо никто из нас не владеет неподкупным и безошибочным разумом, который должен свободно подчинять нас нравственному закону. Закон, всегда носящий социальный характер, вырывающий человека из дикого первобытного состояния, переводящий его из природного в культурный режим существования, требует победы над первобытным хаосом инстинктов, но этот хаос вгоняется законом внутрь, он не побеждается и не просветляется им. Инстинкты злобы, насилия, агрессии продолжают жить в человеке и проявляться в преступлениях и войнах вплоть до сегодняшнего дня[272]272
«Это гоббсовское понимание было развито Эмилем Дюркгеймом во всеобъемлющую социальную философию, согласно которой именно “норма”, измеряемая средним числом или тем, что наиболее распространено, и поддержанная жесткими карательными санкциями, действительно освобождает потенциальных людей от рабства, наиболее неприятного и внушающего наибольший страх; того вида рабства, которое не кроется ни в каком внешнем давлении, но находится в самом человеке, в его досоциальной или асоциальной природе. В этой философии социальное принуждение является освобождающей силой и единственной надеждой на свободу, которую может разумно питать человек…
Мало того, что нет никакого противоречия между зависимостью и освобождением; нет другого способа добиться освобождения, кроме как “подчиняться обществу” и следовать его нормам. Нельзя обрести свободу, выступая против общества. Результатом восстания против норм, даже если мятежники сразу же не превратились в животных и не утратили способность оценивать свое состояние, является бесконечная мука нерешительности, связанная с неуверенностью в намерениях и действиях окружающих, которая может сделать жизнь сущим адом. Паттерны и порядки, навязанные плотным социальным давлением, избавляют людей от этих мук: благодаря монотонности и регулярности рекомендуемых, обеспечиваемых применением силы или угрозой применить силу и вбитых в голову форм повеления люди большую часть времени знают, как им поступать, и редко оказываются в ситуациях без дорожной разметки, – в таких ситуациях, когда решения должны приниматься под свою ответственность и без успокаивающего знания об их последствиях, что делает каждый шаг чреватым труднопредсказуемыми рисками. Отсутствие или простая неясность норм – аномия – это худшая участь, которая может выпасть людям, когда они стараются решить свои жизненные задачи. Нормы дают возможность, поскольку они лишают возможности; аномия предвещает лишение прав, полнейшее и простое» (Бауман З. Текучая современность. М., 2008. С. 27).
[Закрыть].
Мы часто не в силах, по Франку, при всем нашем разумном желании, побороть нашу неукротимо мощную животную природу, но более того, – и в этом состоит трагизм – мы ощущаем исконную слитность наших слепых животных страстей с высшим и глубочайшим началом нашей личности, мы не знаем, где в нашей душе кончается божественный культ и начинается Содом. Причем последний влечет нас мистической красотой, силой и захватывающим упоением. «Как это ни дико звучит для суровых моралистов, которых длительное лицемерие приучило к духовной слепоте, в бешеном, самозабвенном разгуле страстей, к которому нас манит заунывно-залихватская цыганская песня, нам мерещится часто разрешение последней, глубочайшей нашей тоски, какое-то предельное самоосуществление и удовлетворение, по которому томится не одно лишь тело, а сам дух наш»[273]273
См.: Франк С.Л. Крушение кумиров // Франк С.Л. Соч. М., 1991. С. 151.
[Закрыть].
И как внутреннее право на свободу человек осознает великую и чистую, несмотря на всю странность и связанность с физическим влечением, любовь к женщине, вне которой в эти мгновения его жизнь теряет смысл и которую он ощущает как глубочайшую основу своего Я, как бы эта страсть ни противоречила общепринятым нормам морали.
Стать подлинно моральным можно, лишь преодолев «этическое». Такая сверхчеловеческая мораль (обыкновенному естественному или искусственному человеку она просто недоступна, часто он даже не подозревает о ее существовании), конечно, включает в себя нормы поведения, но они для нее – нечто поверхностное, второстепенное и производное. Ее истинный объект – не поведение, а внутренний строй человеческой души; ее цель – чистота и совершенство самого существа человека, его сердца, она направлена не на действия, а на само бытие. Поведение должно быть только естественным выражением внутреннего состояния, вне этого оно не имеет существенной цены.
Разве можно об Аврааме, который вел на заклание своего сына, сказать, что он морален? С точки зрения нравственного закона он преступник. Ни общество, ни государство не требовали от него принесения в жертву собственного сына. А то, что этого требовал от него Бог, слышал только Авраам, но и у него не было твердой уверенности, что он услышал правильно, что он не сошел с ума. Поэтому он никому не мог сказать о своем ужасном положении – ни жене, ни друзьям. Если говорить, то только общеизвестными, общими словами, а через них не передать весь страх и трепет Авраамовой души. В нем жила только вера в безграничную доброту Бога, и это была уже не человеческая вера.
«Рыцарь веры», как назвал его С. Кьеркегор, уже не человек, все «человеческое, слишком человеческое» в нем умерло, осталась только жизнь в полном одиночестве, полном молчании, в жутком балансировании между безумием и здравым смыслом. Разве не безумие верить, что для Бога все возможно, что возможность выше необходимости, разве не безумие такая вера, когда нет никакой надежды, когда можно остаться в состоянии веры лишь нечеловеческим напряжением души.
Но этим безумием открывается для нас нечто самое значительное, самое главное в человеческом существе (и самое страшное) – его «большой разум», сверхсознание. Это имел в виду апостол Павел, говоря: «Будьте безумными, чтобы быть мудрыми». Но безумие – это смерть человека, и только для сверхчеловека оно может быть мощным стимулом к жизни, только он может выдержать то, что открывает ему «большой разум», то необычное, ошеломляющее видение мира, от которого обыденное сознание, «малый разум», пытается закрыться рациональными аргументами или правилами этики. Быть безумным – значит идти наперекор устоявшимся мнениям и представлениям, значит рисковать своей жизнью, посвящая ее всю без остатка какому-то делу, без всякой надежды на успех, идти своим путем к краю того, что его ограничивает, в ту область, где рыщет смерть, где угасает мысль, где бесконечно ускользает обетованное первоначало.
«Послушайте молитву Ницше, и вы поймете хоть отчасти, как рождаются убеждения в нашей душе и что значит идти своим путем и иметь свой взгляд на жизнь: “О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я, наконец, сам поверил себе. Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один смертный, пугайте меня таинственным шумом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня, я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека: если я не больше, чем закон, то ведь я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, – откуда он, если не от вас? Докажите мне, что я ваш, – одно безумие может мне доказать это”»[274]274
Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Ницше: pro et contra. СПб., 2001. С. 560.
[Закрыть].
М. Фуко в работе «История безумия» писал о том, что человеческое бытие не характеризуется через некоторое отношение к истине, но наделено присущей ему и только ему открытой вовне и одновременно потаенной собственной истиной. Но как подобраться к этой истине, каким образом человек может посмотреть на себя со стороны и попытаться более или менее объективно себя познать? Центральным моментом объективизации человека является момент его перехода к безумию. Безумие – это самая чистая, самая главная и первичная форма процесса, благодаря которому истина человека переходит на уровень объекта и становится доступной научному восприятию. Человек становится природой для самого себя лишь в той мере, в какой он способен к безумию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.