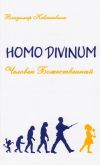Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Есть набор сущностных определений феномена «советский человек».
1. Он не верит в Бога, зато верит вождям, газетам, телевидению, сплетням, приметам, гороскопам. Советский человек – это человек смешанных взглядов: он отчасти язычник, отчасти он материалист, отчасти религиозный. Он стучит по дереву от сглаза, плюет в глаз человеку, у которого ячмень, и в то же время верит в торжество коммунизма и какие-то идеалы, но практически он никому не верит. Он понимает, что над ним есть сильный начальник, и он должен ему подчиняться и знать, что делать.
2. Он не боится Божьего суда, а боится людского суда, начальников, милиционеров.
3. Он не верит в царство Божие, а верит в рай земной (коммунизм).
4. Он не способен к самокритичности и покаянию, у него всегда виноваты ситуация, соседи, начальники, государство.
5. Он не способен к свободному созидательному труду, предпочитая нудную однообразную работу за кусок хлеба.
6. Он не способен работать на совесть, а готов работать из-за страха.
7. Он не любит свободы, предпочитая насилие (любовь к тиранам).
8. Он всегда предпочитает материальную выгоду духовной свободе (льготы, привилегии).
9. Он жаден до «халявы» и легко попадается на всякие уловки и хитрости как государства, так и поощряемых им жуликов.
10. Он не выносит одиночества, всегда ходит в стаде и готов поддержать любую компанию (страсть к коллективизму).
11. Он завистлив и не выносит чужого благополучия (кляузы, доносы).
Именно о таком сказано в Библии: «Ты – лукавый и нерадивый раб»[56]56
Хейфец М.Р. Избранное: В 3 т. Харьков, 2000. Т. 2: Путешествие из Дубровлага в Ермак, 1979–1987. С. 58.
[Закрыть].
Несмотря на то что советской власти давно уже нет, кажется, что советский человек остался, кажется, что коммунистической партии удался неслыханный социальный эксперимент по созданию «нового человека». Правда, его новизна весьма относительна, поскольку он оказался типичным представителем массы. Но, скорее всего, «советского человека» в чистом виде никогда не существовало, есть лишь некоторый неопределенный набор признаков, каждому (или почти каждому человеку, достаточно долго прожившему в условиях советского режима) присущий лишь частично. Можно уничтожить человека, сломать его, запугать на всю жизнь, но вывести новую породу невозможно.
Масса и власть
Господство массы, массовое общество неизбежно приводит к возникновению власти, которая является прямым продолжением и выражением массы, – это власть бюрократии, аппарата, составленного из массовых людей и работающих как машина. Машина безличная и анонимная, с которой невозможно бороться и действие которой пронизывает все общество сверху донизу: школа, церковь, армия, государственное управление, производство – все структурировано, все расчленено на определенные функции, каждый человек является винтиком этой машины и может быть безболезненно заменен[57]57
«Там, где мерой человека является средняя производительность, индивид, как таковой, безразличен. Незаменимых не существует. То, в качестве чего он был, он – общее, не он сам. К этой жизни предопределены люди, которые совсем не хотят быть самими собой; они обладают преимуществом. Создается впечатление, что мир попадает во власть посредственности, людей без судьбы, без различий и без подлинной человеческой сущности» (Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 311).
[Закрыть].
Бюрократия существовала и в Древнем Египте, и в Китае, но только в Европе после промышленной революции она широко распространилась и стала играть главенствующую роль. Бюрократия, полагал ее первый исследователь Макс Вебер, – самая эффективная форма управления, потому что бюрократ – это человек, подавивший в себе все человеческие качества (любовь, ненависть, зависть) и руководствующийся только интересами дела. И в то же время бюрократия – самая опасная форма власти, ибо она имеет тенденцию к неограниченному расширению, к тому, что она рано или поздно начинает работать на себя, а не на общество.
К. Ясперс различает массу как толпу не связанных друг с другом людей, массу как публику, людей, связанных расхожими мнениями и верованиями, и массу как совокупность людей, расставленных внутри аппарата таким образом, чтобы решающими были воля и свойства большинства. Для последней главным является фикция равенства. Вместо того чтобы быть самим собой, человек сравнивает себя с другими, желает того же, что имеет, умеет или знает другой. «Расчлененная в аппарате масса бездуховна и бесчеловечна. Она – наличное бытие без существования, суеверие без веры. Она способна все растоптать, ей присуща тенденция не терпеть величия и самостоятельности, воспитывать людей так, чтобы они превращались в муравьев»[58]58
Там же. С. 314.
[Закрыть].
Современная власть и масса неотделимы друг от друга. Аппарат вербует в свои ряды наиболее подходящих ей людей: цепких, исполнительных, не обремененных излишней образованностью или совестливостью. Власть вытесняет из сферы своей деятельности людей самостоятельных, талантливых, гордых. Везде во все годы существования власти бюрократии существовала система опознания «свой – чужой». Умный, рефлексирующий, скрытный, самостоятельный, инициативный – как правило, чужой, иногда потенциально чужой. Когда умрет, можно считать его своим, например лучшим и талантливейшим поэтом, как Маяковский.
Чаще критерием «своего» была простота. Атрибут универсальной простоты принадлежал как официальному, так и массовому сознанию. Простота – синоним массовидности: быть как все. Это не означает коллективности или сплоченности, это лишь ориентация на всеобщее усреднение.
Власть, какая бы она грозная ни была, требовала от каждого человека только одного – лояльности. Лояльность важнее профессионализма, лояльность – это та валюта, за которую можно купить почти все. Если оказывалось, особенно в молодости, что человек не обладает способностями или талантами, он начинал изо всех сил демонстрировать свою лояльность и делал общественную карьеру. В советское время он пытался попасть в комитет комсомола, в профсоюзные деятели. Карьера очень многих советских начальников началась со студенческой скамьи.
Правда, со временем обнаружилось, что ориентация на простоту привела к примитивности и косности самой «управляющей системы», проявившей свою непригодность для эффективного контроля за человеком и обществом. Но в свое время она срабатывала весьма эффективно, не подпуская к власти людей, способных ее реформировать.
Итак, главное для власти – лояльность, признание, хотя бы внешнее, полной зависимости от государства. Ради этого власть готова терпеть и очень умных, и очень выдающихся, лишь бы не ставились под сомнение ее компетентность и необходимость. Это принятие полной зависимости было условием сохранения возможности творчества, возможности самодеятельности и даже приватной жизни. Так, в СССР подчинение планированию было гарантией некоторой хозяйственной автономии, барщина на колхозном поле давала возможность пользоваться личным подсобным участком, написание оратории «Диалектика природы» обеспечивало личную творческую свободу.
И тем не менее никакой власти, даже самой тоталитарной, никогда не удавалось весь народ превратить в послушных, безотказно функционирующих винтиков. Масса не является чем-то однородным, наподобие студня, который можно толкнуть с одного края, и волна пройдет через весь кусок, не встречая никакого сопротивления. Есть люди, работающие в самом аппарате, знающие все правила игры, ритуальные жесты и слова – партийные и правительственные функционеры, высший слой менеджеров государственных предприятий, военачальники и т. д., в больших развитых странах это, как правило, несколько миллионов человек. Они работают и за страх, боясь лишиться своего места, и за совесть, потому что преданы своему делу, своим хозяевам.
Но основная масса отстоит достаточно далеко от власти и связанных с нею привилегий. Более того, бюрократия как власть больше отчуждена от народа. Если король считает себя отцом нации, и очень часто это признавалось всем народом, если ярким политиком-харизматиком восхищаются или смеются над ним, но он всегда в центре внимания, то бюрократический лидер всегда тускл, бесцветен, всегда в тени, о нем ничего нельзя сказать определенного, про него даже анекдоты не сочиняют. Он тем не менее пытается изобразить или «отца нации», или «своего парня». Б. Ельцину, например, очень нравилось, когда его называли «царь Борис». Но как всякий нувориш, прорвавшийся на вершину властной пирамиды благодаря своей исполнительности, бюрократ полон презрения к той среде, из которой вышел. При бюрократической власти никогда не известно, кто правит реально: президент, или группа олигархов, или некий тайный орден.
Поэтому масса чаще всего испытывает инстинктивное недоверие к бюрократической власти и ее лидерам. Ей присущ здоровый консерватизм. Масса, сохраняя традиции, сохраняя свои ритуалы и ценности, прежде всего старается сохранить себя, вопреки воздействиям на нее власти, общественного сознания, средств массовой информации. Многие исследователи как западного, так и российского общества полагают, что, какие бы ни совершались чудеса манипуляции, основным мотивом отношения массы к власти является в лучшем случае безразличие, а в худшем – ненависть. Так, в России одним из последствий Петровских реформ был раскол общества. Все, что возникало в стране под влиянием реформ и навязывалось властью сверху: чиновничий аппарат, формы управления, суды, прокуратура и т. д., – воспринималось внизу как отрава и ложь. Даже города, отстроенные в чуждом стиле, были для большинства населения фальшивы, неестественны. «Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», – замечает Достоевский. У него не раз возникало чувство, что в одно прекрасное утро этот город-морок растает вместе с болотным туманом. Общество управляющих, созданное властью, считалось продуктом западнической литературы, чем-то чуждым и грешным. «Город-морок, который теснится и располагается вокруг, как и все прочие города на матушке-Руси, стоит здесь ради двора, ради чиновников, ради купечества; однако то, что в них живет, это есть сверху – обретшая плоть литература, “интеллигенция” с ее вычитанными проблемами и конфликтами, а в глубине – оторванный от корней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с постоянной тоской по земному простору и горькой ненавистью к каменному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист… Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения»[59]59
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. С. 199.
[Закрыть].
Никакой гармонии во все последующие века между массой и властью в России не было. Никогда всенародной любовью не пользовались ни цари, ни диктаторы, ни президенты: Петр был в глазах большинства антихрист, Сталин – усатый таракан, Хрущев – «кукурузник», Брежнев – «бровеносец в потемках» и т. д. О нелюбви народа к власти свидетельствует огромное количество злых и беспощадных анекдотов. Всенародные восхваления, подарки, оплакивания в случае смерти – все это были просто хорошо организованные акции.
В советское время человек всегда, с самого детства, был членом какой-нибудь организации – пионерской, комсомольской, профсоюзной и др. Причем все эти организации имели не органический, а механический характер, власть все делала для того, чтобы не допустить никакого органического объединения людей, например в религии. Поэтому чувство одиночества для большинства людей (не только советских) было самым мучительным. Их жизнь была всегда открыта, публична: на собрании, на демонстрации, на субботнике, на выборах. И в то же время любой российский человек в душе анархист. Вырваться из-под опеки власти, организации и погулять вволю – затаенная мечта многих людей. Отсюда бессмысленный и беспощадный русский бунт, бесконечные восстания, стачки, демонстрации. Их было огромное количество и при советской власти – в лагерях, в армии, в провинциальных городах; в большинстве своем они оставались неизвестными обществу. Стоит власти только чуть-чуть отпустить поводья, и стихия анархии вырывается наружу: будь то «соляной бунт», восстание в лагерях Воркуты или события в Москве в октябре 1993 г. во время штурма Верховного Совета.
Было бы бесполезно, считает Ж. Бодрийяр, побуждать массы к поискам позитивного мировоззрения или к критическим умонастроениям, ибо они попросту этим не обладают; все, что у них имеется, – это сила равнодушия, сила отторжения. Они черпают свои силы лишь в том, что изгоняют или отвергают, и прежде всего это – любой проект, превосходящий их понимание, любая категория или рассуждение, которые им недоступны. В этом есть элемент хитрой философии, источником которой служит наиболее жестокий опыт – опыт животных или крестьян: нас-то уж больше не надуешь, мы-то себя в жертву «светлому будущему» не принесем. С такого рода общественным мнением может спокойно сосуществовать глубокое отвращение к общественному порядку – отвращение к претензиям властей на превосходство, к фатальности и мерзости всего политического. Если прежде существовали политические страсти, то сегодня мы наблюдаем необузданность в сочетании с глубоким отвращением к политике[60]60
См.: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 108.
[Закрыть].
Вообще понятия «масса», «народ», «стадо» очень неопределенны и в какой-то мере являются виртуальными характеристиками, так же как виртуален сам этот слой населения. Виртуален потому, что он неуловим, ненаблюдаем на социальной поверхности. Можно говорить лишь о символах, которые используются в качестве козырных карт течениями, партиями, тенденциями. Массы не выражают себя – их зондируют. Они не рефлектируют – их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума – средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдумы, средства массовой информации выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации.
И вопросы, и ответы тестирования и анкетирования сочиняются представителями политических партий, СМИ, причем с таким искусством, что масса признает их за свои и с удовольствием слушает по TV «свое» мнение о тех или иных животрепещущих вопросах. Все эти исследования имеют дело не с объектом, который может быть представлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение. Поэтому он СМИ не схватывается, а всего лишь симулируется. Он ими «производится»: они предрешают то, как масса отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих от нее сигналов. Народ, каким его видели интеллигенты, в такой же степени представлял рабочих и крестьян, как ансамбль Моисеева – народное искусство. По сути, девять десятых населения не подлежат исследованию вообще. «Мы всегда имеем дело с мифом о народе. Этот миф и является самой реальной категорией, поскольку им оперируют все партработники, писатели-деревенщики, диссиденты, поэты-почвенники и даже статистика. Для интеллигенции миф о народе был не просто реальностью, но и полигоном, где интеллигент получал право на жизнь – будь то герои Горького или Аксенова»[61]61
Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2001. С. 214.
[Закрыть].
Сам же народ, как отметил еще Пушкин, безмолвствует. За него всегда говорит власть или чаще всего, поскольку власть, как правило, косноязычна, интеллигенция, которая якобы слышит народные думы и пытается их выразить на языке литературы. «Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребованной референциальности, всех не-извлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений – масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно»[62]62
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. С. 11. «Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто– или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции – всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными – и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков – эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под ее воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того, ни другого нет, и то и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, – это лежит на поверхности, и, тем не менее, именно это и только это делает массы массами» (Там же. С. 17–18).
[Закрыть].
Естественность и вера
Любая религия – от самых архаических, примитивных до современных духовных течений – это не свод правил поведения, не учение о нравственном образе жизни, а метафизика, т. е. учение о другом мире и возможностях связи с этим миром. Природа религии, писал Флоренский, соединять Бога и мир, дух и плоть. Так, латинский глагол religo означает «завязывать», «привязывать». Человек первобытных обществ обычно старался жить, насколько это было возможно, среди священного, в окружении освященных предметов. Священное – это могущество, т. е. в конечном счете самая что ни на есть реальность. Священное могущество означает одновременно реальность, незыблемость и эффективность. Оппозиция «священное – мирское» часто представляется как противоположность реального и ирреального или псевдореального. Религиозный человек всей душой стремится существовать, глубоко погрузиться, участвовать в реальности, вобрать в себя могущество[63]63
См.: Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 18.
[Закрыть].
Размещение на какой-либо территории с необходимостью предполагает ее освящение. Найти свое место, оборудовать его, обжить – все действия предполагают у оседлых племен жизненно важный выбор вселенной, которую они «сотворяют», чтобы сделать своей. И эта «вселенная» всегда является подобием образцовой Вселенной, созданной и населенной богами. Слово «культ» (cultus) происходит, по Флоренскому, от colere (вращать), т. е. это вращение вокруг святой реальности, вокруг святыни, которая является неподвижной, абсолютной точкой мира, точкой отсчета. Мое положение в мире определяется моим отношением к святыне. Не только метафизически, но и географически. Определить себя географически, рассуждает Флоренский, значит дать географические координаты широты и долготы, значит иметь какие-то опорные пункты и осознавать свое место относительно них. Например, столько-то градусов долготы от Москвы. Но что такое Москва? Это уже не столько географический, сколько культурный термин. Культурные же определения опираются на культовые, поскольку они требуют, чтобы в конкретной реальности был установлен какой-нибудь смысл, а признание смысла уходит своими корнями в недра культа. Москва – центр России, средоточие русского духа, основных святынь и преданий, вокруг которых строится русская история, и т. д. Таким образом, всякая точка в пространстве получает смысл, если на ней лежит печать духа. Само пространство становится осмысленным и доступным пониманию, если в нем есть такие точки, такие «зарубки» духа.
Даже космическое пространство, совокупность светил, может быть названо, выделено, если проникнуто изначально священным осознанием. Геодезия, по мысли Флоренского, держится на астрономии, астрономия – на астрологии, астрология же – на звездопоклонении, а звездопоклонение – на мистическом окружении Безусловного и Вечного, являющегося и в этом смысле как-то воплощенного в звездных символах. Ведь ориентироваться в пространстве – это значит, по мнению П. Флоренского, установить свое отношение к тем или иным вещам мира. Но установка эта есть действие не внешнее, а внутреннее, есть некий акт разума и, следовательно, может обращаться не с внешним как таковым, а лишь с тем, что дано разуму как разумное, разумом проработанное и само доступное такой проработке.
В любой своей деятельности мы в конечном счете пользуемся тем, что дает культ. Если бы мы могли, утверждал Флоренский, вычерпать полностью из своего сознания культовое содержание, то не только лишились бы высших духовных ценностей, но и всех способностей ориентации в мире. Пространство, например, просто свилось бы, как в свиток, в безразличную среду, не имеющую в себе никаких расчленений, никаких координат, сознанию просто не за что было бы зацепиться.
Время для религиозного человека не однородно и не беспрерывно. Есть периоды Священного Времени. Это время праздников, есть мирское время, обычная временна́я протяженность, в которой разворачиваются действия, лишенные религиозной значимости. Между этими двумя разновидностями времени существует, разумеется, отношение последовательности; но с помощью ритуалов религиозный человек может без всякой опасности «переходить» от обычного течения времени к Времени Священному. «Главное различие между этими двумя качествами Времени на первый взгляд поразительно: Священное Время по своей природе обратимо в том смысле, что оно буквально является первичным мифическим Временем, преобразованным в настоящее. Всякий церковный праздник, всякое Время литургии представляют собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, “в начале”»[64]64
Элиаде М. Там же. С. 48. Ср.: «Не только пространство, но и время производно от культа. Мы живем в ритме праздников. Мы считаем дни и года: столько-то от Рождества, столько-то от Пасхи, столько-то лет от Рождества Христова как начала летоисчисления. Уничтожьте все культовые времена – и не станет календаря, извлеките все религиозное содержание из времени – и оно сольется в безразличную среду» (Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды. М., 1977. Сб. XVII. С. 133).
[Закрыть].
Естественный человек живет в двух планах времени, наиболее значимое из которых – Священное – парадоксальным образом предстает как круговое, обратимое и восстанавливаемое Время, некое мифическое вечное настоящее, которое периодически восстанавливается посредством обрядов. Для естественного человека священное – часть природы, необходимо вплетенное в нее, и для того, чтобы это священное ощутить, не нужно никаких специфических усилий.
В этом смысле естественный человек религиозен постольку, поскольку живет в рамках традиции и не может из нее вырваться. Он религиозен «инстинктивно», ибо живет в мире, преображенном и освященном религией, и эта религиозность – не более чем незаслуженный подарок естественному человеку. Он свою религиозность, свою веру не выстрадал, не рисковал за нее жизнью и здоровьем, не мучился сомнениями. Эта естественная религиозность может привести как к религиозности духовной, так и к антирелигиозности. На естественном уровне религиозность очень часто прячет под собой антирелигиозность, хотя внешне это может выступать как строгое следование догмам, как религиозный фанатизм. Антирелигиозность – это не атеизм, поскольку последний тоже вера, вера в то, что Бога нет, вера в человека. И если раньше существование нерелигиозных людей, видимо, было редчайшим исключением, даже парадоксом, то в современных западных обществах неверие стало массовым явлением. Человек теперь формирует себя сам, причем тем больше, чем больше удаляется он от священного, чем полнее десакрализует мир. Десакрализация особенно быстро идет в городах, там, где человек отделен от природы, не включен в нее органически, утратил символическую и эмоциональную связь с ней. Теперь гром – это уже не голос рассерженного Бога, в реке не живет дух, змея не воплощает мудрость, а горная пещера больше не жилище великого демона. Человек уже не слышит голоса камней, растений, животных. Его контакт с природой исчез, а с ним исчезла и глубокая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая связь. Он становится самим собой лишь тогда, когда вытравляет из себя все мистическое. И он станет действительно свободным лишь тогда, когда убьет последнего бога.
Естественному человеку нужны яркие иллюстрации, живой пример для подражания. В его душе и сознании намешано столько предрассудков, наивных догм, всевозможных сказок и легенд, что он буквально стеной отгорожен от настоящей веры. Чтобы Христос пронизал душу, ему надо теперь преодолеть не какой-то опыт рыбаков, надо пронзить, по Розанову, всю толщу впечатлений современного человека, весь мусор, которым он напичкан, надо преодолеть гимназию, университет, казенную службу, танцы, флирт, знакомых, друзей, книги, Бюхнера и т. д., надо вернуться к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Это невероятно сложное дело – «мусорного человека» превратить в «естественное явление»[65]65
Розанов В.В. Опавшие листья. М., 1990. С. 547.
[Закрыть].
Подавляющее большинство «инстинктивно верующих» или «неверующих» тем не менее не свободны от религиозного поведения, теологии и мифологии. «И речь не идет только о множестве “пережитков” и “табу” у современного человека; все они имеют магико-религиозную структуру и происхождение. Но современный человек, чувствующий и объявляющий себя неверующим, обладает всей скрытой мифологией, а также множеством деградировавших обрядов»[66]66
Элиаде М. Указ. соч. С. 126. «Противоречивость животной и человеческой природы в человеке проявляется и в отношении естественного человека к религии, к Богу. Массы приняли во внимание только образ Бога, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так. Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла – это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, – они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, – за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу – то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле – в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт» (Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. С.12).
[Закрыть].
Иногда они, писал М. Элиаде, завалены ворохом магико-религиозных представлений, искаженных до карикатурного состояния, а потому и плохо узнаваемых. Процесс разрушения святости человеческого бытия не раз приводил к возникновению гибридных форм дешевой магии с примитивной религией. «Мы не думаем о бесчисленных “микрорелигиях”, которыми кишат все современные города, о церквах, о сектах, о псевдооккультных, неоспиритуалистических или так называемых “герметичных” школах, хотя все эти явления относятся к сфере религии, даже если почти во всех случаях речь идет о нелепых разновидностях псевдоморфоза. Мы не намекали также на различные политические течения и социальные пророчества, хотя легко обнаруживается их мифологическая структура и религиозный фанатизм. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить мифологическую структуру коммунизма и его эсхатологический смысл. Маркс заимствует и развивает один из самых великих эсхатологических мифов азиатско-средиземноморского региона, а именно: искупительную роль Иисуса Христа (“избранник”, “помазанник”, “невинный”, “посланец”; ср. в наши дни – пролетариат), чьи страдания были призваны изменить онтологический статус мира. В самом деле, бесклассовое общество Маркса и постепенное исчезновение исторических антагонизмов точно повторяют миф о Золотом Веке, который, согласно многим традиционным верованиям, знаменует начало и конец Истории. Маркс обогатил этот древний миф всей мессианской идеологией иудеохристианства: с одной стороны, это роль проповедника, приписываемая пролетариату, и его избавительная миссия, с другой – последняя борьба Добра и Зла, в которой без труда узнается апокалиптический конфликт Христа с Антихристом, и окончательная победа Добра. Знаменательно также и то, что Маркс разделяет эсхатологическую надежду иудеохристианства об абсолютном конце Истории»[67]67
Элиаде М. Указ. соч. С. 128.
[Закрыть].
Всякая культура, считал Шпенглер, всегда религиозна. Иррелигиозность появляется как массовое явление лишь с наступлением цивилизации, с появлением мировых городов, с появлением массы вместо народа, современных кочевников вместо крестьянства и мелкопоместного дворянства. Мировой город лежит, как крайность неорганического начала, посреди культурного ландшафта, обитателя которого он отрывает от корней, притягивает к себе и потребляет. Появление нерелигиозной массы людей свидетельствует об исчерпаемости культуры, об усталости души. Так было и в Древнем Египте, и Древнем Китае, и у арабов, те же процессы происходят сейчас в Европе. «Речь идет вовсе не о политических и экономических, не даже о собственно религиозных или художественных превращениях. Речь идет вообще не об осязаемом, не о фактах, а о сущности души, без остатка реализовавшей свои возможности. Пусть не приводят в качестве возражения огромные достижения именно эллинизма и западноевропейской современности. Хозяйство, основанное на рабском труде, и машинная индустрия, «прогресс» и атараксия, александринизм и современная наука, Пергам и Байрейт, социальные условия, предполагаемые «Политейей» Аристотеля и «Капиталом» Маркса, суть только симптомы на поверхности исторической картины. Речь идет не о внешней жизни, не о жизненном укладе, не об институциях и нравах, а о глубочайшем и последнем, о внутренней исчерпанности обитателя мирового города – и провинциала. Для античности она наступила в римскую эпоху. В нашем случае срок ее отведен после 2000 года»[68]68
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 538. «Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна претвориться в историческое знание, – религия, которая подлежит строго научному изучению, – осуждена в то же время на полное уничтожение в конце пути» (Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 199–200).
[Закрыть].
Цивилизация исповедует евангелие человечности, но речь идет о человечности интеллигентного горожанина, который сыт по горло поздним городом, а заодно и культурой, горожанина, «чистый» и, значит, бездушный разум которого ищет избавления от этой культуры и ее властной формы, от ее суровостей, ее внутренне уже не переживаемой и оттого ненавистной символики. «Когда начинают конструировать неметафизическую религию и ополчаются против культов и догм, когда естественное право противопоставляется разновидностям исторического права, когда берутся “разрабатывать” стили в искусстве, так как не выносят больше стиля как такового и не владеют им, когда государство воспринимают как “общественный порядок”, который можно и даже должно изменять (рядом с contrat social Руссо фигурируют совершенно идентичные изделия эпохи Аристотеля), – все это свидетельствует об окончательном распаде чего-то»[69]69
Там же. С. 539.
[Закрыть].
Все живые формы, все искусства, доктрины, обычаи, все метафизические и математические миры форм, каждый орнамент, каждая колонна, каждый стих, каждая идея в глубине глубин религиозны и должны быть таковыми. Но если сущность всякой культуры – религия, то сущность всякой цивилизации – иррелигиозность. Религиозна, писал О. Шпенглер, еще архитектура рококо, даже в самых светских своих творениях. Иррелигиозны римские сооружения, даже храмы богов. С Пантеоном, этой прамечетью, интерьер которой наполнен проникновенно магическим чувством Бога, в Древнем Риме очутился единственный экземпляр подлинно религиозной архитектуры. Сами мировые города на фоне старых культурных городов: Александрия на фоне Афин, Париж на фоне Брюгге, Берлин на фоне Нюрнберга – иррелигиозны. Иррелигиозными и бездушными являются и те этические миронастроения, которые, безусловно, относятся к языку форм мировых городов. Иррелигиозен социализм, так же как стоицизм и буддизм в сравнении с орфической и ведийской религией. «Это угасание живой внутренней религиозности, постепенно формирующее и наполняющее даже самую незначительную черту существования, и есть то, что в исторической картине мира предстает поворотом культуры к цивилизации, неким климактерием культуры, как это было названо мною раньше, стыком двух времен, когда душевная плодовитость известного рода людей оказывается навсегда исчерпанной, а созидание уступает место конструкции. Если понимать слово “неплодотворность” в его первоначальном смысле, то оно обозначает стопроцентную судьбу мозговых людей мировых городов, и к числу совершенно уникальных моментов исторической символики относится то, что поворот этот обнаруживается не только в угасании большого искусства, общественных форм, великих систем мысли, большого стиля вообще, но и совершенно телесно в бездетности и расовой смерти цивилизованных, отторгнутых от почвы слоев – феномен, неоднократно замеченный и оплаканный в римскую и китайскую императорскую эпоху, но неотвратимо доведенный до завершения»[70]70
Там же. С. 546–547.
[Закрыть].
Если религия отражает душу культуры, то исчезновение, выветривание религиозности, исчезновение из культуры святого, мистического, чудотворного приводит культуру, и прежде всего такие ее формы, как искусство, философия, к кризису, к возвращению «естественности» в том смысле слова, о котором говорилось выше. Прежде поэты как истинные представители искусства верили, что они занимаются таинством, чудом – иначе как таинством нельзя назвать возникновение живого слова. А ныне поэты-экспериментаторы отвернулись от чуда, как замечал В. Вейдле, им кажется, что они занимаются алхимией, магией, священным колдовством, но на самом деле речь идет не об алхимии, а просто о химии. Поэзию, литературу требуется просто очищать, как очищают спирт, выварить из ее живой ткани сильно действующий экстракт, заменить пищу питательной пилюлей[71]71
См.: Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышление о судьбе литературы и художественного творчества. СПб., 1996. С. 103.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.