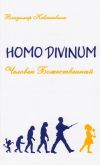Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
После смерти Бога мир оказался абсурдным, и потому человек должен научиться жить с абсурдностью мира, с отсутствием в нем всяческого смысла, взять на себя бессмысленность мира. Даже вера в Бога является верой в абсурд, отказ от разума является высшей мудростью: будьте безумными, чтобы быть мудрыми, – это не красивая фраза, каковой она воспринималась во все века существования христианства. Верить в то, что для Бога все возможно, – это и есть безумие, действительно спасающее человека, но для этого нужно дойти до самого края, заглянуть в бездну, испытать бесконечное самоотречение. Бог ничего не дает, никого не спасает, спасает только безумная вера в возможное. Бог и существует только для «безумного» человека. Только этот «безумец» и открывает тот зазор в мире сплошной обусловленности, через который он может прорваться в измерение истинной человечности.
Мы все находимся в положении Авраама, занесшего нож над собственным сыном, никто не может нас уверить, что мы поступаем правильно, что мы не преступники и не грешники, никто не может нас уверить, что мы выполняем волю Божью и что мы правильно эту волю истолковали. Поскольку над нами нет больше высшего мира ценностей, то нет никакого высшего плана, сначала надо что-то сделать, и только после этого узнаешь, была ли то воля Божья или произвол. Бог не извне, Бог – это место встречи человека с Богом.
Тот человек, которого создавали религия и философская метафизика, исчез, растворился после сокрушительных поражений просветительских идеалов, согласно которым все должны прийти к счастью стройными колоннами после кровавых революций и смертельной войны идеологий. Новый человек, которым и занимается философия после смерти Бога, – это человек без опоры, человек, разочаровавшийся во всех внешних критериях своего благополучия и счастья, человек одинокий, человек рискующий, человек, ходящий все время по краю пропасти.
Например, философ всегда говорил от имени Бога, но с наступлением постметафизической эпохи он начинает сомневаться – имеет ли такое право, поскольку весь его опыт как философа, независимо от глубины личных религиозных убеждений, никак Бога не касается. Как возможно говорить о Боге, чтобы он не стал объектом среди объектов, чтобы это слово было понятно современному человеку, для которого мифологические или объективированные высказывания потеряли всякий смысл? Философия после смерти Бога открывает тот факт, что природа человека не просто в том, что он образ и подобие Божье, нет такой природы, это опять же модель «автомата», человеческая природа – нечто, подлежащее постоянному удерживанию и сдерживанию, она растекается, постоянно изменяется от аморфности амебы до закаленной стали, она проваливается в бездны и карабкается на вершины. И тем не менее философия, похоронив Бога, постоянно его ищет, ищет некоего нового Бога, который не находится вне мира, не является могущественной и потусторонней силой, которой можно только повиноваться, не является гарантом стабильности, порядка и осмысленности человеческой жизни. Д. Банхёффер, например, считает, что Бог как моральная, политическая, естественно-научная, философская и религиозная гипотезы упразднен, преодолен. Сам Бог дает нам понять, что мы должны жить, справляясь с жизнью без Бога. Бог позволяет вытеснить себя из мира на крест. Бог бессилен и слаб в мире, но именно в этом и только через это Он с нами и помогает нам[239]239
См.: Банхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994. С. 263.
[Закрыть]. Зачем же нужен Бог философии, которая своей яростной критикой не оставляет камня на камне от религиозной веры? То ли он нужен потому, что для человека существует неискоренимая потребность в общении с тем, кому можно доверить свои самые главные чаяния и надежды? То ли потому, что у человека есть постоянная потребность в силе, которая может поддержать в минуту отчаяния, потребность в любви, в любви двусторонней, между Я и Ты? Хайдеггер в своей ректорской речи в 1933 г. утверждал, что Ницше искал возможности нового опыта Бога, несмотря на кажущуюся безысходность утверждения «Бог мертв». Мнимый атеизм Ницше был на самом деле «знающим молчанием о Боге». Бог оказался необходимым и такому «убийце Бога», как Ницше, и постклассической философии, и современной культуре. Но только не Бог теологии и метафизики. Благодаря Богу открывается внутренний мир человека, такое измерение, которое совершенно несоизмеримо с внешним. Это измерение не тождественно нашим душевным переживаниям, нашим воспоминаниям, нашим навыкам и привычкам, нашим мечтам и надеждам, т. е. всему тому, что составляет духовное содержание личности. Это такое внутреннее, которое, считал Кьеркегор, хотя и не является тождественным первому внутреннему, но представляет собой некое новое внутреннее, о котором не подозревали ни теология, ни философия и психология. Это внутреннее открывается в процессе веры как высшего напряжения, как состояния крайней разорванности, как страсти, наслаждения и мучения. Такая вера доступна только человеку, дошедшему до края пропасти, потерявшему всякую надежду на спасение мирскими средствами, провалившемуся в пучину отчаяния. Но что является результатом такой веры? Появляется ли новое откровение или случается перерождение человека в новую личность? На самом деле результат внешне совершенно незначительный – для человека появляется возможность жить в любви. И только такая жизнь делает его человечным. Когда в наше время человек не желает оставаться с любовью, рассуждал Кьеркегор, куда же он при этом направляется? К земной сообразительности, к мелкой расчетливости, к ничтожеству и низости, ко всему, что делает сомнительным божественное происхождение человека. «Любить – ни одно поколение не научается этому от другого, ни одно поколение не может начать с какой-то другой точки, кроме начала, ни одно позднейшее поколение не имеет более простой задачи, чем предыдущее, и если человек не желает останавливаться здесь, как это сделали предшествующие поколения, останавливаться на том, что он любит, но желает идти дальше, тогда это все превращается всего лишь в бесцельную и глупую болтовню»[240]240
Кьеркегор С. Страх и трепет. С. 110.
[Закрыть].
Жить в атмосфере любви – и значит быть духом, иметь внутреннее измерение как место встречи с Богом, только это и придает смысл и цельность существованию, спасает от отчаяния. Верить и любить – эти два состояния настолько похожи, что часто представляются одним и тем же состоянием, любовь, как и вера, не нуждается в доказательствах и обоснованиях. «Всякий человек, который не осознает себя как дух, или же тот, чье внутреннее Я не обрело в Боге сознания себя самого, всякое человеческое существование, которое не погружается так ясно в Бога, но туманно основывает себя на некоторой всеобщей абстракции и все время возвращается туда (будь то идея государства, нации и т. п.) или же которое, будучи слепым по отношению к самому себе, видит в своих свойствах и способностях лишь некие энергии, проистекающие из плохо объяснимого источника, принимая свое Я в качестве загадки, противящейся любой интроспекции, – всякое подобное существование, сколько бы оно ни совершало удивительных подвигов, сколько бы оно ни тщилось объяснить и саму вселенную, сколько бы напряженно оно ни наслаждалось эстетической жизнью, все равно это существование причастно отчаянию»[241]241
Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 280–281.
[Закрыть].
Только наличие внутреннего мира освобождает от всякой внешней зависимости, делает свободным, ответственным, сильным, талантливым и великим. Только свободный человек может встать в свободные отношения к Богу. Бог, которого ищет философия, – это любовь и свобода не как некие внешние качества Бога, которыми мы стремимся овладеть, а как единственно возможная форма реализации человеческого. Форма, в которую человек должен врасти или воплотиться, форма искусственная, которая не дается раз и навсегда, ее нужно постоянно культивировать и поддерживать, все время ужасаясь невозможности для человека находиться в этой форме.
Любовь как религиозное чувство в своей основе не есть просто любовь к Богу. Любовь к Богу, купленная ценой ослабления или потери любви к живому человеку, вовсе не есть настоящая любовь. Любовь, наоборот, постепенно научает любящего воспринимать абсолютную ценность самой личности любимого. Через внешний, телесный и душевный облик любимого мы проникаем к тому глубинному его существу, которое этот облик выражает, – к тварному воплощению божественного начала в человеке. Иллюзорное обоготворение эмпирически-человеческого преобразуется в благоговейно-любовное отношение к индивидуальному образу Божию, к богочеловеческому началу, которое есть в любом, самом несовершенном и порочном человеке.
«Возможно, – писал Ницше, – что под священной легендой и покровом жизни Иисуса скрывается один из самых болезненных случаев мученичества от знания, что такое любовь: мученичество невиннейшего и глубоко страстного сердца, которое не могло удовлетвориться никакой людской любовью, которое жаждало любви, жаждало быть любимым и ничем, кроме этого, жаждало упорно, безумно, с ужасающими вспышками негодования на тех, которые отказывали ему в любви; быть может, это история бедного не насытившегося любовью и ненасытного в любви человека, который должен был изобрести ад, чтобы послать туда тех, кто не хотел его любить, – и который, наконец, познав людскую любовь, должен был изобрести Бога, представляющего собой всецело любовь, способность любить, – который испытывал жалость к людской любви, видя, как она скудна и как слепа! Кто так чувствует, кто так понимает любовь – тот ищет смерти»[242]242
Ницше Ф. С. По ту сторону добра и зла. С. 393–394.
[Закрыть].
Поиски жизни, насыщенной любовью и свободой, – это и есть поиски Бога в современной культуре. И эти поиски неосуществимы на пути науки или научно ориентированной философии. Только искусство, поэзия могут помочь нам поймать «смысл бытия» или призвать Бога, помочь стать местом встречи, пробудить «готовность ожидания», «готовность к явлению Бога или к отсутствию Бога и гибели». «Только слова певца еще удерживают след священного» (М. Хайдеггер). Прошлая возможность связи с Богом оказалась негодной, а новое отношение к бытию и Богу, которое возможно как возвращение человека к своей сути, еще не открылось. Возможность нового опыта Бога многим мыслителям видится в поэтическом опыте, свободном от самоочевидности готовых определений. Поэзия будет одновременно и наименованием божественного, и новым опытом узнавания Бога.
Человек сверхъестественный
Идея сверхъестественного человека, или сверхчеловека, – одна из самых древних в истории, в ее появлении большую роль сыграли мифология, религия, философия, литература, в ней воплотилась мечта человечества о благой силе и мудрости, о такой степени могущества, которая доступна только редким, избранным людям. Сверхчеловек и по сегодняшний день остается высоким, недостижимым идеалом. Идея сверхчеловека значительно древнее своего ницшеанского аналога. Сверхчеловек – это мудрец, полководец, гений в искусстве. К людям, обладающим теми или иными чертами сверхчеловека, относили Пифагора, Сократа и Платона, Александра Македонского, Моцарта, Наполеона, Шекспира и других.
Сверхчеловеческое обычно понимают, во-первых, как деятельность, основанную на сверхчеловеческих способностях, и, во-вторых, как особый способ бытия, предполагающий радикальное изменение антропологической меры, выход за рамки «человеческой точки зрения». Мы рассмотрим только второй аспект феномена сверхчеловека, потому что никаких серьезных выводов и обобщений нельзя сделать, анализируя необыкновенные способности: абсолютный слух, феноменальное зрение, необычайную способность воображения и т. д.
Природные основы сверхчеловека. «Человек-зверь»
Сверхчеловеческое в индивиде может иметь природное и духовное происхождение. Если мы говорим о природных основаниях, то сверхъестественный человек в большей мере кажется продолжением человека естественного, чем искусственного, можно даже говорить о гипертрофированном развитии естественного человека. Как один, так и другой находятся вне культуры. Первый не дорос до культуры (или является носителем культуры массовой), второй перерос, он создает культуру, творит историю, а не просто живет в них.
Сверхчеловеческие черты личности, данные от рождения, от природы или развитые в самом раннем возрасте, – это необычно сильная воля, храбрость, агрессивность, упрямство, развивающиеся чаще всего в ущерб интеллекту. Такие черты проявляются в политике, в военном деле, в криминальной среде. Вовсе не истинно великие люди, писал Шопенгауэр, оказываются теми историческими деятелями, которые, умея руководить и править массой человечества, выступают борцами в мировых событиях. Для этого пригодны люди с гораздо более ограниченным умом, но с большей твердостью, решительностью и устойчивостью воли, которые не могли бы даже возникнуть вместе с очень высоким интеллектом. Интеллект просто мешает воле. Во многих людях мы встречаем сильную, т. е. решительную, отважную, стойкую, непреклонную, своенравную и страстную, волю в соединении с очень слабым и несостоятельным рассудком. И как раз этим они иногда приводят в отчаяние тех, кто имеет с ними дело, так как воля подобных людей остается недоступной ни для каких доводов и представлений. Мы, оспаривая мнение какого-нибудь человека с помощью доводов и рассуждений и прилагая всяческие усилия к тому, чтобы убедить его, пребываем в уверенности, что мы имеем дело только с его рассудком, но замечаем, наконец, что он не хочет понимать и что мы, следовательно, имеем дело с его волей[243]243
См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Соч.: В 6 т. М., 2001. Т. 2. С. 186–187.
[Закрыть].
Интеллект заставляет колебаться, прежде чем принять решения, прикидывать, взвешивать, и только мешает в тех случаях, когда нужно мгновенно действовать, полагаясь на чутье, инстинкт, на изощренную интуицию, которой природа щедро одарила животных и сильно обделила человека. Интеллект, вмешиваясь в поступки людей, руководя ими, очень часто делает невозможным достижение цели, пугая роковыми последствиями, предлагая бесчисленные варианты и не решаясь остановиться ни на одном[244]244
«…Все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограниченны. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокаиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления» (Достоевский Ф.М. Записки из подполья. М., 1994. С. 452).
[Закрыть].
Как в художественной, так и в философской литературе чаще всего отношение к таким «великим личностям» либо восторженное, признающее важность и необходимость существования подобных индивидов, либо резко отрицательное. В статье «Что такое искусство?» Лев Толстой, говоря о «наглости» и всевозможных «пакостях и гадостях» современных декадентов, символистов, эстетов, которых он с простодушной бранью сваливает в одну кучу, называет Ницше «пророком» этих «пакостников». И тут же замечает, что «идеал сверхчеловека есть в сущности старый идеал Нерона, Стеньки Разина, Чингиз-хана, Робер Макера, Наполеона и всех их соумышленников, приспешников и льстецов»[245]245
См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. XV. C. 202, 203.
[Закрыть].
У Достоевского, напротив, Раскольников рассуждает о необходимости преступлений в истории, о людях, которые на эти преступления решаются и тем самым двигают историю вперед. «Если бы Кеплеровы, Ньютоновы открытия, вследствие каких-нибудь комбинаций, никоим образом не могли стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути, как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан… устранить эти десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству». «…хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, – все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не только великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, т. е. чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками – более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, разумеется, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться»[246]246
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М., 2006. С. 249.
[Закрыть].
Мы действительно видим сплошь и рядом, что великие люди в политике, в истории – очень часто откровенные и циничные преступники. Но почему-то одних история называет великими завоевателями, а других великими убийцами. Гитлер уничтожил огромное количество людей, но разве Александр при завоевании Азии уничтожил меньше? Почему же эти деяния не признаются геноцидом, ведь история знает немало примеров, когда уничтожались целые народы?
И мы часто читаем, что политика не этика, она имеет свои законы, не зависимые от законов нравственных, что «для развития великих и сильных характеров необходимы великие общественные несправедливости» (К.Н. Леонтьев). Политика имеет свою мораль, которая оправдывает рабство, насилие и деспотизм, если их ценой покупается государственная и национальная крепость. «Хорошие люди нередко бывают хуже худых. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющая нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, а Чичиков и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого»[247]247
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С. 54.
[Закрыть].
Но вопрос о роли зла в истории, которое творят великие личности, о нарушении законов морали и человечности, которые они попирают, чтобы добиться своих целей, – вопрос сложный и запутанный. И вряд ли достаточно ограничиться суровым осуждением последних, как это делал Л. Толстой. Животное начало, агрессивность, биологическая сила и энергия для человека так же естественны и необходимы, как кротость, любовь к ближнему, смирение. Наряду со святыми Антонием Падуанским, Франциском Ассизским, Сергием Радонежским, мучеником Христофором существовали Тамерлан, Юлий Цезарь, Иван Грозный, Петр Первый и много других «героев», топивших в крови народы, перекраивавших мир и делавших историю.
Яркий пример такой двойственности – сам Ф. Ницше, философски обосновавший учение о сверхчеловеке. С одной стороны, он доказывает, что человек должен бороться с животным началом в себе, что пока кто-либо ищет в жизни какого-то счастья, он еще не поднял взора над горизонтом зверя, и вся разница лишь в том, что он более сознательно стремится к тому, чего зверь ищет слепым инстинктом. Но ведь так, полагал Ницше, живем мы значительную часть нашей жизни: мы не выходим обычно из животного состояния, мы сами – звери, осужденные, по-видимому, на бессмысленное страдание.
Но с другой стороны, именно животного начала нам не хватает, мало кто решается жить на свой страх и риск, рискнуть собственной жизнью и судьбой, для того чтобы чего-нибудь добиться. Мы знаем немало представителей крупного бизнеса, как на Западе, так и в России, талантливых предпринимателей, создавших свои промышленные и финансовые империи. В основном это хищники, люди цельной, звериной породы, не отвлекающиеся ни на какие интеллектуальные тонкости и проблемы, целенаправленно и упорно идущие вперед, к прибыли, к власти, к господству. Но вряд ли кто будет отрицать, что без этих людей не было бы ни современной промышленности, ни развитой банковской и финансовой систем. К тому же крупные частные собственники – единственная сила, ограничивающая власть государства, его тоталитарные поползновения.
Там же, где преобладает интеллектуальное начало, оно подавляет инстинкты, чутье, «дионисийские» страсти и прозрения. Мало кто может, бросив поводья, довериться божественному зверю в нас. Мы, писал Ницше, скорее, ручные звери, являющие собой постыдное зрелище и изо всех сил старающиеся свой позор скрыть моралью. «Европеец прикрывается моралью, потому что он стал больным, бессильным, увечным зверем, ему есть резон быть “ручным”, ибо он являет собой нечто уродливое, недоделанное, немощное, неуклюжее. Свирепость хищника не нуждается в моральных одеяниях, они нужны лишь стадному животному, чтобы скрыть свою невыразимую посредственность, свой страх и свою скуку от самого себя. Европеец рядится в мораль – признаем это честно! – как во что-то более благородное, значительное, важное – “божественное”»[248]248
Ницше Ф. Сумерки кумиров // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 478.
[Закрыть].
Христианская мораль, полагает Ницше, как и социалистическая, приручает человека, делает его домашним животным, слабым и увечным, убивает в нем дионисийский дух. «Во все времена существовало желание изменить людей к “лучшему” – “улучшение” человека главным образом и называли моралью. Но под этим словом скрывались вещи, совершенно различные по своей тенденции. “Улучшением” именовалось, во-первых, укрощение человека-зверя и, во-вторых, выведение определенной людской породы: лишь данные зоологические термины точно отражают реальности, о которых типичный “улучшатель” нравов, священник, разумеется, ничего не знает, не желает знать… Называть укрощение зверя его “улучшением” – это звучит как издевательство. Кто бывал в зверинце, едва ли поверит, что звери там могут измениться к “лучшему”»[249]249
См. там же. С. 571–572.
[Закрыть].
Животное, звериное начало в человеке во все века и подавлялось, изгонялось и культивировалось, почиталось. Человек не только «Божья тварь», не только «человек Божий», но и «Божий зверь». В этом народном сочетании слов, писал Д. Мережковский, по-видимому, столь обычном, естественном, не чувствуется ли какая-то все еще неиспытанная тайна, какая-то странная, все еще неразрешенная загадка[250]250
См.: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский // Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 98.
[Закрыть]?
Древние греки превращали бога-человека в бога-зверя. Члены человеческого тела так соединяются, переплетаются с членами животных, даже растений – великого Пана с козлом, Пазифаи с быком, Леды с лебедем, Дафны с лавром, что трудно иногда решить, где именно в человеке кончается человеческое, божеское и начинается зверское, животное, даже растительное: одно в другое переходит, одно переливается в другое, как отдельные цвета в радуге.
И у египтян странные боги, изваянные из черно-блестящего гранита, – это полулюди-полузвери: человеческие тела с головами кошек, собак, крокодилов, копчиков или звериные тела сфинксов с человеческими лицами, с тончайшими и одухотвореннейшими улыбками, какие являлись когда-либо на лице человеческом. Они европейскому взгляду кажутся только чудовищными идолами.
В древних религиях, полагал Розанов, Бога надо искать в животном, в естественной жизни, искать его как дающего жизнь. Постоянная перепутанность животного и человека в Боге в восточных религиях сказалась и в Вифлееме, в его таинственных стадах, волхвах, звезде, в Богочеловеке в яслях. Ветхий Завет – трансцендентно-мировой, космический. Новый только морален, слишком слаб и односторонен. Египтяне с их обоготворением животных, иудеи с их ритуально-торжественным воспеванием плотской любви, эллины с их мистическим чувством гармонии Вселенной, с их любовью к прекрасному телу – все это, считал В. Розанов, не только далекое прошлое, но и отражение вечных свойств человеческой природы, все это живет в современном человеке, только затушевано, размыто, скрыто и современным христианством, и современной позитивистской культурой, которая, как ни странно, логически вытекает из христианства.
Великий дефект нашего миросозерцания, считал Розанов, лежит в разрыве и отнесении на противоположные стороны «кажущегося “идеального” и кажущегося же “животного”». Это разделение не только губит животное в нас, т. е. «живое» и самую «жизнь», изъяв из них «идеал», «свет» и «просвещение», но и вносит безжизненность, бессочность, бескровность в наши идеи. «И даже больше: это ввело подлог в наш “идеальный мир”, заменив в нем кровные мысли фикциями… и нет в них ничего, кроме лукавого обмана и нас, поддающихся на этот обман, обольщаемых его “чистотою”. Мы поклоняемся пустоте, и в то же время не поклоняемая больше жизнь, естественно, сперва мутнеет, потом дегенерирует, “обратно развивается”, становится “рудиментарным привеском” высоких фикций нашего бытия»[251]251
Розанов В.В. Религия и культура // Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 238–239.
[Закрыть].
Животность, пол и половые отношения лежат, по его мнению, совсем рядом с истинной религией. Это одна текущая река, одни воды, дающие в одной части спокойную и ясную религию, как наше отношение к Богу, как связь с Небом, как чувство судьбы и провидения, как мистику и трепет перед миром иным, другим миром поверх эмпирической наличной действительности; в другой части влекущие к сближению, к совокуплению, к рождению детей, к бесконечной жизни здесь на земле. Если бы это было возможным, говорит философ, нужно было бы перестроить всю культуру. Христианская религия в ее сегодняшних формах не может быть спасением, очищением человека. Очищение должно исходить от тела, а религия – не из книги, а из ощущения. Нет чувства пола – нет чувства Бога. Новая религия – спасительница и руководительница – должна быть разработана не догматически, не словесно, а стихийно, «ощутительно», в музыкальных тонах. Она должна быть полна тайны, которая заключена в телесности и крови. Если нет тайны в крови, нет ее и в мире, если нет в быке, с какой стати она будет в траве, в камнях? Если нет ее в траве, в камне и в живом, нет и в звездах. Тогда зачем рисовать звезды в храме или на храме, ведь и там, конечно, нет Бога.
«Да, тут есть какая-то незапамятно-древняя, все еще до конца не додуманная, постоянно возвращающаяся, неодолимая религиозная дума человечества, – писал Д. Мережковский, – не только о бесплотной святости, но и о святой плоти, о переходе человеческого в божеское не только через духовное, но и через животное – незапамятно-древняя и, вместе с тем, самая юная, новая, пророческая дума, полная великого страха и великого чаяния: как будто человек, вспоминая о “зверском” в собственной природе, то есть о незаконченном, движущемся превращаемом (ибо ведь животное и есть по преимуществу живое, не замершее, не остановившееся, легко и естественно преобразующееся, переливающееся из одной телесной формы в другую, как утверждает и современная наука о животной метаморфозе), вместе с тем предчувствует, что он, человек, – не последняя достигнутая цель, не последний неподвижный венец природы, а только путь, только переход, только временно через бездну переброшенный мост от дочеловеческого к сверхчеловеческому, от Зверя к Богу»[252]252
Мережковский Д. Толстой и Достоевский. С. 100.
[Закрыть].
Чего больше в сверхчеловеке – животного, плотского, могучей биологической силы и энергии или необычайно острого ума, интеллекта, дара воображения? Человек становится человеком, преодолевая в себе животные страсти и инстинкты, но не теряет ли он при этом нечто не менее важное и глубокое, составляющее обязательную часть его природы?
Если естественный человек является только дочеловеком, еще не человеком, то не есть ли сверхчеловек уже не человек? Можно ли быть сверхчеловеком, оставаясь среди людей, принимая их законы и обычаи? Можно ли быть сверхчеловеком, оставаясь незаметным, скромным тружеником, или сверхчеловеческое начало обязательно проявляется в выдающихся делах или произведениях? Является ли великий злодей сверхчеловеком? Все эти вопросы далеко не праздные, поскольку относятся к самой сути истории, к самым важным вопросам религии и культуры.
Возможно, очень многое можно понять в природе сверхчеловека на примере жизни и личности Наполеона. «Страх, внушаемый Наполеоном, – писала де Сталь, – происходил от особенного действия личности его, которое испытывали все, кто к нему приближался. Я встречала в жизни моей людей, достойных уважения, встречала и людей презренных; но в том впечатлении, которое произвел на меня Бонапарт, не было ничего, напоминающего тех или других. Я скоро заметила, что личность его не могла быть определима словами, которые мы привыкли употреблять. Он не был ни добрым, ни злым, ни милосердным, ни жестоким в том смысле, как известные нам люди. Такое существо, не имеющее себе подобного, не могло, собственно, ни испытывать, ни внушать сочувствия; это был больше или меньше, чем человек: его наружность, его ум, его речи носили на себе печать какой-то чуждой природы. И страх мой не только не уменьшался, но тем более увеличивался, чем чаще я встречалась с ним. Я смутно чувствовала, что никакое движение сердца не может на него действовать. Он смотрит на человеческое существо как на обстоятельство или на вещь, но не как на себе подобного. У него нет ни любви, ни ненависти к людям: он один – все для себя – il n'ya due lui pour lui, остальные существа лишь цифры… Все для него было только средством или целью; ничего непроизвольного ни в добре, ни во зле – никакого закона, никакого отвлеченного нравственного правила»[253]253
Цит. по: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. С. 170.
[Закрыть].
В обыкновенном человеческом себялюбии эгоизм никогда не переступает за известные пределы. Люди маскируют его, прячут, вот почему обыкновенный эгоизм всего чаще приводит людей не к великой трагической гибели, а к благоразумной и благополучной серединной пошлости. В эгоизме Наполеона или в том, что кажется у него эгоизмом, современников поражала изумительная откровенность, бесстыдная или только нестыдящаяся нагота. Подобное себялюбие, писал Мережковский, может быть, страшно, чудовищно и безумно, но уж, во всяком случае, не благоразумно, не срединно, не пошло – не обыкновенный человеческий эгоизм. Его себялюбие переступает за все естественные пределы, в которых возможно сохранение личности: он знает, что должен погибнуть, и все-таки стремится к этой гибели без страха, без сожаления, без раскаяния. От его личности складывается такое впечатление, что он чувствует некую невидимую руку, ведущую его. В его безумном или животном, с точки зрения нравственности, эгоизме есть нечто высшее, потустороннее, первозданное, премирное. В каком-то смысле Наполеон уже и не человек, несмотря на его обычные человеческие слабости и капризы[254]254
«Гёте во время их свидания в Эрфурте 2 октября 1808 года поразила личность Наполеона: Гёте сразу в ней почувствовал нечто как бы сверхъестественное или, по его собственному выражению, “демоническое”. – “Er hatte kein grosseres Erlebniss, als jenes ens realissimum, gennant Napoleon”. – “Во всей жизни Гёте не было большего события, чем это реальнейшее существо, называемое Наполеон”, – замечает по этому поводу Ницше» («Gotzendammerung». 1899). (Цит. по: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. С. 170).
[Закрыть].
Наполеон – герой и художник своей собственной трагедии: сочиняет ее и живет ею. Единственный страх его в том, что он не успеет, не сумеет и сыграть ее, и дожить до конца. Ему и власть нужна не сама по себе, а как великому художнику инструмент, которым он намерен преобразовать мир. «Конечно, я люблю власть, говорил Наполеон, но я люблю ее, как художник, как музыкант любит свою скрипку: я люблю ее за звуки, созвучия, гармонии, которые я из нее извлекаю» (И. Тэн).
Герой «Преступления и наказания» делит всех великих людей на два разряда: первые – те, кто имеют дар или талант сказать в среде своей новое слово. Второй разряд – все, кто преступают закон, разрушители. Если человеку надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то внутри себя, по совести, он может дать себе разрешение перешагнуть через кровь – смотря, впрочем, по идее и по размерам ее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.