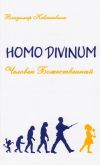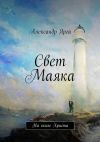Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Как научиться видеть?
У каждого человека – естественного, искусственного и сверхъестественного – есть свой мир, но каждый такой мир еще предполагает параллельные миры. Более того, мир только тогда имеет смысл и значение, если есть параллельные миры. Человек всегда страдает от того, что он не видит себя таким, каким его видят другие. Ему не хватает этой части знания о себе. Человек, смотрящий на меня со стороны, как бы «грабит» меня, похищает у меня ту часть меня, которая мне недоступна. И в то же время я горжусь тем, что у меня есть такие стороны, которые мне самому недоступны, тем, что я есть нечто большее, чем то, что я охватываю своим умственным и физическим взором. Это же относится и к моему миру в целом: должны быть другие миры в этом же, моем, мире. Просто я их не вижу и могу только фантазировать о них, строить гипотезы. Если нет других миров, то мой мир скуден, беден, несмотря на всю сложность, несмотря на многогранность моих переживаний относительно него, на обилие конструкций и теорий, в которых этот мир выражается.
Человек всегда пытался создавать другие миры. Например, мир игры, мир-как-если-бы, с повторением прошлого, с большим количеством жизней, с возможностью все переиграть, потому что никогда еще не поздно. Это значит, что он никогда и не относился с подобающей серьезностью к своему миру. Существование противоречиво, поскольку всегда хочется утвердиться в чем-то конкретном, получить специальность, профессию, устойчивый быт, ясное видение перспектив. И в то же время любая устойчивость и постоянство пугают, поскольку человек видит границы, пугает всякая завершенность, законченность, все время хочется вырваться из застывшей формы, поломать ее. И если нельзя поломать, то человек начинает воображать себе другую жизнь, более яркую, более счастливую, в которой он обладает многочисленными талантами, живет свободно, имеет много друзей и совершает подвиги. Очень много людей часть своей жизни проводят в призрачном, воображаемом мире, и этот воображаемый мир – вовсе не бессмыслица, не излишняя роскошь, он помогает нам принять жесткие условия реального существования, примириться с ними, переносить их. В этом смысле игра является важнейшим элементом человеческого бытия. Игра – это не обыденная жизнь и не жизнь как таковая. Она – скорее выход из рамок этой жизни в специфический мир, имеющий собственное время и пространство. Все играющие знают, что они играют, а не живут, что все, совершаемое ими, совершается как будто взаправду. Но самозабвением, восторгом это «как будто» снимается.
Значительную часть жизни человек живет, играя в существование. И это происходит не только от слабости, от нежелания смотреть в лицо реальности. Он не может постоянно находиться в чистой мысли, в чистой вере, в чистой любви, т. е. в чистом существовании, для него это метафоры того идеального состояния, в котором может находиться только Бог. Но такая жизнь, доступная лишь метафорически, и есть истинная жизнь, игра, «усиливает», кристаллизует наши несовершенные задатки и возможности, хотя бы на мгновения переводя нас в другой режим бытия.
Существование было бы невыносимо без подобной игры, без произвола воображения, так как они снимают противоречие между ограниченностью и специфичностью навязанной человеку роли и бесконечностью желаний, человек хотя бы таким путем пытается достичь чистого существования, бытия. Он разыгрывает свою жизнь, «ставит» ее, как ставят представление на сцене, искусно ее украшает и организует подобно произведению искусства. Он празднует бытие. Этот праздник прерывается цепью отягощенных заботами будней, отграничен от их серого однообразия, возвышен как нечто необычное и редкое. Но недостаточно, по мнению О. Финка, определять праздник через противопоставление будням. Праздник необходим и для будней, и им необходима радость и возвеселение. Боги приходят в человеческую игру и пребывают в ней, захватывая и завораживая нас[302]302
См.: Fink E. Grundph nоmene des menschlichen Daseins. M nchen, 1979. S. 414. «Игра похищает нас из-под власти привычной и будничной серьезности жизни, проявляющейся прежде всего в суровости и тягости труда, в борьбе за власть. Это похищение возвращает нас к еще более глубокой серьезности, к бездонно-радостной, трагикомической серьезности, в которой мы созерцаем бытие словно в зеркале» (Ibid. S. 373).
[Закрыть].
Игра необходима человеку, поскольку она одна может покончить с причинностью, она связана с «вечным» возвращением того, что в реальности нельзя вернуть, того, что было безнадежно утрачено или разрушено. В конце концов, в жизни нет ничего серьезного, если исходить не из жизненных обстоятельств, а из нашего к ним отношения. Если мы к чему-либо относимся серьезно, значит, мы принимаем условия, навязанные нам. Но мы по-настоящему можем работать только тогда, когда работаем «играючи», т. е. легко, без напряжения, а так может работать только мастер, художник своего дела. Для него работа – не тягостная обязанность, а возможность самовыражения, возможность выявления своей свободы. Только такой труд, сопряженный с игрой в самом глубоком смысле этого слова, с игрой как праздником бытия, и является в полном смысле человеческим трудом. Он очеловечивает мир, но не овеществляет человека.
Открытие параллельных миров, миров «как-если-бы», миров-фикций, продуктов свободной деятельности нашей фантазии означает открытие более точного и глубокого мира, чем односторонняя, объективистская научная, физико-математическая его картина. Но для понимания этого нужно отказаться от духа серьезности, так же как для того, чтобы летать, нужно отказаться от духа тяжести. «Дух серьезности имеет в действительности двойственную особенность: рассматривать ценности как трансцендентные данные, не зависимые от человеческой субъективности, и переносить свойство “желаемого” с онтологической структуры вещей на их простую материальную структуру. Для духа серьезности хлеб желаем, например, потому, что нужно жить (ценность, написанная на умопостигаемом небе), и потому, что он является питательным. Результатом духа серьезности, который, как известно, правит миром, оказывается то, что символические значения вещей впитываются, как промокательной бумагой, их эмпирической идиосинкразией; он ставит впереди непрозрачность желаемого объекта и рассматривает его в самом себе как нередуцируемое желаемое»[303]303
Сартр Ж. Бытие и ничто. М., 2004. С. 625.
[Закрыть].
Все вещи являются символами человека как свободного проекта. Но если он не сознает этого, то объекты выступают как немые требования, а он – как пассивное следование этим требованиям. Многие знают, отмечает французский мыслитель, что целью их поиска является бытие; и в той степени, в какой они владеют этим знанием, они пренебрегают присвоением вещей самих по себе и пытаются реализовать символическое присвоение их бытия-в-себе. Но в той же степени, в какой в этой попытке еще участвует дух серьезности, они полагают, что любое видение, любая фикция уже вписана в вещи[304]304
Выше мы уже приводили слова Ницше о том, что нам мешает летать слишком серьезное отношение к самим себе, к своим слабостям, к своей лени, нежелание рисковать, обрекающее нас на серую и бесцветную жизнь.
[Закрыть].
Смотреть на мир с точки зрения «как-если-бы» – значит смотреть на него несерьезно, да и что, собственно, есть в нем серьезного? Все серьезное, закрепленное в категориях, в понятиях, – это только символическое выражение. Правда, чтобы это увидеть, нужно преодолеть самообман, при котором вещи и обстоятельства выглядят самодостаточными, существующими сами по себе.
Описание основных признаков и черт человека, которое мы попытались осуществить, – это только символическое описание того необычайно сложного феномена, каковым является человек, а не открытие его объективных, независимых от этого описания характеристик. Это как бы взгляд со стороны, как бы из другого мира, как бы искоса, когда возможно видение оттенков, перспектив.
В пример можно привести косоглазие. «Тот, кто косоглаз от рождения и торит себе путь в науке, философии или политической практике, тот, кажется, уже соматически предрасположен к двойственному взгляду на вещи, к видению раздельно сущности и видимости, прикрытого и обнаженного. В этом ему способствует диалектика устройства его органа зрения, тогда как остальные мыслители, находясь в плену мифа о нормальности, охотно игнорируют тот факт, что и у них существуют два разных взгляда на одни и те же вещи, а также тот факт, что ни у одного человека не бывает двух совершенно одинаковых глаз. В глазах локализована часть нашей структуры мышления – в особенности диалектика правого и левого, мужского и женского, прямого и кривого»[305]305
Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 176. «– Знаешь ли ты, – спросил Сократ, – для чего нам нужны глаза? – Понятно, – отвечал он, – для того, чтобы видеть. – В таком случае мои глаза, пожалуй, будут прекраснее твоих. – Почему же? – Потому что твои видят только прямо, а мои вкось, так как они навыкате. – Судя по твоим словам, – сказал Критобул, – у рака глаза лучше, чем у всех животных? – Несомненно, – отвечал Сократ, – потому что в отношении силы зрения у него от природы превосходные глаза (Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993. Пир. Гл. 5).
[Закрыть].
Один и тот же человек является носителем разных миров, все зависит от установки взгляда: смотреть снизу или сверху, прямо или искоса.
В творчестве Гоголя, пишет В. Подорога, птицы, животные, люди глядят не прямым взглядом, глаза в глаза, а взглядом косящим, уклоняющимся, т. е. скорее сбоку и в сторону, чем «взглядом говорящим». «Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса…»; «…уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам»; «Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя <…> Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь!» При других косых взглядах Чичикова Собакевич видится и как темного цвета дрозд, и как ореховое пузатое бюро. Все, отмечает Подорога, косят в гоголевском мире, никто не смотрит прямо. Косоглазие Гоголя, «не смотреть в глаза» – оказывается особенной чертой и поведением персонажей.
«Но что подсказывает косоглазие? Конечно, оно – не просто дефект зрения. Важно признать, что пространство обмена взглядами устроено как-то по-иному, чем мы это можем предположить. Косоглазие – следствие со-расположения фигур персонажей. Персонажи лишены объема, автономии и движения, не имеют точно определенной позиции, “места”, они силуэты-на-фоне. Каждый персонаж косит, потому что видит одним глазом, так видит птица, перемещая взгляд вдоль доступного ей радиуса обзора то так, то эдак. Гоголь подражает не человеческому взгляду, а птичьему, и потому, что не знает “человеческий взгляд”. Может быть, гоголевское пространство оттого и плоское, что одноглазое, не имеет интуиции глубины. Иначе говоря, видеть одним глазом более привычно, ведь тут хватит и “птичьей” локомоции. Косить, избегать прямого взгляда – это, в сущности, оставаться в неподвижной позиции. Речь идет об анаморфозах, иначе, о том, как и на что смотреть: издалека, чуть сбоку или вблизи, чуть снизу или чуть сверху, или уж совсем взять боковым зрением под самым острым углом, забраться наверх, опуститься вниз, “косить” левым глазом или правым – именно в таких вот зрительных профилях (“оптических эквивалентах”) и раскрывается видимое, обычному зрению недоступное. Можно сказать, именно то “слепое пятно”, которое не ухватывается, но всегда сопровождает зрительный акт, удерживая на себе внимание»[306]306
Подорога В.А. Мимезис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М., 2006. Т. 1. С. 180–181.
[Закрыть].
Согласно Я. Голосовкеру, круглый глаз Киклопа – это прямолинейное или однобокое, виденье, тупо упершееся в одну точку. Одноглазое зрение – духовно слепое зрение. Но и тысячеглазый Аргус оказался слепым пред глубоким виденьем-знанием Гермеса. Нужен переход к внутреннему зрению, переключение смысла. И возникает образ мудрого Эдипа – сперва зрячего слепца, а затем слепого провидца.
В мифологических образах Эдипа в Колоне и Тире-сия, в этих олицетворениях «зрячей слепоты», ви́дение открывается нам как «ве́дение». В мифе возникает идея мнимой проницательности глаза. Глаза смертного, будь он даже герой, покрывает темная пелена. Поэтому его взгляд ограничен: мир богов и образы бессмертных остаются для него невидимыми. «Но как только бог на мгновение сорвет с его глаз темную пелену, герой увидит богов и мир богов, и самый образ бессмертного бога даже против воли этого бога, если герою содействует более могущественный бог – так говорит Гомер»[307]307
Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 53.
[Закрыть].
По мифу, когда бог снимает с глаз смертного пелену мрака, смертный бросает более глубокий взгляд на бытие – взгляд божества. Таков час просветления. С глаз начинается магическое лицезрение, узнавание и оживление мира. Но нужны особые глаза, особое видение, которым обладает только человек, потому что когда на нас смотрит природа, вдруг ожившая, получившая глаза, – это колдовство, бесовщина, это Вий, которому подняли веки. Отсюда «не гляди!», ибо взглянуть – значит умереть[308]308
«Вот почему глаз косящий, не прямой, отклоняющийся от упертого взгляда Другого, и есть глаз жизни» (Подорога В.А. Указ. соч. С. 277).
[Закрыть]. Животное смотрит, но не видит так, как видит человек, не обладает человеческим взглядом; ни одно животное не выдерживает человеческого взгляда. Все, что, не будучи человеческим, смотрит, вызывает ощущение потусторонней жути. Отсюда древний запрет на изображение лица, на прорезание и оживление глаз. «У первобытных статуэток эпохи палеолита отсутствуют глаза, порою – несмотря на довольно разработанные физиономические подробности, порою же – вместе с невнятным, как бы изъятым, предусмотрительно и нарочито затертым или стесанным лицом (для того, чтобы оно не смотрело и, соответственно, не оживало кому-либо на беду и до срока). Появление глаз совпадало с наличием в камне души и жизни, с его переходом в состояние полноценного человека ли, беса ли. Древнее священнодействие по оживлению истукана посредством нанесения признаков лица и, особенно глаз, – методом от обратного – восстанавливается с помощью кукол, абсолютно безглазых, а иногда и безликих, существовавших до последнего времени у ненцев, хантов, якутов и других народов. Соответственно, рисование глаз было связано с воскрешением прежде мертвой фигурки»[309]309
Терц А. В тени Гоголя. С. 384. «Безликость деревенской куклы – пережиток анимистических воззрений славян: кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых духов и, значит, в любом случае безвредным для ребенка. Кукла должна была приносить своей маленькой хозяйке благополучие, радость жизни и здоровье, а не служить вместилищем злых духов. (В доме не должно быть лишних глаз, ведь глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, – все равно есть врата, через которые происходит связь с космическими силами, светлыми и темными, следовательно лучше не открывать эти врата» (Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. М.: Культура и традиции, 2007. С. 18–23).
[Закрыть].
Совсем иное дело взгляд человеческий, встреча двух пар глаз – здесь уже не просто смотрение, не просто видение, но таинство откровения. Знание, основанное на откровении, писал С. Франк, резко отличается от обычного типа знания, прежде всего потому, что здесь идет речь об откровении непостижимого; то, что при этом открывается, не перестает быть непостижимым, оно открывается в своей непостижимости. Другой не перестает быть для нас тайной, но это явленная тайна, которая соприкасается со мной, вторгается в меня, мной переживается через ее активное воздействие на меня. Все это дано уже в любом чужом взоре, направленном на меня, в тайне живых человеческих глаз, на меня устремленных. «Встреча двух пар глаз, скрещение двух взоров – то, с чего начинается всякая любовь и дружба, но и всякая вражда, – всякое вообще, хотя бы самое беглое и поверхностное “общение” – это самое обычное, повседневное явление есть, однако, для того, кто хоть раз над ним задумался, вместе с тем одно из самых таинственных явлений человеческой жизни, – вернее, наиболее конкретное обнаружение вечной тайны, образующей самое существо человеческой жизни. В этом явлении совершается подлинное чудо: чудо трансцендирования непосредственного самобытия за пределы себя самого, взаимного самораскрытия друг для друга двух – в иных отношениях замкнутых в себе и только для самих себя сущих – носителей бытия»[310]310
Франк С. Непостижимое. С. 354. «Взгляд не просто исходит изнутри, он позволяет судить о своей глубине. Именно поэтому для влюбленного нет ничего приятнее первого взгляда возлюбленной. Однако надо быть начеку. Если бы мужчины умели измерять глубину женского взора, многих мучительных ошибок удалось бы избежать. Иногда первый взгляд бросают, будто подают милостыню. Его едва хватает на то, чтобы быть взглядом – и только. А бывает и другой, исходящий из самых глубин сокровенного, из недр женственности. Он словно всплывает со дня океана» (Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997. С. 544).
[Закрыть].
Однако такое откровение возможно не только при встрече двух пар глаз, оно неявно содержится в любом взгляде человека на мир. Каждая вещь представляет собой игру, которую ведет с ней сознание, игру оттенков, нюансов, горизонтов, в которых любая вещь всегда дана нам. И в то же время существующая вещь содержит в себе себя, не сводимую к ее существованию в качестве предмета познания. Каждая вещь есть вещь в себе. Она таинственна и неисчерпаема, как таинственен и неисчерпаем реальный мир, когда он сталкивается с нашим сознанием, в этом столкновении они взаимно обогащают друг друга. Подлинный реализм – это не «объективное» описание того, что существует в мире помимо нас, а то, что открывается нам и только нам в своей неисчерпаемости, поскольку мы являемся живыми и неисчерпаемыми в своем существовании[311]311
Г. Адамович писал, что если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. «Глупые теперешние романы, где все “совсем как в жизни”, глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее любой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее – если в нее вглядеться – самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным – и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, чтобы ощутить, до чего не понято наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке» (Адамович Г.В. Комментарии. Wash., 1957. С. 94).
[Закрыть].
Конечно, в каждой вещи есть нечеловеческое измерение. Если мы оставим наши дела и направим на нее метафизическое незаинтересованное внимание, она предстает тогда, считал Мерло-Понти, враждебной и чуждой, перестает быть нашим собеседником, становится непреклонно молчащим иным, ускользает от нас, как ускользает сокровенность чужого сознания. И все-таки ее объективное бытие не является полным бытием. Кажется, что любая вещь обладает твердым и устойчивым набором свойств; например, камень является белым, твердым, теплым, кажется, что мир кристаллизуется в нем, что этот камень не нуждается во времени, чтобы существовать, что он полностью разворачивается в это самое мгновение, что всякий избыток существования будет для него новым рождением, и в какое-то мгновение хочется верить, что мир, если он вообще есть что-то, может быть лишь суммой вещей, подобных этому камню, а время – суммой свершенных мгновений. Но как только мы принимаем во внимание наше существование, нам открывается тот факт, что вещи и мгновения могут сочленяться друг с другом, формируя мир лишь посредством двусмысленного бытия, которое мы называем субъективностью[312]312
«…Порой говорят, что вещь и мир таинственны. Они действительно таинственны, если не ограничиваться их объективным аспектом. И если поместить их в поле субъективности, они даже абсолютно таинственны, и это таинство не несет в себе никакой надежды на прояснение, причем не из-за временных пробелов наших знаний, поскольку тогда бы это таинство перешло просто в разряд проблем, но потому, что оно не принадлежит строю объективного мышления, где существуют определенные решения» (Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 2000. С. 427).
[Закрыть].
Вещи являются сгущениями среды, и любое отчетливое восприятие вещи живет за счет предварительного общения с определенной атмосферой. Эта атмосфера подобна атмосфере Святого причастия: как последнее – не только символ, но есть реальное присутствие Бога, который таким образом становится достижимым для тех, кто ест освященный хлеб, будучи внутренне к этому подготовлен, так же и наше восприятие вещей само по себе не что иное, как определенный способ бытия в мире, из которого мы вырастаем, который нас окружает и формирует, наполняя нашу душу, наше сознание красками, звуками, очертаниями хрупких или громоздких форм, создает чувство дома, родины, умеряет неприкаянность нашего духа. Но и мое существование, воплощенное в мире, формирует его, мой взгляд делает возможным наличие цвета, игру светотеней, движение моей руки поддерживает форму объекта, мое тело является центром, на который замкнуты, в конечном счете, все силовые линии мира. «Если качества излучают вокруг себя определенный способ существования, если они обладают способностью очаровывать и тем, что мы только что назвали ценностью Святого причастия, то именно потому, что ощущающий субъект не полагает их как объекты, он сопричастен им, он делает их своими и находит в них принцип своего актуального существования»[313]313
Там же. С. 274. «…Несказанно большее содержание заключается в том, как называются вещи, чем в самих вещах. Репутация, имя и внешний облик, значимость, расхожая мера и вес какой-либо вещи – поначалу чаще всего нечто ложное и произвольное, наброшенное на вещь, как платье, и совершенно чуждое ее сущности и даже ее коже, – постепенно как бы прирастают к вещи и врастают в нее вследствие веры в них и их дальнейшего роста от поколения к поколению; первоначальная иллюзия почти всегда становится, в конечном счете, сущностью и действует как сущность!» (Ницше Ф. Веселая наука. С. 550–551).
[Закрыть].
Из этих качеств наше «очарованное» существование, укорененное в мире, и творит то, что мы называем поэзией мира. Мы не познаем мир как нечто лежащее по ту сторону существования, мы его проживаем, он живет и изменяется вместе с нами, вместе с нами стареет и ветшает и в то же время постоянно остается новым, наполненным внутренним поэтическим смыслом, который ему присущ самому по себе и который мы открываем, поскольку ему причастны[314]314
«Мы не являемся набором глаз, ушей, тактильных органов с их церебральными проекциями… Как все литературные произведения являются только частными случаями возможных перестановок звуков, из которых складывается язык, и их буквенных знаков, так и свойства или ощущения представляют собой элементы, их которых состоит великая “поэзия” окружающего мира» (Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle a.d.S., 1921. S. 150–151).
[Закрыть].
Поэзия как наше человеческое произведение открывает поэзию мира, она приводит все сущее к открытости, к истине и тем самым к «свечению и к звону» (М. Хайдеггер). Мир независимый, гордый, окружающий нас неприступной стеной, вдоль которой мы ходим, отколупывая от нее какие-то кусочки и называя их истинами, такой мир – только метафора, метафора очень плодотворная и полезная для существования. Но в действительности мир есть продукт нашего воображения, наших восприятий, нашего творчества, наших переживаний, нашей смертности, наших надежд. «Наружа, “пространственная” и “объективная” внеположенность, настолько привычная и знакомая, что кажется самим образцом привычности как таковой, никогда не могла бы нам явиться без граммы, без различания (differance) как овременения, без неналичия другого, вписанного в самый смысл наличия, без отношения к смерти как к конкретной структуре живого настоящего. А иначе метафора была бы под запретом»[315]315
Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 199.
[Закрыть].
Наше существование независимо от наших личных усилий и способностей является художником, осваивающим мир. Объективное наукообразное мышление пренебрегает субъектом восприятия. Оно оперирует готовым миром, миром как средой для всякого возможного события и трактует восприятие как одно из этих событий. Однако мир никогда «не готов», никогда не является устоявшимся, завершенным, он каждый раз рождается в каждом новом восприятии, новое произведение искусства, так же как новая научная теория, – это рождение нового мира и, соответственно, рождение нового человека – части мира, который может теперь видеть мир так, как никогда его еще никто не видел.
Мир не представляет собой некоторое неизменное целое, он усложняется, развивается, совершенствуется с каждым новым появившимся сознанием, каждое восприятие есть своего рода новое творение или новое переустройство мира, случающееся в каждое мгновение[316]316
«Мое пришествие в мир не кануло, не сгинуло в небытии, как это бывает с событием объективного мира, оно сразу привело в действие будущее, – не так, как причина детерминирует следствие, но так, как ситуация, стоит ей завязаться, неизбежно приводит к развязке. Впредь имела место новая среда, мир обрел новый пласт значений. В доме, где рождается ребенок, все предметы меняют смысл, они начинают ждать от него какого-то еще неопределенного обращения, налицо кто-то иной, более того, новая история – долгая или короткая – обрела точку отправления, был открыт новый регистр. Мое первое восприятие заодно с горизонтами, его окружавшими, – это всегда настоящее событие, незабываемая традиция; даже в качестве мыслящего субъекта я есмь еще и это первое восприятие, продолжение той самой жизни, которой оно положило начало. В некотором смысле в жизни не существует отдельных актов сознания или отдельных переживаний, так же как в мире не существует отдельных вещей» (Мерло-Понти. Феноменология восприятия. С. 516).
[Закрыть].
То, что наше существование является художником, видно на примере живописи. Живопись дает видимое бытие тому, что обычное заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства», чтобы обладать объемностью мира. Это всепоглощающее зрение, по ту сторону визуальных данных, открыто на ткань бытия, в которой свидетельства чувств расставляют лишь пунктирные линии или цезуры и которую глаз обживает, как человек свой дом. Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Мы видим больше того, чем нам предлагает физиология нашего глаза, его разрешающие способности. Глаз художника способен к метафизическому видению, к открытию внутренней невидимой сущности вещи, к выражению всех нюансов, оттенков, охватить и учесть которые просто невозможно, если исходить из физиологических или анатомических возможностей зрения. Художник видит не просто вещи, но то, что делает вещи вещами, видит атмосферу, в которую они погружены, атмосферу жизненного мира, которая есть самое непосредственное выражение бытия. Так, Моцарт, по утверждению его современников, видел всю свою симфонию сразу, видел во всем ее объеме и целостности, как яблоко, лежащее на ладони.
Художник – это человек, который видит все в «первом свете». В этом видении рвутся старые, привычные ассоциации и действительность сверкает свежими красками, которые кажутся парадоксальными. Он видит вне готовых стереотипов, которые наваливаются на наше восприятие, гасят его, переводят в общеизвестные штампы и формализмы. Когда мы говорим себе: «Это оригинальное настоящее, этого никогда раньше не было», то этот самый момент уже поглощается прошлым, настоящее исчезает, как только мы пытаемся схватить его и выразить. В оригинальном видении мир всегда нов, поскольку это живое восприятие, состояние непосредственной актуальности, здесь нет мертвого прошлого, с которым мы сравниваем настоящее. Здесь новое – не просто в сравнении со старым, не в тени старого и не на фоне старого. Это принципиально новое видение: мы вдруг видим мир так, как будто увидели его впервые, переживаем удивительный подъем духа и чувствуем, что происходит наше слияние с миром и понимание его изнутри. В эти мгновения и рождаются новая мысль и сам человек как творец.
Откуда же взялось у нас убеждение, что за пределами того, что мы непосредственно видим, за пределами данной картины есть еще нечто иное? – спрашивал Франк. Откуда само понятие «нечто неизвестное», понятие неведомой реальности, недоступного предмета? Откуда мысль о неведомом, если все дано и вне данного в сознании вообще нет ничего? Но этот вопрос, считал Франк, некорректен, ибо «неведомое», «запредельное» именно в этом своем характере неизвестности и неданности дано нам с такой же очевидностью и первичностью, как и содержание непосредственного опыта.
Допустим, перед нами, рассуждал Франк, не широкий горизонт местности с бесконечным множеством очертаний, цветов и всяких иных впечатлений, а что-либо гораздо более простое и легко уловимое. Я стою на расстоянии одного шага от стены моей комнаты, на которой висит небольшой портрет в гладкой и узкой черной раме. Я сосредоточиваю свой неподвижный взор на портрете и отдаю себе отчет в том, что мне в данный момент «непосредственно дано». Я вижу комбинацию линий и пятен на белом фоне, замкнутом узкой черной лентой рамы; эта рама окружена, в свою очередь, красным фоном обоев. Этот последний фон уже не имеет определенных очертаний, ближе к центру зрительного поля он дан отчетливо, дальше от него он становится все более смутным, расплывается и без всяких точных границ «сходит на нет». Больше ничего мне не дано (если я допущу для простоты отсутствие всяких иных, внешних и внутренних ощущений). «Данное мне» исчерпывается, следовательно, определенным внутри и отграниченным извне образом обрамленного портрета и неопределенным, не имеющим уловимых очертаний его фоном. И я совсем не обязан знать, что этот фон есть именно стена, граничащая с другими стенами и образующая вместе с ними, полом и потолком часть дома, который, в свою очередь, граничит с другими домами и образует город, окруженный опять-таки полями, и т. д. Поскольку я все это знаю, это есть непосредственное знание – знание, явно выходящее за пределы данного и потому при рассматриваемом состоянии знания, когда все мое зрительное поле сплошь заполнено образом на каком-то фоне, совершенно недостоверное. Если меня схватят, лишат на время сознания и затем пробудят, поставив лицом к этому портрету на фоне и не давая мне возможности повернуть головы, то я и фактически не буду знать, где я нахожусь и что меня окружает. Но все-таки помимо того, что я вижу, я буду знать с полной достоверностью еще нечто: этот фон, границ которого я не вижу, либо имеет границы, т. е., в свою очередь, окружен чем-то иным, либо не имеет границ и тогда простирается в бесконечность; в том и другом случае мне ясно, что мир не кончается, не исчерпывается тем, что непосредственно видно. Видимое или данное непосредственно сознается как часть имеющегося, хотя и не данного, безграничного целого[317]317
См.: Франк С.Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания // Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 125–126.
[Закрыть].
Таким образом, мы всегда «видим» не только непосредственно данные образы, но и безграничный, не-данный, мыслимый фон. Это как бы косвенное восприятие, благодаря которому можно с абсолютной достоверностью видеть, или точнее иметь, бесконечное бытие за пределами «непосредственно видимого». Мыслимый безграничный фон отличается от всего остального «мыслимого», от всех частных содержаний, которыми можно его заполнить, тем, что он неотмыслим, т. е. не может быть устранен. При всем возможном неведении о том, что именно лежит за пределами видимого портрета на красном фоне, можно как бы некоторым косвенным восприятием с абсолютной достоверностью «видеть» – точнее говоря, не видя, «иметь» – это безграничное бытие за пределами непосредственно видимого, иметь его в качестве чего-то вообще; содержание его можно не знать, но присутствие, наличность его узнается с очевидностью. Таким образом, любое данное или совокупность данных есть лишь часть пространственно безграничного целого, которое непосредственно «имеется» и небытие которого немыслимо, несмотря на то что оно никогда не дано. Оно не дано и даже никогда не может быть дано только потому, что оно непосредственно имеется как основа и фон всего данного[318]318
См. об этом: Некрасова Е.Н. Сознание и бытие в философии С. Франка // Феноменология сознания: проблемы и альтернативы. М., 1998.
[Закрыть].
Живопись открывает загадочные свойства работы нашего сознания, нашей способности видеть. Обычный вопрос о том, где находится картина, на которую я смотрю, вызывает большие трудности. Потому что я не рассматриваю ее, как рассматривают вещь, я не фиксирую ее в том месте, где она расположена, мой взгляд блуждает и теряется в ней, и я вижу, скорее, не ее, но сообразно ей или с ее участием[319]319
См.: Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 17.
[Закрыть].
Мы видим не картину, а с помощью картины. Наша чувственность, в данном случае наша способность видеть, есть продукт искусства. То «мгновение мира», отмечал Мерло-Понти, которое Сезанн хотел запечатлеть и которое давно уже принадлежит прошлому, его картины продолжают из нас извлекать, и его гора Сент-Виктуар вновь и вновь обретает существование в разных точках мира – иное, но не менее полновесное, чем среди суровых скал близ Экса. Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое – живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, обладающих действительностью, и немых значений. Живопись пробуждает в обыденном видении дремлющие силы, тайну предсуществования.
Таким образом, видение (а живопись только одно из частных способов выражения возможностей человеческого видения) – это данная мне способность быть вне самого себя, изнутри участвовать в артикуляции Бытия, и мое Я завершается и замыкается на себе только посредством этого выхода вовне. Сознание свободно распространяет зрительные образы за пределы их строгого смысла, оно пользуется ими, чтобы выразить свои спонтанные действия, как свидетельствует о том семантическая эволюция, наделяющая все более широким смыслом понятия наглядности, очевидности или естественного света. «Так что нельзя сказать, что человек видит, поскольку он есть Дух, или что он есть Дух, поскольку видит: видеть так, как видит человек, и быть Духом – это синонимы»[320]320
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 184.
[Закрыть].
Гуссерль в «Картезианских размышлениях» писал, что каждое cogito как сознание, хотя и есть в самом широком смысле полагание того, что подразумевается в нем, однако это полагание всякий раз больше того, что в тот или иной момент дано как полагаемое эксплицитно. Это содержащееся во всяком сознании «сверх-себя-полагание» должно быть рассмотрено как его существенный момент. Оно называется и должно называться избыточным полаганием. Но если в отношении обычного восприятия это «сверх-себя-полагание» непосредственно не проявляется, то в произведении искусства подобная исключительная и парадоксальная способность нашего сознания представлена во всей своей мощи.
Сознание создает атмосферу, в которой видятся вещи, и без этой атмосферы невозможно никакое видение, хотя сама эта атмосфера непосредственно не видна. Мы, считал Франк, только потому и не замечаем этого, что бытие есть безусловно всеобъемлющий фон и всепронизывающая среда всего нашего опыта, и именно потому, подобно всему неизменно постоянному, безусловно привычному, вездесущему, оно естественно ускользает от нашего внимания. Но стоит нам воспринять его как таковое, как бы раскрыть глаза и увидеть его, как мы ощутим вечное и вездесущее присутствие в нашем опыте, во всей нашей жизни безусловно непостижимой тайны. «Философия есть как бы ориентирование в беспредельно разлитой атмосфере бытия, как в общем фоне, на котором вырисовывается предметное бытие и особенностями которого определена сама его предметность. Ее можно было бы сравнить с пленэризмом в живописи – с искусством воспринимать и изображать самый воздух, а не отдельные предметы без учета того вида, который они имеют, погруженные в воздух; точнее говоря, она воспринимает и изображает конкретное целое, в отношении которого “предметы” суть лишь обусловленные им частные элементы»[321]321
Франк С.Л. Непостижимое. С. 304–305.
[Закрыть].
Не нужно выходить за пределы этой атмосферы или занимать позицию вне ее. Достаточно, живя в ней и как бы вдыхая ее, держать открытым свой умственный взор. Это «вдыхание» и есть главное условие вдохновения[322]322
«То, что называется вдохновением, следовало бы понимать буквально: действительно существуют вдохи и выдохи Бытия, дыхание в Бытии, действие и претерпевание – настолько мало различимые, что уже неизвестно, кто изображает, а кто изображаем» (Мерло-Понти М. Око и дух. С. 22).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.