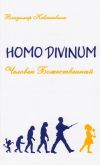Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Часто единственный путь к этому – преступление. Только пройдя через него, можно стать нравственным. Только осознав в себе дьявола, можно обратиться к Богу. Преступление – не обязательно само деяние, но даже готовность к нему, предрасположенность однажды взять и столкнуть все это благоразумие одним махом единственно с тою целью, чтоб нам опять по своей воле пожить, ощущая ненависть ко всем тем ценностям и идеалам, которые разделяются огромным большинством людей, и холодное презрение к этому огромному большинству. Как мир без зла, без этой рельефной тени, был бы плоским и безрадостным, так и человек без этой внутренней раздвоенности, без трагичности существования будет скучным, пресным, банальным индивидом, «штифтиком» или клавишей, по которой монотонно и неотвязно стучит палец судьбы[184]184
«Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques, как-то муравьям, баранам и проч. и проч.» (Там же. С. 460).
[Закрыть].
Лучше уж мучиться этой разорванностью, страдать, зато пребывать в ясном сознании того, что происходит с тобой и миром вокруг. «А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, – да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два»[185]185
Там же. С. 461.
[Закрыть].
Лучше жить тяжелой трудной жизнью, в которой ничего не может быть заранее рассчитано, ошибаться, страдать, любить, ненавидеть и постоянно мучиться от собственной глупости и несовершенства, но все-таки жить. «И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет»[186]186
Там же. С. 452.
[Закрыть].
Если законы природы требуют, чтобы мы жили в мире и согласии друг с другом, и с высоты этих законов ложь, грубость, насилие считались бы патологией, чем-то неестественным, то человек был бы приговорен к добру. И оно рано или поздно восторжествовало бы в мире, несмотря на сопротивление всевозможных мракобесов, самолюбивых эгоистов и завистников. Рано или поздно общество совместными усилиями его граждан исправило бы человеческую природу и постоянно корректировало бы, гасило время от времени возникающие отклонения. Но почему-то философы пишут: «Что бы ни совершал человек и чего бы ему ни удавалось добиться, какие бы технические, социальные, умственные усовершенствования он ни вносил в свою жизнь, но принципиально, перед лицом вопроса о смысле жизни, завтрашний и послезавтрашний день ничем не будут отличаться от вчерашнего и сегодняшнего. Всегда в этом мире будет царить слепая случайность, человек всегда будет бессильной былинкой, которую может загубить и земной зной, и земная буря, всегда жизнь его будет кратким отрывком, в который не вместить чаемой и осмысляющей жизнь духовной полноты, и всегда зло, глупость и слепая страсть будут царить на земле»[187]187
См.: Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 161–162.
[Закрыть].
И вероятно, если бы человеку пришлось выбирать между миром, в котором царит постоянное спокойствие и счастье, и миром, где царят зло и глупость, он выбрал бы последний мир, потому что в этом мире что-то зависело бы от него, потому что его не устраивает «общее стадное счастье зеленых пастбищ». Так же как нельзя подарить свободу, а можно только завоевать, так же нельзя воспитать человека, лишенного зла. Только он сам, через преступления, муки, страдания, наказания может иногда достигать состояния духовной просветленности, благодати и внутреннего покоя. И за эту возможность он готов пойти против всех законов, т. е. против рассудка, чести, покоя, благоденствия. Человеку не нужны ни счастье, ни благоденствие, если он их сам не завоевал. «Может быть, страдание-то ему ровно настолько же выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; опросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать тогда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я… за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится»[188]188
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 461. «Свободный человек, но еще более свободный дух безжалостно попирает то презренное благополучие, которое видят в своих мечтах торгаши, христиане, коровы, бабы, англичане и прочие демократы. Свободный человек – воитель» (Ницше Ф. Сумерки кумиров // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 608).
[Закрыть].
О пользе и вреде истории
Всякая философия истории – это, согласно Ницше, попытка раскрыть, увидеть тот первичный миф, то неисторическое ядро истории народа, которое сохраняется в бесчисленных последующих изменениях и разветвлениях культуры. Историю, по Ницше, могут вынести только сильные люди, слабый же, тот, кто, не осмеливаясь быть самим собой, постоянно обращается к истории за советом, из трусости постепенно становится актером и играет свою роль всегда плохо и плоско. Все это происходит не только с отдельным человеком, но и с народом, когда он начинает понимать себя исключительно исторически и сокрушать вокруг себя мифические валы и ограды, с этим обычно соединяется решительное обмирщение и разрыв, сознательный или бессознательный, с метафизикой, господство натурализма, позитивизма, преобладание наивных усилий сделать из истории науку, подобную наукам о природе, выявляющим наиболее общие положения. Но если в последних эти общие положения, законы есть самое главное, то в истории это совершенно бессмысленно. Во всех своих работах, начиная с «Рождения трагедии…», Ницше неустанно говорит о том, что некритическое отношение к историческому наследию приводит к фальшивым интерпретациям, к поверхностному истолкованию настоящего, к угасанию творческой энергии исследователя. Такое отношение к истории не позволяет увидеть растущую опасность – появление нигилизма, крушение веры, вслед за которой нестройной чередой потянутся обвалы, крушения, катастрофы, «но кто сегодня способен угадать всю полноту грядущих потрясений, чтобы взять на себя роль пророка надвигающегося мрака, когда наступит солнечное затмение, равному которому не знала земля?»[189]189
Ницше Ф. Веселая наука // Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 463.
[Закрыть].
С Ницше начинается радикально новое отношение к истории, можно сказать, радикальное переосмысление исторического. Человек, с его точки зрения, не только и не столько историческое существо, он существо космологическое, мифологическое, и это начало в нем гораздо значительнее и первичнее исторического чувства, более того, последнее держится на этих онтологических для него основаниях[190]190
«Огромный период, предшествующий началу истории, удобнее всего назвать космологическим. Этому периоду свойственно мифопоэтическое мироощущение – тождество микро– и макрокосмоса, признание негомогенности пространства и времени – наличие сакрального центра мира, цикличность времени и т. д. Но примерно в 1-ом тысячелетии до нашей эры круг народов и государств Европы и Азии приблизился к историческому существованию. Появились раннеисторические описания на стыке мифа и науки. “Для осуществления перехода нужно было деперсонифицировать героев старой космологической мистерии, придать более абстрактный вид операциям, связывающим этих героев в мифе, расслоить старые мифопоэтические континуумы и приложить к их составным частям результаты абстрагирования мифопоэтических операций, допустить более свободную игру, участниками которой были бы элементы мира, а правила определялись бы новыми абстрагированными операциями… привести полученные результаты в соответствие с эмпирическими данными за счет выделения феноменального и абсолютного, трансцендентного аспектов бытия, и, наконец, проецировать достигнутые результаты на область эпистемологии. Превратить категории времени и пространства из содержательно-оценочных характеристик в формальные рамки описания» (Топоров В.Н. От космологии к истории. Тезисы докладов летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970. С. 23).
[Закрыть].
Декосмологизация высших божественных сущностей и введение их в историю характерно для иудаизма и христианства. Человек, утративший связь с космологией, с прежней гармонией макро– и микрокосмоса, со вселенским ритмом, еще не находит достаточной опоры в истории. Отсюда чувства неприкаянности, одиночества, безнадежности, породившие эсхатологические видения Исайи и следующих за ним пророков, почувствовавших ужас первых встреч с историей.
Ощущение неприкаянности и безнадежности появляется и в те периоды, когда чувство историчности вытесняет или полностью подавляет собой космологическое ощущение причастности к вечности, когда исчезает ощущение вневременности, вечности существования, когда как бы сама жизнь человечества лишается своего онтологического статуса и все устойчивое и непреходящее тонет в постоянной изменчивости и всякие перспективы теряются в неопределенной дали.
Мы должны, по Ницше, считать способность чувствовать в известных пределах неисторически более важной и более первоначальной, это фундамент, на котором может быть построено нечто правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь создается лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с уничтожением этой атмосферы. Правда, благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю человек делается человеком, но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, а без упомянутой оболочки внеисторического он никогда бы не отважился начать человеческое существование. Так, влюбленный чувствует себя слепым, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения; многое он не может больше ценить и почти совсем не ощущает его: он спрашивает себя: неужели он так долго был рабом чужих слов, чужих мнений. Это самое несправедливое состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения. И все-таки это состояние, будучи глубоко неисторическим и антиисторическим, является лоном, порождающим всякое великое деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоюет свободы, если они в подобном внеисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней[191]191
См.: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 165.
[Закрыть].
Ницше часто говорил, что человеческая способность действовать перевешивает его способность забывать, т. е. способность освобождать себя от сознания и отвечать единственно животному инстинкту; в действительности же Ницше верил, что человеческое забывание совершенно отлично от животного забвения. Действительно, не имеет смысла говорить о способности животного забывать, поскольку у животного нет предшествующего побуждения запоминать. Дикий зверь, отмечает Ницше в начале работы «О пользе и вреде истории для жизни», живет в вечном настоящем, не зная ни пресыщения, ни боли, без сознания и, следовательно, без присущего только человеку порыва забыть, который является актом воли.
Таким образом, пишет Ницше, человек, размышляя о диком звере, может спросить животное: «“Почему ты мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смотришь на меня?” Животное не прочь ответить и сказать: “Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать”; – но тут же оно забывает и этот ответ и молчит; что немало удивляет человека». И человек удивляется «также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним»[192]192
Там же. С. 161.
[Закрыть]. Одним словом, человек живет исторически; он осознает свое непрерывное становление, умирание всего своего настоящего в фиксированном прошлом. Прошлое постоянно перед человеком как образ чего-то сделанного, законченного, завершенного, неизменного. Неподатливость этого прошлого – источник человеческого самообмана и движущая сила его собственного самоистязания.
Человек хотел бы «войти» в свое настоящее, прожить его сразу же и полностью – это его преобладающий импульс. Но «все увеличивающаяся тяжесть прошлого… затрудняет его движение». Это прошлое перемещается вместе с человеком; оно как «невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть». Но человек завидует зверю, который не несет такую тяжесть с собой, или ребенку, «которому еще нет надобности отрекаться от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего»[193]193
Там же. С. 161–162.
[Закрыть].
Ребенок все-таки отличается от зверя, поскольку беспамятным раем он может обладать только некоторое время. Как только он выучивает слово «однажды», он подвергается всей «борьбе, страданию и пресыщению человечества» и знанию о том, что человеческое существование в действительности лишь «никогда не завершающееся imperfectum». Только смерть приносит человеку желанное забвение; «она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т. е. вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием»[194]194
Там же. С. 162.
[Закрыть].
Задача созидающего человека – научиться забывать, «стоять на одной точке… без головокружения и страха», не отвергать прошлое и себя, каковым был в прошлом, но забывать его. Крайним примером был бы человек, лишенный способности забывать, осужденный видеть повсюду только становление. Такой человек недолго верил бы в свое собственное существование, но вместо этого он видел бы во всем пролетающее прошлое в вечной непрерывности и потерял бы себя в потоке становления. Без забывания невозможно никакое действие, немыслима никакая жизнь; всякая органическая жизнь, считал Ницше, нуждается не только в свете, но и в темноте. «Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немыслимо жить без возможности забвения вообще»[195]195
Там же. С. 162–163.
[Закрыть]. «Проблема» зверя в том, что он не помнит; проблема человека в том, что он помнит все слишком хорошо. Из этой способности помнить свое прошлое возникают все собственно человеческие конструкции. Дело не в том, что человек нуждается в памяти; и великолепие, и проклятие человека в том, что он неизбежно обладает памятью. Следовательно, хочет он того или нет, он обладает историей. И вопрос тогда состоит в том, не является ли эта способность помнить слишком развитой и не стала ли она угрозой самой жизни. И не столь важно, разрушается ли история, сколько важно научиться оправдывать человека, забывающего ее.
«…Человек предпочитает помнить особым образом, – пишет Х. Уайт, комментируя мысли Ницше, – и способ, который он выбирает, чтобы вспомнить что-то, свидетельствует либо о его деструктивной, либо о конструктивной позиции в отношении самого себя. Взгляд назад на свое прошлое является способом определения своего настоящего и своего будущего; то, как человек лепит прошлое, то есть образ какого рода он придает ему, и приуготовляет человека для его будущего. Он может решить либо героически шагнуть в будущее, либо вернуться в него, но ни того, ни другого он не может избежать. Проблема тогда состоит в очищении этой способности воспоминания от любого саморазрушения, которое могло наполнить ее. Забывание также является человеческой силой, присущей только человеку. Зверь не волен забывать, он просто довольствуется состоянием временного бессознательного. Человек же, напротив, и забывает, и помнит, и эта дихотомия является уникальной, человеческой; человеческое забывание отличается от животного, поскольку она требует стереть следы памяти, которые разрешают человеку бесплодно тратить время, оставаясь в собственном прошлом»[196]196
Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 401.
[Закрыть].
«Неисторическим» Ницше называет искусство и способность забывать и замыкаться внутри известного горизонта, а «надысторическим» – силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления и сосредоточивают наше внимание на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного – на искусстве и религии. Наука везде видит только совершившееся и историческое и нигде не видит существующее, вечное. Само соотношение жизни и истории изменилось благодаря науке. Религия под воздействием объективного исторического исследования превращается в историческое знание и осуждена на полное уничтожение. Так обычно и отмирают религии, «когда мифические предпосылки какой-нибудь религии под строгим рассудочным руководством ортодоксального догматизма систематизируются как сумма исторических событий и когда начинают боязливо защищать достоверность этих мифов, но в то же время всячески противятся их дальнейшему естественному разрастанию и их дальнейшей жизни, и, таким образом, отмирает чутье к мифу и его место вступает претензия религии на исторические основы»[197]197
Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 95.
[Закрыть].
Действительно, каждый раз при исторической «проверке» какой-либо религии всегда обнаруживается такая масса фальшивого, грубого, нелепого, что та благоговейная атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет жить, необходимо должна рассеяться. А человек может творить только в атмосфере иллюзии, только осененный безусловной верой в совершенство и правду. У каждого, кого лишают возможности любить, безусловно, подрезаются крылья. История, научная история разрушает иллюзию. Истинная история должна была бы быть искусством, художественным произведением, но это противоречит аналитическому направлению нашего времени. Историей занимаются в полной беспечности и беззаботности, как будто это такое же занятие, как и всякое другое; это особенно заметно, как считает Ницше, в современном богословии, которое завязало тесные отношения с историей и не замечает, как разрушает самое себя. Вскоре «справедливая» историческая интерпретация «растворит» христианство в чистое знание и тем погубит его окончательно. Все, что обладает жизнью, перестает жить, когда его разрезают на части, когда над ним проделывают опыты исторического анатомирования. Все живое нуждается в известной окружающей его атмосфере, в таинственной пелене тумана. Если мы отнимем у живого эту оболочку, если мы заставим какую-нибудь религию, искусство, гения кружить в пространстве, подобно созвездию, без атмосферы, то нам не следует удивляться их быстрому увяданию, засыханию, бесплодию[198]198
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. С. 201–202.
[Закрыть].
Однако, согласно Ницше, не только всякий человек, но и каждый народ, который стремится стать зрелым, нуждается в подобных иллюзиях, в подобном обволакивающем его безумии, в подобном предохранительном и закутывающем его облаке. Всякий человек, как и всякий народ, представляет собой ценность ровно настолько, насколько способен наложить на свои переживания клеймо вечности, этим он как бы «обезмирщивается» и обнаруживает свое убеждение в относительности времени, убеждение в вечном, метафизическом значении жизни. Всякая философия истории – это попытка раскрыть, увидеть тот первичный миф, то неисторическое ядро истории народа, которое сохраняется в бесчисленных последующих изменениях и разветвлениях культуры. Но чем дальше развивается история, тем более трудной оказывается эта задача, так как теперь, утверждает Ницше, вообще ненавидят созерцание и чтут историю больше жизни. Современный человек, весь погруженный в историю, вообще мало способен воспринимать миф, этот сосредоточенный образ мира. Он только путем ученых конструкций и абстракций может уверовать в существование мифа в далеком прошлом. А без мифа, без этого неисторического ядра культуры, история теряет свой здоровый творческий характер природной силы. Только обставленный мифами горизонт замыкает ее в некое культурное целое. «Все силы фантазии и аполлонических грез только мифом спасаются от бесцельного блуждания. Образы мифа должны вездесущими демонами стоять на страже; под их охраной подрастает молодая душа, по знамениям их муж истолковывает свою жизнь и битвы свои; даже государство не ведает более могущественных неписаных законов, чем эта мифическая основа, ручающаяся за его связь с религией, за то, что оно выросло из мифических представлений»[199]199
Ницше Ф. Рождение трагедии. С. 149.
[Закрыть].
Представим себе, говорит Ницше, современного абстрактного, не руководимого никакими мифами человека, абстрактное воспитание, абстрактные нравы, абстрактное право, абстрактное государство, культуру, не имеющую твердого, священного коренного устоя, осужденную на то, чтобы истощать свои возможности и скудно питаться всеми культурами, – и мы получим нашу современность, в которой голодный человек постоянно копается в поисках корней, в которой существует постоянная неудовлетворенность культурой в силу утраты в ней мифа, утраты мифической родины, мифического материнского лона.
Всю нашу культуру можно, по Ницше, охарактеризовать как культуру внешнюю – мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими течениями, религиями, знаниями, мы становимся ходячими энциклопедиями. «Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично “духовностью”»[200]200
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. С. 180.
[Закрыть]. Поэтому, считает Ницше, современная культура имеет характер чего-то неживого, она даже не может считаться настоящей культурой, поскольку не идет дальше некоторого знания о культуре. Это лишь мысли о культуре, чувство культуры, но они никогда не претворяются в культуру-решимость.
Все это Ницше писал во второй половине XIX в. Теперь же его слова стали нашей реальностью: «неудовлетворенность культурой» – главный тезис наших дней, выраженный в одноименной книге Фрейда, поиски корней, разочарование в насквозь рационализированном и догматизированном христианстве, поиски духовных основ в восточных религиях (Ницше так и писал об «удушливом восточном суеверии», с помощью которого сократический рационализированный человек пытается заглушить в себе последний остаток чувства), парализующая вера в начавшееся увядание человечества, представления о близком конце мира или Страшном суде, которые сейчас принимают более утонченную и глубокомысленную форму, чем в Средние века, хотя по-прежнему отдают Средневековьем, и история, как считал еще Ницше, по-прежнему остается замаскированной теологией. Веселость, спокойная совесть, доверие к грядущему утрачены в настоящее время, ибо они зависят от способности здравого инстинкта как отдельного человека, так и народа определять, когда нужно ощущать исторически, а когда неисторически. В настоящее же время историческое полностью поглотило метафизическое (неисторическое), все прошлые накопленные знания обрушиваются на человека и подавляют его, он «повсюду таскает за собой неудобоваримое количество камней знаний».
Главная задача Дильтея создать, подобно Канту, критику исторического разума. В отличие от Канта, Дильтей считает, что разум не чистый, а всегда только исторический, зависящий от времени и обстоятельств, принципы и правила разума пересматриваются и улучшаются в процессе общественно-исторического и научного опыта. Можно сказать, что в понятии «исторического разума» происходит разрушение парадигмальных установок, сформированных Декартом – Кантом, ибо в отличие от чистого разума, который выступал некой абсолютной субстанцией, исторический разум – это, по мнению исследователя Дильтея М. Риделя, «разум конечный, зависимый от времени и условий, разум, чьи принципы и правила пересматриваются, уточняются и дополняются в процессе общественно-исторического опыта»[201]201
Цит. по: Плотников П.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея // Дильтей В. Собр. соч. Т. 1. Введение в науки о духе. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 65.
[Закрыть].
Дильтей отталкивается не от сознания, не от разума, а от жизни. Жизнь, жизненные переживания, жизненный динамизм социальных явлений – та основа, на которой должно строиться познание. В жилах познающего субъекта, которого конструируют Локк, Юм и Кант, течет, полагал Дильтей, не настоящая кровь, а разжиженный сок разума в виде чисто мыслительной деятельности. Любую составную часть абстрактного научного мышления нужно связать с совокупностью человеческой природы, какой она проявляется в опыте, языке и истории. Тогда обнаруживается, что живое единство личности, внешний мир, индивиды вне нас, их жизнь во времени, их взаимодействие может быть объяснено исходя из этой совокупности.
Базой познания и истолкования исторических событий является описательная психология, которая не стремится разложить жизнь сознания на атомарно представляемые элементы, как это делает объяснительная психология, а исходит из развитой целостности душевной жизни. Природу мы объясняем, а душевную жизнь постигаем. Душевная жизнь составляет подпочвенный слой познания, и потому процесс познания может изучаться лишь в этой душевной связи и определяться по ее состоянию. Культурные системы – хозяйство, право, искусство, религия, наука; внешняя организация общества – семья, община, церковь, государство возникли, согласно Дильтею, из живой связи человеческой души и могут быть поняты только из этого источника. Чтобы что-то понять, надо это пережить. Непосредственное переживание – исходный пункт гуманитарных наук. Не надо общих понятий, чтобы постичь переживание другого человека. Выражение скорби на лице уже вызывает ответное чувство. Но это не самонаблюдение, оно слишком скоротечно, и его можно охватить только в многообразных выражениях, объективациях. Человек осознает себя только в истории.
В переживании имеет место непосредственная достоверность. В переживании нет различия между актом переживания и его содержанием, тем, что внутренне воспринимается. Переживание есть неразложимое далее внутреннее бытие. Переживание – это индекс реальности вообще, который не понимала нововременная философия сознания вследствие односторонней ориентации на идею предметного сознания. Каждый внешний, направленный на предмет и им возбужденный акт содержит «внутреннюю сторону», которая, в свою очередь, указывает на те жизненные переживания, которыми обоснована вера в реальность внешнего мира. Переживание – это модус сознания вообще. Это не психическое или эстетическое, но трансцендентальное понятие, конституирующее всю полноту опыта, осуществляющее познание. Например, мы понимаем субстанцию, когда ее переживаем. Содержания и отношения, которые приобретаются во внутреннем опыте и переживаются, выносятся вовне и там закрепляются в логических формах. Все метафизики возникают не из чистой установки мысли к бытию или восприятию, но из работы духа, который созидает живую взаимосвязь. В языке, мифах, литературе, искусстве, во всех исторических действиях вообще мы, согласно Дильтею, видим перед собой как бы объективированную психическую жизнь, продукты действующих сил психического порядка, построенные из психических составных частей и по их законам. Эта психическая жизнь имеет свою структурную связь, поскольку мы ее переживаем, мы внутренне воспринимаем эту структурную связь, охватывающую все страсти, страдания и судьбы человеческой жизни, потому мы и понимаем человеческую жизнь, все глубины и пучины. Это происходит так же, как образуется смыслообраз мелодии – не из последовательности звукового потока, а из музыкальных мотивов, определяющих образное единство мелодии.
На переживании строится понимание, которое есть непосредственная сопричастность жизни, без мыслимого опосредования понятием. Задача историка – не соотносить действительность с понятиями, а добираться до тех пунктов, где «жизнь мыслит и жизнь живет» (Л. Ранке). Мы объясняем природу, а духовную жизнь понимаем. Причем важнейшую роль в понимании играет воображение, оно одно дает нам целостное понимание. Мы всегда понимаем больше, чем знаем, и переживаем больше, чем понимаем. Внешние события только повод для воображения историка. Из понимания вытекает и истолкование: историк должен не просто воспроизвести картину исторического события, но пережить его заново, истолковать и воспроизвести как живое. Прошлое переносится в настоящее во всей неповторимо индивидуальной целостности, во всем многообразии связей.
Дильтей считал, что науки о природе и науки о духе некорректно обособляются друг от друга на два круга фактов. Так, физиология занимается людьми, но она относится к наукам о природе, изучение языка включает в себя физиологию речевых органов, а процесс современной войны включает в себя изучение газа на моральное состояние солдат. Но главным отличием наук о духе является то, что они направлены на самоосмысление человека, это ход понимания от внешнего к внутреннему. Когда мы читаем историю войн, основания государств, они, писал Дильтей в «Построении исторического мира…», наполняют нашу душу великими образами, они знакомят нас с историческим миром, но нам прежде всего интересно в этих внешних вопросах недоступное, переживаемое, имманентное. Так как в таком переживании содержится любая ценность жизни, то вокруг этого и крутится весь внешний шум истории. Здесь выступают цели, неизвестные природе. В этом творящем, ответственном, суверенном, в себе развивающемся духовном мире и только в нем жизнь имеет свою ценность, цель и значение.
Возможность исторического познания коренится не в изоляции познающего субъекта от исторического процесса, а, наоборот, в том, что я сам являюсь историческим существом, что историю исследует тот же самый субъект, который ее творит. Кантовскому разграничению теоретического и практического разума он противопоставляет принцип единства познания и жизни.
История и жизнь тождественны. В каждой точке истории есть жизнь. Из жизни всех видов в самых различных отношениях и состоит история. Природа нема, и в науках о природе мы имеем дело лишь с внешним опытом. Данные наук о духе, напротив, берутся из внутреннего опыта, из непосредственного наблюдения человеком за самим собой, за другими людьми.
Индивид – элемент общества, межиндивидуальные отношения конституируют системы культуры, права, философии, которые переживают самих индивидов и создают устойчивый костяк социальной структуры.
Объективный дух – это совокупность выражений духовной жизни, отличающихся устойчивостью, постоянством и образующих то, что мы можем назвать социальной сферой. Дороги, дома, нивы, сады – это различные выражения человеческой активности, создавшей наш мир. Именно в них объективирован человеческий дух и только через них может быть исторически познан.
Индивидуум – точка пересечения культурных систем, организаций, в которые вплетено его существование. Поэтому не они должны быть поняты, исходя из него, а он должен быть понят исторически. Человеческий мир представляет собой динамическую целостность, она отличается от природной взаимосвязи тем, что в соответствии со структурой психической жизни создает ценности и цели.
Каждая историческая эпоха ограничена своим специфическим духовным вкладом. Все идеи и учреждения этой эпохи связаны друг с другом и не могут быть поняты в отрыве от целого. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в конкретных целях, ценностях, образах мысли открыть общее соответствие, характерное для эпохи.
История, согласно Дильтею, такая область знания, которая лежит в пределах внутреннего переживания, принципиально отличного от внешнего мира природы. Поскольку никто не утверждает, что в состоянии вывести всю совокупность страстей, поэтических образов, творческого вымысла Гёте из строения его мозга и свойств его тела, самостоятельный статус такой науки не может быть оспорен.
Субъектами наук о духе являются социально связанные между собой индивиды. Движения, слова, действия – их проявления. Задача гуманитарных наук сводится к тому, чтобы их заново пережить и понять. Нельзя обойтись без понятий, но ни одно понятие не исчерпывает того многообразия, которое может быть пережито, описано, понято.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.