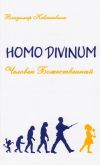Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Смерть как болезнь
Естественный человек смерти не знает, во всяком случае, относится к ней как к какому-то внешнему событию, с которым он рано или поздно должен столкнуться. Смерти нет в том массивном, плотном, самодостаточном мире, мире неорганическом, мире животных и растений. Там есть только исчезновение, переход в другие формы, рассеяние. Как биологический субстрат человек тоже принадлежит этому миру, многие, если не все, проявления жизнедеятельности человека неразрывно связаны с его биологической жизнью, но человека как душевного и духовного существа в этом мире нет. Человек как исполняющее и реализующее себя существо в принципе невоплотим в реальном эмпирическом пространстве и времени.
Смерть мы можем описывать только метафорически, а разум пытается справиться с отсутствием как таковым путем редукции метафоры, ее растворения в абсолютной явленности смысла. Но ни мое рождение, ни моя смерть не могут быть мне явлены как мой собственный осмысленный опыт, поскольку, если бы я воспринимал их таким образом, я должен был бы предположить себя предшествующим или пережившим самого себя. В лучшем случае, замечал Мерло-Понти, я должен ощутить себя только как «уже рожденный» или «еще в живых», а мое рождение или смерть только как предличностные горизонты. Чистое настоящее без горизонтов прошлого и будущего, или вечное настоящее, есть точное определение смерти, а живое настоящее разрывается между прошлым, которое оно возобновляет, и будущим, которое оно намечает[85]85
«Всякое ощущение, будучи, строго говоря, первым, последним и единственным в своем роде, это рождение и смерть. Субъект, который его испытывает, начинается и заканчивается с ним, и поскольку он не в состоянии ни предшествовать себе, ни пережить себя, ощущение неизбежно является себе самому во всеобщности, оно наступает “прежде” меня самого, будучи производным от определенной ощутимости, которая ему предшествовала и которая его переживет, как мои рождение и смерть принадлежат к анонимной рождаемости и смертности» (Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 2000. С. 277).
[Закрыть].
Поэтому смерть, которая располагается вокруг нас, всегда не «наша», а смерть других, Другого, она наблюдаема только извне, сопутствует нам, но не имеет с нами никакой экзистенциальной связи. Человек может существовать только в этом, посюстороннем мире, никогда не переходя его границу. Мы, правда, наблюдаем, что умерший продолжает некоторым образом существовать в обоих этих мирах – возвращая свой биологический субстрат в круговорот природы, с одной стороны, и оставаясь в памяти живущих, иногда даже на достаточно долгий срок – с другой. Но это относится только к смерти другого. Но возможна ли моя смерть? Можем ли мы понять этот вопрос? В состоянии ли человек просто поставить его? Разрешено ли мне говорить о моей смерти? И что само выражение «моя смерть» означает? Все это превращает смерть в неразрешимую апорию, не эксплицируемую, согласно Деррида, традиционными философскими средствами. «Смерть всегда преждевременна для Dasein, жизнь всегда слишком коротка, ибо смерти нет места в этой жизни, она ничем не обозначаема, не имеет своих предвестников. Если растение приходит к смерти естественным биологическим путем, через прохождение всего цикла его жизни до старости и дряхления; если то же самое характерно для любого организма, в том числе и для человеческого, смерть человека никогда не рассматривается как естественная применительно к Dasein, к специфически человеческому, духовному бытию, или, как говорит Хайдеггер, говорящему бытию»[86]86
Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Differаnсе. Томск, 1999. С. 96.
[Закрыть].
Смерть как событие, неотделимое от прошлого и будущего, на которые она разделяется, никогда не пребывая в настоящем, – безличная смерть, ее невозможно уловить, ибо она не имеет ко мне никакого отношения, никогда не приходит, и я сам к ней не иду. Личная смерть наступает в самом что ни на есть грубом настоящем. Поэтому всякое самоубийство – это, согласно М. Бланшо, желание совместить два лика смерти – длящуюся безличную смерть с сугубо личным актом. Но поскольку смерть никогда не бывает налицо, то и самоубийца никогда с ней не встречается. Скорее он желает устранить смерть как будущее, изъять ее из той части грядущего, которая выступает как сущность смерти[87]87
См.: Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998. С. 208.
[Закрыть].
Смерть самым тесным образом связана со мной, с моим телом, она укоренена во мне. Но при этом она и не имеет ко мне абсолютно никакого отношения – ведь она есть нечто бестелесное, неопределенное, безличное, ее основание – в ней самой. «…Верно ли, что живой человек вообще не может приблизиться к смерти? – спрашивает С. Кьеркегор. – Похоже, что это действительно невозможно; во-первых, поскольку в своих опытах он не может подойти к ней достаточно близко, не став самым комическим образом жертвой собственного эксперимента, во-вторых, поскольку в своих опытах он не может практиковать воздержания и так ничему и не научается, и, в-третьих, поскольку он не может вернуться назад и по собственной воле выйти из этого опыта, но все время остается внутри опыта»[88]88
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». СПб., 2005. С. 184.
[Закрыть].
Хайдеггер в «Бытии и времени» говорил о «неподлинном отношении к смерти», которое свойственно естественному существованию человека. Тут умирание извращается, нивелируется, смерть выдается за нечто, чем она не является, скрывается ее истинный характер, ближние обманывают умирающего, утешая, лишая его, может быть, единственной возможности почувствовать и понять самого себя перед лицом смерти. Публичное толкование слов «человек смертен» позволяет человеку всякий раз уговорить себя: этот человек вообще – никто, во всяком случае – не я. «“Умирание” нивелируется до происшествия, присутствие, правда, задевающего, но ни к кому собственно не относящегося. Если когда толкам и присуща двусмысленность, так это в речи о смерти. Умирание, по сути незаместимо мое, извращается в публично случающееся событие, встречное людям. Означенный оборот речи говорит о смерти как о постоянно происходящем “случае”. Он выдает ее за всегда уже “действительное”, скрывая ее характер возможности и вместе с тем принадлежащие ей моменты безотносительности и необходимости. Такой двусмысленностью присутствие приводит себя в состояние потерять себя в людях со стороны отличительной, принадлежащей к его наиболее своей самости способности быть. Люди дают право, и упрочивают искушение, прятать от себя самое свое бытие к смерти»[89]89
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 253. «Если, конечно, неопределенность смерти есть всего лишь нечто “вообще”, значит, и мое умирание есть также нечто “вообще”. Ну что ж, возможно, умирание действительно возможно “вообще” для систематиков, для людей рассеянных. Для покойного книготорговца Сольдина умирание было чем-то “вообще”; про него говорили: “Когда он собрался вставать утром, он так и не понял, что уже умер”. Для меня мое собственное умирание никоим образом не является чем-то “вообще”; конечно, для других оно будет именно таким. Однако и я сам для себя не являюсь чем-то “вообще”; возможно, для других я именно таков. Однако задача как раз и состоит в том, чтобы становиться субъективным, а это значит, что каждый субъект сам, для себя становится прямо противоположным такому “вообще”» (Кьеркегор С. Там же. С. 183).
[Закрыть].
Чем дальше развивается современное общество, тем меньше места в нем остается смерти. Социальные реформы, успехи медицины, причисление проблем, которые прежде были делом каждого отдельного человека (болезнь, старость, увечье, нужда, личная безопасность, безработица), к разряду проблем общественных – все это изолировало смерть. Правда, по отношению к ней социальные реформы оставались бессильными, социальное обеспечение сокращало область нужды, эпидемий, болезней, жизнь становилась все более комфортной, но смерть по-прежнему оставалась смертью. «Это выделяло ее среди других составляющих человеческого бытия и делало “лишней” с точки зрения доктрин, которые ставили целью улучшение жизни и которые мало-помалу стали универсальной религией обмирщенной культуры. Тенденция к отчуждению смерти особенно усилилась в ХХ веке, когда даже из фольклора исчезли ее “одомашненные персонификации” – Ангел Смерти, Курносая или Гостья без лица; по мере того как культура из суровой законодательницы превращалась в послушную исполнительницу желаний, смерть, лишенная всякой потусторонней санкции и не принимаемая, как прежде, безропотно, становилась чужеродным в культуре телом, обессмысливалась все больше и больше, поскольку культура, эта заботливая опекунша и поставщик удовольствий, уже не могла наделить ее каким-либо смыслом»[90]90
Лем С. Провокация // Дружба народов. 1990. № 12. С. 225.
[Закрыть].
Смерть стала прятаться и дичать. Происходил процесс ее постепенного отчуждения в нашей гедонистической и прагматической культуре: здесь и исключение смертной казни, и запрещение эвтаназии, попытка отложить смерть в виде консервации в жидком азоте смертельно больных людей для их излечения в последующих веках, масса литературы, посвященной доказательствам посмертной жизни. Но за всеми этими декларациями об уважении к жизни кроется, согласно Лему, страх, причина которого – ощущение беззащитности, беспомощности, а значит, ужасающей тщетности жизни перед лицом смерти[91]91
«Уверенность в неизбежности смерти должна была бы подмешивать к жизни драгоценную, благоухающую каплю легкомыслия, а вы, аптечные души, сделали ее горькой каплей яда, вследствие чего вся жизнь становится противной» (Ницше Ф. Странник и его тень // Ницше Ф. Избр. произв.: В 3 т. Т. 2. С. 392).
[Закрыть].
Ничто, даже Бог, считал Бодрийяр, не исчезает более, достигнув своего конца или смерти; исчезновение происходит в виде размножения, заражения, насыщения и прозрачности, изнурения и истребления из-за эпидемии притворства, перехода во вторичное, притворное, существование. Нет больше фатальной формы исчезновения, есть лишь частичный распад как форма рассеяния. «Нет ни одного действия, которое не стремилось бы к совершенству в виртуальной вечности – не в той, что длится после смерти, но в вечности эфемерной, созданной ветвлениями машинной памяти. Виртуальное принуждение состоит в принуждении к потенциальному существованию на всех экранах и внутри всех программ; оно становится магическим требованием. Это – помутнение разума черного ящика»[92]92
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. С. 84.
[Закрыть].
В настоящее время осуществляется мечта о бесконечном воспроизведении своих точных копий-близнецов, призванных заменить половое размножение, которое несет в себе идею смерти, мечта, позволяющая обходиться без партнера и идти от подобного к подобному. Современные машины, клоны, протезы тяготеют именно к этому типу воспроизводства и насаждают его среди существ, снабженных признаками пола. Все современные исследования, полагал Бодрийяр, в особенности биологические, направлены на совершенствование этой генетической подмены, этого последовательного, линейного воспроизводства, клонирования, партеногенеза, маленьких холостых механизмов.
Но эта победа мнимая, потому что бессмертие, невозможность исчезновения, распространяемые подобно вирусу или метастазам, делающие ненужным разделение полов, сексуальность, наконец, любовь, омертвляют все вокруг. Смерть заменяется разложением на простые составляющие, на элементы, которые потом комбинируются в новом порядке, порождая иллюзию создания нового, иллюзию творчества. Смерти нет, если можно клонировать человека, его характер и способности.
Огромное количество «мертвых» людей, создаваемых массовой культурой, порождает и «мертвые» объединения, «мертвые» организации, «мертвые» формы жизни. Но мертвое – вечно, оно не может умереть, поскольку уже мертвое. С ним невозможно бороться, потому что его нет, и в то же время мы задыхаемся в атмосфере, создаваемой «мертвыми» людьми, мыслями, идеями. Мертвое постоянно наваливается и гасит живые впечатления, мертвым можно заразиться, оно прорастает в живом, и человек с ужасом обнаруживает (если ему повезет и он осознает этот ужас), что он наполовину мертв, что он живет в этом проклятом Man, в этой стадной безличности, и ему не хватает ни сил, ни таланта, чтобы из нее вырваться.
Так же как мысль изреченная оказывается ложью, если не хватает таланта, чтобы выразить свою оригинальную мысль или чувство, а не говорить банальными, стертыми от частого употребления словами, в которых пропадает всякая оригинальность, так и жизнь, несмотря на все усилия сделать ее неповторимой, своеобразной, т. е. «живой», жизнью превращается в рутину повседневных мыслей, поступков, человек не может отделаться от чувства, что все, что с ним происходит, уже было и снова будет повторяться, как в раз и навсегда заведенном механизме. И, несмотря на мелкие радости и редкие минуты вдохновения, жизнь представляется тяжким, мертвым грузом, который в конце концов хочется скинуть со своих плеч. Пока человек не овладел искусством жизни, жизнь мало чем отличается от смерти, если смерть – это не мгновенный акт перехода в ничто, а вечное умирание.
В нашем стадном, озабоченном существовании даже смерть кажется нам болезнью, от которой можно выздороветь, или чисто абстрактным рассудочным понятием, или некоей красивой философской аллегорией: платоновский Сократ считал, что философия – это подготовка к смерти. Но что это значит – готовиться к смерти? В самом этом призыве заложено противоречие, свидетельствующее о том, что на уровне естественного состояния апорию смерти нам не разрешить. Если я готовлю себя к смерти, то «следует проводить различие между действительным приходом смерти и представлением об этом приходе (если то, что приходит, отлично от того, к чему я себя готовил, такое различие неминуемо делает всю мою подготовку бессмысленной, если же различия нет, то правильно проведенная подготовка и есть сама смерть), а также поскольку смерть вполне может прийти в тот самый момент, когда я начал свою подготовку»[93]93
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие. С. 185.
[Закрыть].
Беспомощность особенно остро ощущается в христианстве, которое ничего определенного насчет будущей жизни (в отличие от ислама) не обещает, говорит об этом глухо и невнятно, скорее философски, чем богословски. В какой форме я «буду существовать», и можно ли вообще, и если да, то в каком смысле говорить о будущем бытии – это остается непостижимой, неразгаданной тайной. «Если вдуматься в вопрос глубже, то истинный смысл заботы об обеспеченности, сохранности моего бытия состоит не в том, “буду” ли я “продолжать существовать” после моей телесной смерти, а в том, обладаю ли я уже сейчас подлинной реальностью, подлинно ли я есмь, или я обладаю лишь призрачным, неподлинным бытием»[94]94
Франк С.Л. Непостижимое. М., 1990. С. 474–475.
[Закрыть].
В силу этого в западной культуре создается большое количество наукообразных книг о жизни после смерти, о том, что наука, раскрыв код наследственности, обеспечит всем бессмертие лет через двести, а то и раньше. Но это все попытки людей объединиться вокруг позитивной истины, которая будет сформулирована наукой. Чтобы иметь силы жить, чтобы оставаться свободным, нужно не знать ответа, возможно бессмертие или нет. Всякое объединение людей вокруг позитивной истины будет неподлинным. Люди должны быть объединены своим незнанием. Но достижение этого незнания возможно только в другой испостаси человека.
Память и история
Естественный человек – это существо, лишенное памяти, прежде всего памяти исторической. Выше мы уже говорили о мечте по утраченному раю, в котором человек мог чувствовать себя в полной мере счастливым. Но ностальгия естественного человека по потерянному раю полностью исключает стремление вернуться в «рай животных». Все мифические воспоминания, повествующие о рае, напротив, рисуют нам картину идеального человечества, пребывающего в блаженстве и наслаждающегося богатствами духа, чего никогда не может быть на земле, где человек «впал в грех». В мифах многих народов содержатся намеки на некую, весьма отдаленную, эпоху, когда люди не будут знать ни смерти, ни работы, ни страданий, а для получения пищи им будет достаточно всего лишь протянуть руку[95]95
При советской власти был очень популярным анекдот: «При коммунизме как будет? Протянул руку, нажал кнопку, и бревно на плече!»
[Закрыть]. Все это свидетельствует о том, что естественный человек придавал серьезное значение не индивидуальной, а коллективной памяти, опирающейся на архетипы. Воспоминание о рае в прошлом и мечта о неизбежном наступлении рая в будущем – архетипичные черты всякого коллективного, архаического сознания. Историческое лицо, писал М. Элиаде, ассимилируется со своей мифической моделью (герой и т. п.), а событие интегрируется в категорию мифических действий (борьба с чудовищем, братом, ставшим врагом, и т. д.). Если в некоторых эпических поэмах и сохранилась так называемая «историческая правда», то обычно она правдива в отношении к социальным институтам, обычаям и почти никогда к определенным персонажам и событиям.
Можно даже сказать, что народная память возвышает исторического персонажа недавних времен, превращая его в подражателя архетипу и исполнителя архетипических подвигов, ибо подобная модель поведения, существовавшая в архаическом обществе, до сих пор обладает определенной значимостью. В настоящее время подобная «память» создается усилиями идеологов и систематически внедряется в сознание народных масс через книги, учебники, средства массовой информации. Таким в России был культивируемый миф о Ленине, о Великом Октябре, с которого и началась якобы подлинная история России. Они были «идеологической надстройкой» над уже существовавшей российской политической культурой, доставшейся Октябрю в наследство. Октябрь был продуктом российской политической культуры и одновременно – уже как миф! – сам лежал в основании легитимности советской нации. С залпом Авроры наступила «новая заря»[96]96
Добренко Е. О репрезентологии // НЛО (Новое литературное обозрение). 2005. № 71. (http://nlo.magazine.ru/archive).
[Закрыть].
Слово «Октябрь» стало эвфемизмом революции. О революции рассказывалось повсюду – в газетах, листовках и брошюрах. О ней можно было услышать в повседневных и официальных речах, на городских улицах, на фабриках и заводах, в агитпоездах, которые развозили свидетельства о ней по всей стране. О ней рассказывалось в исторических книгах, школьных учебниках и детских книжках, в архивах, музеях и библиотеках, занятых сохранением ее материальных следов. Она присутствовала на обложках и страницах журналов и в фильмах, заполнивших киноэкраны страны. Через неуклонное восхождение по ступеням «свидетельств» Октябрь, наконец, превратился в событие инициации Советского Союза. Через ритуализированные представления, в частности по случаю празднования годовщин, Октябрь стал символом Советского государства, неприкосновенным и вечным манифестом и клятвой верности[97]97
См.: Corney F.C. Telling October: Memory and the making of the Bolshеvik Revolution. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2004. P. 10–12.
[Закрыть].
Рассказ об Октябрьской революции, считает Фр. Корни, был основным языком, внутри которого бывшие граждане царской империи могли артикулировать и осознавать себя членами нового, коммунистического, общества, которое предоставило своим гражданам радикально трансформированный политический и лингвистический ландшафт. Октябрьская революция могла осмысливаться только изнутри этого ландшафта, определяемого не географически, но концептуально. Вне его Октябрь существовал не как революция, а только как переворот. Но чтобы слово «Октябрь» стало кодовым словом для создания прецедентных текстов, нужно было провести большую работу. Прошло очень много лет, пока Октябрьская революция стала всенародным праздником. Превращение этого языкового сумбура в отредактированный и расписанный по ролям сценарий, этой разноголосицы – в хор, поставленными голосами исполняющий кантату «Октябрь», было долгим процессом. Его осуществляли не только участники революции, но и художники, писатели, кинорежиссеры.
Внедрение этого мифа в сознание начиналось в самого раннего возраста. Сначала, пишет В. Пелевин в своей работе «Зомбификация», нас украшают маленькой пентаграммой из красной пластмассы с портретом кудрявого покровителя всей малышни. При этом мы получаем первое из магических имен – «октябрята» и узнаем, что «так назвали нас не зря – в честь победы Октября». Это первая магическая инициация. Вторая уже намного сложнее – подросших детей обучают начаткам ритуала (салют, честное пионерское) и символике – вручают новый значок (пылающую пентаграмму из металлического сплава) и неравнобедренный треугольник из красной материи, который обеспечивает симпатическую связь с красным знаменем (поэтому значок просто вручается, а галстук как бы доверяется, и хоть он свободно продается за семьдесят копеек вместе с носками и мылом, но, купленный, становится сакральным объектом и требует особого отношения). Дается второй магический статус – «пионер», и в сознание впервые вводится страх потерять его. Исключение из пионеров – практически не встречающаяся процедура, но само упоминание о ее возможности рождает в детской душе страх оказаться парией, этот страх начинает использоваться административно-педагогическим персоналом с целью упрощения «воспитания» и управления[98]98
Пелевин В. Зомбификация // Пелевин В. Relics. Раннее и неизданное. М., 2005. С. 314.
[Закрыть].
Традиционная модель советской культуры, отрицающая все прошлое до Октября, нацеленная на забвение этого прошлого, строилась на том, что отрицание культуры прошлого исходило либо от авангарда, либо от Пролеткульта, впоследствии от РАППа, т. е. слева и справа – внутри культуры. При этом не учитывается то обстоятельство, что отрицание культурной традиции исходило от широчайших масс города и деревни, активно вовлекаемых новой властью в «культурное строительство». Признание этого факта не вписывалось в левую парадигму как западного антитоталитаризма, так и советского шестидесятничества, склонных вполне по-народнически во всем усматривать вину идеологов и предателей интересов народа, настаивая на непричастности масс. С другой стороны, это обстоятельство не могло быть признано и национально-традиционалистским сознанием, также переоценивающим и мифологизирующим народный лад[99]99
См.: Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. С. 111.
[Закрыть].
Когда исчез миф о Великом Октябре, начал распадаться и исчезать Советский Союз.
Антиисторический характер народной памяти выражался в невозможности удержать в коллективной памяти события и исторические лица иначе, как превратив их в архетип, т. е. аннулировав все их «исторические» и «личностные» особенности. Все воспоминания о событиях, не восходящих ни к одному из архетипов, о событиях «личного» характера (в большинстве случаев о «грехах») является чем-то совершенно невыносимым для массы.
Не надо ничего помнить из «доисторического времени», потому что оно не имеет никакой силы и никакого влияния на современную ситуацию. У массы возникает некое параноидальное ощущение, согласно которому то, что есть сейчас, было всегда в прошлом и будет всегда в будущем. В этом смысле все системы, ориентированные на абсолют, на вневременной архетип, являются архаическими системами, существовавшими как в далеком прошлом, так и во все последующие века.
То, что писал М. Элиаде об архаическом прошлом, сохраняет в современности свое злободневное значение. «Эти архаические системы, отменяя конкретное время, пытаются таким образом избавиться от истории. Отказ хранить память о прошлом, даже о самом недавнем, кажется нам признаком особого устройства человеческого менталитета. Это, если говорить кратко, отказ архаического человека воспринимать свое бытие как историческое, отказ наделить значимостью “память” и, как следствие, нерегулярные события (то есть события, не имеющие архетипической модели), которые, в сущности, и составляют конкретное течение времени. В конечном счете, мы полагаем, что глубинный смысл всех этих обрядов и установок состоит в стремлении обесценить время. Доведя эти обычаи и варианты установочного поведения, о которых мы упомянули выше, до их логических пределов, можно прийти к следующему заключению: если времени не придают никакого значения, стало быть, оно не существует; более того, как только время начинают ощущать (из-за “прегрешений” человека, то есть тех случаев, когда человек удаляется от архетипа и попадает в течение времени), его беспрепятственно аннулируют. В сущности, если представить себе подлинную перспективу жизни архаического человека (жизнь, сведенную к повторению архетипических деяний, то есть к категориям, а не к событиям, к беспрестанному воспроизведению одних и тех же первомифов и т. д.), то хотя она и протекает во времени, человек, тем не менее, не ощущает его бремени, не замечает необратимости событий, иными словами, совершенно не отдает себе отчета в том, что характеризует и определяет осознание времени»[100]100
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. С. 132–133.
[Закрыть].
И все события, все катастрофы, случающиеся в этой современности, можно вынести, перетерпеть, потому что они носят случайный характер временного отступления от мифа. Они и сегодня помогают сносить тяготы существования десяткам миллионов людей. Еще и сегодня весьма значительная часть населения Европы, не говоря уже о других континентах, продолжает оставаться в рамках традиционной, «антиэволюционистской» культуры[101]101
«Да и в наши дни, когда историческое давление не предоставляет более никакого укрытия, как сможет человек вынести катастрофы и ужасы истории – начиная от депортаций и массового истребления и кончая атомными войнами, – если за всем этим не увидит он никакого знака, никакого трансисторического намерения, если все это будет лишь слепой игрой экономических, социальных и политических сил или, что еще хуже, результатом тех “свобод”, которые присвоило себе меньшинство, чтобы без помех распоряжаться на сцене всемирной истории?» (Там же. С. 231).
[Закрыть].
Поэтому марксизм – особенно в своих народных формах – представляется для некоторых людей защитой против ужаса истории. А эволюционистская позиция во всех ее разновидностях и нюансах – от «судьбы» Ницше до «темпоральности» Хайдеггера – оставляет человека безоружным.
Правда, внедрение в сознание масс архаических мифов о счастливом прошлом или светлом будущем оказалось палкой о двух концах. По мере нарастания ужаса перед историей, по мере осознания хрупкости существования в рамках истории, растет чувство ностальгии по мифу и, в конечном счете, стремление к упразднению времени. Уже сейчас «вполне возможно представить себе эпоху, причем не слишком удаленную, когда человечество ради своего выживания полностью прекратит “творить историю”– в том смысле, в каком ее творили начиная с появления первых империй – и предпочтет повторять предписанные архетипические жесты, постаравшись забыть такую опасную и бесполезную вещь, как спонтанное действие, рискующее иметь “исторические” последствия»[102]102
Там же. С. 234.
[Закрыть].
Упорный отказ человека массы от истории и нежелание осознать себя в конкретном времени свидетельствуют, таким образом, о его слишком рано наступившей усталости, о патологической боязни движения и действия: оказавшись в ситуации, когда следует принять историческое существование и связанный с этим риск, он делает выбор в пользу пассивного следования образцам, архетипам, идеологическим установкам. Если я «делаю жизнь по Ильичу» или следую заветам фюрера, то я выпадаю из времени, история не властна надо мной. Я принадлежу не себе, а нации, крови, почве и, в конечном счете, вечно повторяющимся циклам Вселенной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.