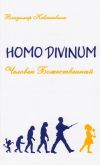Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Настроение как фактор жизни
Настроение – первичное отношение человека к миру: он всегда воспринимает мир, окрашенный собственным страхом, грустью или радостью, и поэтому мир каждый раз является ему другим. То есть мир всегда переживается, прежде чем быть понятым. Настроение мотивирует возможность тех или иных восприятий, желаний, решений, чувств, предопределяет образ мышления или действия.
Человеческое бытие в мире все время настроено, настроено миром. Настроению как достаточно длительному и устойчивому состоянию подвержено только человеческое существо, только оно может печалиться или радоваться, скучать или страшиться. Мы, конечно, можем говорить о настроении у животного, но оно не может страшиться или скучать вообще, без конкретного повода, не может пребывать в состоянии безотчетной радости. Поэтому анализ настроения как специфически человеческого феномена позволяет нам лучше познать собственную природу.
Настроение – метафизический феномен, в значительной степени, если не абсолютно, конституирующий внутреннюю человеческую жизнь. Это такое внутреннее, которое существует виртуально, т. е. оно не зависит от психики, интеллекта, воли, навыков и привычек, и в то же время делает возможными, устойчивыми все наши интеллектуальные и психические состояния. Это такое внутреннее, которое совершенно несоизмеримо с внешним, это второе, более глубинное, непсихологическое внутреннее, открывающееся подобно открытию Бога в душе. Это такое внутреннее, считал Кьеркегор, говоря об открытии Бога, которое хотя и не является тождественным первому внутреннему, но представляет собой некое новое внутреннее, о котором не подозревали ни теология, ни философия, ни психология. Никакое созерцание, никакие интеллектуальные усилия, «проникай они и в интимнейшие фибры бытия чего-то наличного» (М. Хайдеггер), не могут удержать нас в состоянии любви, мудрости, творчества, ужаса смерти или восхищения открывшимся миром. «…Естественным образом мы не могли бы испытать даже простейшего человеческого чувства любви (в его, так сказать, нечистом, смешанном виде), если бы у нас не было каких-то пространств, в которых происходят синтезы нашей сознательной жизни и могут рождаться состояния, называемые человеческими, – мысль, любовь и т. д.»[163]163
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М., 2000. С. 245.
[Закрыть].
Нам же все время недостает полноты существования, и потому мы все время настроены. Мы постоянно не удовлетворены, мы страшимся неосуществимости своей жизни, страшимся смерти, мы всегда взволнованны, раздосадованны или счастливы, хотя это чаще всего не осознается. Человек не имеет настроение, а сам есть настроение, и это его первичное, фундаментальное качество, вытекающее из его несовершенства, из его онтологической ущербности и обусловливающее его фантастическую универсальность.
Самая большая трудность – отделить настроение от соответствующих чувств, которые на самом деле вырастают из настроения, а не предшествуют ему. Можно говорить о настроении в строгом смысле как об основной конституции человеческого существования, полагал О. Больнов, если попытаться отграничить его от родственной области чувств. Чувства в собственном смысле этого слова – это всегда предметные чувства, направленные чувства: каждая радость есть радость чему-либо, так же как каждая любовь есть любовь к кому-либо или чему-либо. Настроения, напротив, не имеют определенного предмета. Они суть состояния, окраска целостного человеческого существования, в которой человек сам себе непосредственным образом дан, но не в смысле чего-то находящегося вовне. «Так различается чувство от неожиданно посетившего меня настроения радости, как некоего всеохватывающего состояния, приходящего от человека, не направленного на нечто определенное… Радость имеет ту же самую предметную неопределенность, что и ужас. Каждое настроение полагает рамки душевной данности, в которых всегда становятся возможными только определенные группы и направления чувства. Чувства – наряду с другими духовными действиями – развиваются на основе им предданного общего настроения и им обусловлены»[164]164
Bollnow O.F. Das Wesen der Stimmungen. Frankfurt a.M., 1995. S. 34.
[Закрыть].
Настроения в этом смысле суть настройки, человек является настраиваемым инструментом. Раз есть инструмент, то должна быть и мелодия, мелодия жизни. «Есть просто непрерывная мелодия внутренней жизни, которая тянется как неделимая от начала и до конца нашего сознательного существования»[165]165
Бергсон А. Восприятие изменчивости // Бергсон А. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1913–1914. Т. 4. С. 24.
[Закрыть]. Эта мелодия внутренней жизни предопределяет все мои отношения с миром, если я эту мелодию слышу. Все время слышать свою мелодию, пребывать в ровном настроении духа – вещь почти невозможная. Но если не найти своей мелодии, своего настроя души, то будешь воспроизводить чужую. Если не создашь своего устойчивого настроения, метанастроения как некоей все объединяющей мелодии, то будешь слышать только музыку сирен. Большинство людей только сирен и слышат, т. е. чужую музыку, под которую они должны жить, играть, плясать, следовательно, жить чужой жизнью, даже не осознавая этого. Правда, как говорит древнегреческий миф, если околдованный человек сможет проиграть музыку сирен в обратном порядке и без единой ошибки, то колдовство отступит. Но попробуй проиграй! Чаще всего, когда мы осознаем такую необходимость, уже поздно: целые куски нашей жизни исчезли из памяти, и когда мы оглядываемся на наше прошлое, оно вовсе не представляется нам пронизанным единым тоном, в лучшем случае – это какая-то рваная, сумбурная, бьющая по нервам музыка. Более того, мы, как правило, не догадываемся, что эта музыка, под которую мы живем, не наша, а заимствованная, заколдованная, нам не удается создать своего настроения как некоего фона, атмосферы, просвета, в котором только и можно что-либо увидеть или услышать самому[166]166
«Этому всеобщему основополагающему характеру соответствует также чисто языковый смысл слова “настроение”, которое является переносом музыкального понятия на человеческую душу. Вслушиваясь в это словесное употребление, Новалис мог сказать: “Слово ‘настроение’ означает музыкальные душевные связи”. (Как человек, так и инструмент всегда настроен или не настроен.) Речь идет о настроенности нрава, соответствующего всему человеку, в котором различные стороны настроены на единый тон» (Bollnow O.F. Op. cit. S. 38).
[Закрыть].
Мы должны, считает Хайдеггер, действительно онтологически принципиально предоставить первичное раскрытие мира «простому настроению», ибо только здесь можно открыть то, что всегда остается недоступным теоретическому наблюдению, которое уже обесцветило мир до униформности голо наличного[167]167
См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 137.
[Закрыть].
Мы вообще не можем присутствовать в мире без настроения, только оно одно и дает нам мир. Именно в нестойком, настроенчески мерцающем видении мира подручное кажет себя в своей специфической мирности, которая ни в какой день не та же самая. «Мир не простое скопление наличествующих счетных и несчетных, знакомых и незнакомых вещей. Но мир – это и не воображаемая рамка, добавляемая к сумме всего наличествующего. Мир бытийствует, и в своем бытийствовании он бытийнее всего того осязаемого и внятного, что мы принимаем за родное себе. Мир никогда не бывает предметом, который стоит перед нами, который мы можем созерцать. Мир есть то непредметное, чему мы подвластны, доколе круговращения рождения и смерти, благословения и проклятия отторгают нас вовнутрь бытия. Где выносятся сущностные решения нашего исторического свершения, где мы следуем или перестаем следовать им, где мы не осознаем их и вновь о них выспрашиваем – везде, всюду бытийствует мир»[168]168
Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 77.
[Закрыть].
Мира нет ни для камня, ни для растения или животного, он есть только для человека и только в состоянии захваченности, затронутости миром, т. е. в специфическом настроении. Только тогда он открывается как контекст, в котором возможно видение и восприятие отдельных вещей, их оценка или сравнение. Вещь может встретиться взгляду, только если уже раскрыт некий вещный мир. Причем принципиально: не «поле восприятия», а целый мир. И не столько потому, что понятие вещи не ограничивается вещами восприятия, сколько в силу несамостоятельности этого самого «поля». Это открытие мира есть открытие света, или, как говорил М. Хайдеггер, просвета (Lichtung), в котором видны и слышны эмпирические вещи и события. Поэтому настроение есть «экзистенциальный основообраз равноисходной разомкнутости мира, соприсутствия и экзистенции, поскольку последняя сама по сути есть бытие-в-мире. Мир, заранее уже разомкнутый, дает встретиться внутримирному»[169]169
Хайдеггер М. Бытие и время. С. 136. «Мир в настроении еще не дан предметно, как в последующих формах сознания, до всякого познания, но в настроении живет нерасчленимое единство самости и мира, оба в одной настроенческой окраске» (Bollnow O.F. Op. cit. S. 39).
[Закрыть].
Мы находимся посреди мира – это очень редко посещающий нас феномен настроения. Обычно я живу в своем мирке, в своем окружении, остальной мир образует лишь глухой, неясный фон моей жизни. Но иногда случаются такие состояния, о которых пишет Ницше: великий полдень, когда я чувствую себя растворенным, распростертым на всю длину и ширину этого мира, сам являюсь миром[170]170
«…Это сладкое и тревожное обмирание по вечерам перед красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая всему, что происходит внизу; это возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, что ты – не столько то, что носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, – вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью» (Распутин В. Прощание с Матерой // Распутин В. Избр. произв.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 290–291).
[Закрыть].
Мир открывается только захваченному человеку. Согласно Хайдеггеру, философия часто выдает себя за то, чем она не является, – за науку или мировоззренческую проповедь. На самом деле, считает он, философия (метафизика) – это ностальгия, это тяга повсюду быть дома. Повсюду быть дома – значит иметь отношение к миру в целом, к бытию. Стремление повсюду быть дома – это и есть метафизика. Эта потребность не слепая, не растерянная, но побуждающая нас к вопросам: что такое человек, мир и т. д. Но недостаточно задаться такими вопросами. Нужны еще и понятия, способные указать путь к пониманию. Метафизические понятия для внутренне равнодушной и необязывающей остроты научного ума остаются вечно закрытыми. Метафизические понятия – совсем не то, что можно было бы выучить, повторять за учителем и применять на практике. Мы никогда не поймем их, если заранее не увлечены тем, что они призваны охватить (М. Хайдеггер).
Этой захваченности, ее пробуждению и насаждению служит главное усилие философствования. Но всякая захваченность исходит из настроения. Поскольку понимание и философствование не рядовые занятия в числе других, но совершаются в основании человеческого бытия, то настроения, из которых вырастает философская захваченность, с необходимостью и всегда суть основное настроение нашего бытия, такое, которое постоянно и сущностно пронизывает своей мелодией человека, хотя он совсем не обязательно должен распознавать ее. Философия осуществляется в некоем фундаментальном настроении. Ностальгия, стремление всегда и повсюду быть дома, т. е. экзистировать, существовать в совокупном целом сущего, есть фундаментальное настроение философствования[171]171
См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Время и бытие. М., 1993. С. 331–332.
[Закрыть].
Быть самим собой – значит быть настроенным на бытие. Это не дается ни воспитанием, ни чтением книг, ни культурой, ни усилиями изощряющегося разума. Быть самим собой – значит быть открытым миру, который настраивает тебя, проводя над бездной отчаяния, над пропастями повседневной скуки обыденного существования, длящегося годами, над суетой и мелочностью быта.
Искусственного человека, или человека времени, отличает настроение скорби и грусти. Не как возникающие время от времени состояния сознания, а как постоянный и ровный фон существования человека, который понимает, что все радости жизни, в том числе и любовь, мимолетны, что настоящих друзей, с которыми можешь поделиться своими сокровенными мыслями, очень мало, что чаще всего тебя окружает равнодушие или даже злоба. Скорбь – это тоже форма страдания, это пустота и одиночество в нашем мире, где умный человек почти никогда не встречает подобного себе, а толчется среди существ, которые на вид сходны с ним, а в самом существенном чужды ему, как это выразил Диоген, искавший человека днем с зажженным фонарем. Скорбь не всегда имеет конкретный предмет, ее, полагал Шопенгауэр, чувствуешь, как правило, по отношению ко всей жизни в целом, она до известной степени представляет собой некоторое погружение в себя, замкнутость, постепенное исчезновение воли; она исподволь, но в сокровеннейшей глубине, даже подрывает и видимость последней – тело; при этом человек испытывает известное ослабление связей, легкое предчувствие смерти, и оттого такую скорбь сопровождает тайная радость; она именно и есть то, что англичане называют «радость горя».
И эта печаль, простирающаяся на всю жизнь в целом и освобождающая, – одна поистине трагична. Она создает то меланхолическое настроение, при котором человек носит в себе живое внутреннее убеждение в ничтожестве всех вещей, всех наслаждений и всех людей и потому ничего не желает и ни к чему не стремится, а ощущает жизнь как простую тягость, которую необходимо нести до конца. Такая меланхолия, согласно Шопенгауэру, представляет собой более счастливое настроение, чем какое бы то ни было состояние вожделения, когда придаешь цену иллюзии и гонишься за ней, как бы ни было это состояние отрадно.
Шопенгауэру вторил Кьеркегор, когда писал о том, что кроме многочисленных знакомых у него есть один друг – грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной работы она вдруг отзывает его, увлекает в свое уединение, и приходится идти за ней, хотя оставаясь на месте. Никогда сердце мое, писал он, не имело более верного друга – мудрено ли, что я принадлежу ему всем сердцем[172]172
См.: Кьеркегор С. Афоризмы эстетика // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994. С. 17.
[Закрыть].
Одиночество – это покинутость не людьми (что мало огорчало бы мыслителя), «а гениями веселья». «Бывало, они окружали меня со всех сторон, всюду отыскивали себе товарищей, везде ловили для меня случай; сонмы веселых эльфов толпились вокруг меня, как вокруг пьяного шаловливые школьники, и я улыбался им»[173]173
Там же. С. 26.
[Закрыть].
Скорбь – то «жало в плоть», которое делает невозможным счастье, безмятежность, любовь. Все это происходит не потому, что люди, в чью плоть вошло это жало, сознательно избегают счастья, не стремятся жить в простоте и спокойствии обыкновенного человека. Наоборот, они стремятся к счастью, они ищут любви, пытаются схватить, остановить счастливые мгновения, но их руки хватают только воздух. «Люди глубокой скорби выдают себя, когда бывают счастливы: они так хватаются за счастье, как будто хотят задавить и задушить его из ревности, – ах, они слишком хорошо знают, что оно сбежит от них!»[174]174
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 397.
[Закрыть]
Христианство, писал В.В. Розанов, нежнее и тоньше, углубленнее язычества. Все «Авраамы плодущие» не стоят человеческих слез. Человек впадает в язычество, когда он счастлив. Счастливому присуще быть язычником, как солнцу светить, растению быть зеленым, ребенку быть глупеньким и милым. Но он вырастает. Розанов утверждает, что можно снова вернуться к язычеству, если бы только удалось выздороветь, навсегда остаться здоровым. Но поскольку мы болеем и умираем – не только отдельный человек, но народы, исторические эпохи, то в мире открывается Христос. Тоска, грусть, страх смерти, робкая надежда на спасение составляют важнейшую часть человеческой души, ее фундаментальное, бытийное настроение. Грусть для Розанова – его вечная гостья. Она приходит вечером, в сумерках, неслышно, незаметно. Она примешивает ко всему свой налет, и этот налет – бесконечен. Грусть – это бесконечность. Грусть – это упрек, жалоба и недостаточность. Она пришла к человеку в тот вечерний час, когда Адам «вкусил» и был изгнан из рая. С того времени она всегда недалеко от него. Грусть – это бесконечность, возникающая в человеке в силу осознания им собственной конечности. Конечность этим не устраняется, но прорывается. Грусть – это божественный свет, свет трансценденции, это понимание недостижимости слияния с трансцендентным и в то же время ощущение его близости. Грусть также – показатель богоподобия человека, показатель наличия в нем глубины, бытийственной силы, почти никогда не совпадающей с его внешним определением и никогда не досягаемой человеком в своей сущности. Грусть – это путь к постижению, к ощущению Бога.
Как бы ни был в самом себе прекрасен человек, благороден, добр, возвышен, «окончательное» в нем проявляется только в печали. Розанов считает этот факт мировой тайной, мировой загадкой. Всякая земная радость рассматривается в христианстве через грусть. Если нет грусти – нет христианства. Язычество, полагал Розанов, это младенчество до какого-то перелома, потрясения, испытания, после которого невозможно снова впасть в младенчество. Христианство – выздоровление, но не здоровье. Его невозможно слить с торжеством культуры, первоначальным, здоровым, непосредственным. Недаром древние храмы полны птиц и животных, а новые – хромых, слепых, расслабленных. Христос начал свое дело изгнанием животных из храма, здесь возникает совсем иной дух. Слово «Спаситель» и означает – «врач». «Болящие, боль мира и не долгая уже жизнь, которая после болезни кажется уже как “воскресение”, как “преображение”, – вот в волны чего Христос опустил свое слово»[175]175
Розанов В.В. По тихим обителям // Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 393.
[Закрыть].
Добро и зло в искусственном состоянии
Зло, как уже говорилось, есть только в человеке, который, несмотря на то что стал человеком, продолжает в той или иной степени оставаться животным, т. е. пребывает в естественном состоянии. Огромные усилия культуры и цивилизации были положены на то, чтобы подавить в человеке животное начало, сделать его послушным, дисциплинированным, моральным. Во все века его дрессировали, наказывали, выбивали из него дух звериной злобы. Через сколько страданий, унижений, подавлений свободы, через сколько различных форм дисциплинарной практики нужно было пройти человеку, чтобы первобытный дикарь стал цивилизованным человеком. Это особенно явно проступает с появлением дисциплинарных технологий. Власть держит человека мертвой хваткой. Она захватывает его тело, клеймит, муштрует, пытает, принуждает к труду, заставляет участвовать в церемониях, производить знаки. Произошло открытие тела как объекта и мишени власти. Не составляет труда найти признаки пристального внимания к телу, которое подвергается манипуляциям, формированию, муштре, которое повинуется, реагирует, становится ловким и набирает силу. Человеческое тело вовлечено в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается «политическая анатомия», являющаяся одновременно «механикой власти». «В любом обществе тело зажато в тисках власти, налагающей на него принуждение, запреты и обязательства. Тем не менее в упомянутых техниках есть и новое. Прежде всего, масштаб контроля: не рассматривать тело в массе, в общих чертах, а прорабатывать его в деталях, подвергать его тонкому принуждению, обеспечивать его захват на уровне самой механики – движений, жестов, положений, быстроты»[176]176
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 199–200.
[Закрыть].
Появляется то, что можно назвать «дисциплинарным» телом, «управляемым», «подчиненным и послушным» телом. Канон дисциплинированного, послушного тела сознательно или бессознательно разделяется всеми, постоянно культивируется спортом, искусством, культурой в целом. Каждый человек проходит длительную обработку через школу, армию, производство, чтобы в конце концов стать послушным телом. И каким бы неповторимым и оригинальным ни ощущал себя человек, как бы ни боролся с попытками ограничить его самобытность и индивидуальную свободу, в той или иной степени он как тело все равно вовлечен в механизмы власти.
Существенно и бесценно в каждой морали, считал Ф. Ницше, то, что она является долгим гнетом. Но удивительно обстоятельство – только в силу «тирании таких законов произвола» и развилось все, что существует или существовало на земле в виде свободы, тонкости, смелости, танца и уверенности мастера – все равно в области ли самого мышления, или правления государством, или произнесения речей и убеждения слушателей, как в искусствах, так и в сфере нравственности. «Существенное …“на небесах и на земле”, сводится, по-видимому, к тому, чтобы повиновались долго и в одном направлении; следствием этого всегда является и являлось, в конце концов, нечто такое, ради чего стоит жить на земле, например добродетель, искусство, музыка, танец, разум, духовность – нечто просветляющее, утонченное, безумное и божественное. Долгая несвобода ума, гнет недоверия в области сообщения мыслей, дисциплина, которую налагал на себя мыслитель, заставляя себя мыслить в пределах установленных духовной и светской властью правил или исходя из аристотелевских гипотез, долгое стремление ума истолковывать все случающееся по христианской схеме и в каждой случайности заново открывать и оправдывать христианского Бога – все это насильственное, произвольное, суровое, ужасающее, идущее вразрез с разумом оказалось средством, при помощи которого европейскому духу была привита его сила, его необузданное любопытство и тонкая подвижность; прибавим сюда, что при этом также должно было безвозвратно пропасть, задохнуться и погибнуть много силы и ума (ибо здесь, как и везде, “природа” выказывает себя такою, какова она есть, во всем своем расточительном и равнодушном великолепии, которое возмущает, но тем не менее благородно)»[177]177
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 309.
[Закрыть].
Самую большую проблему представляет собой зло, идущее не от животной, хищной природы человека, а от ума. В свое время Сократ провозгласил: добродетель – это знание. С. Кьеркегор в «Болезни к смерти» писал, что основное положение Сократа как бы заранее оправдывает человека – ведь он не знал, что делает зло, не понимал этого. Однако у Сократа не исследуется переход от понимания к действию. Сократ ничего не разъясняет, считает Кьеркегор, относительно неспособности и нежелания понять. Если люди не делают правого, объяснял Сократ, это происходит в силу непонимания. Однако христианство, в сравнении с язычеством, идет намного дальше и считает, что происходит в силу отказа понять, проистекающего, в свою очередь, от отказа желать правого. Сейчас, с высоты веков развития христианства, мы можем сказать: грех пребывает в воле, а не в сознании, и подобное извращение воли превосходит сознание индивида. Сократу в его определении «никто не делает зла добровольно, а только по незнанию» не хватает воли, вызова. Греческая интеллектуальность, считал Кьеркегор, была слишком наивной, слишком эстетической, слишком ироничной, слишком насмешливой, слишком греховной, чтобы суметь понять, что некто со своим знанием, сознавая правое, может совершать неправое.
Люди часто совершают злые поступки с полным пониманием того, что делают, зло может быть изощренным, детально спланированным и рассчитанным на много шагов вперед. Но такая нарочитость, как правило, скрывается человеком от окружающих и даже от самого себя. Появляется масса рациональных оправданий, успокаивающих совесть и душу. «Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались»[178]178
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 445.
[Закрыть].
Сильное, хищническое, животное начало, способность ко злу обнаруживают специфическую глубину в человеке. В классическом гуманизме зло усматривали в несовершенстве общественного устройства, и потому во все века жила и занимала важное место в умах людей утопическая идея, согласно которой достаточно изменить бытие людей, преобразовать несовершенное общество, и человек будет лишен необходимости делать зло. Но зло лежит глубже социального измерения человека. Бог и дьявол борются в человеческой душе, и в искусственном человеке невозможна никакая окончательная победа добра над злом[179]179
«Слишком многое у нас привыкли относить на счет самодержавия, – писал Бердяев в 1918 г., – все зло и тьму нашей жизни хотели им объяснить. Но этим только сбрасывали с себя русские люди бремя ответственности и приучили себя к безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре» (Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 256).
[Закрыть].
Как ни странно, считал Достоевский, но только внутренне глубокие люди способны на зло. Эта глубина, бездонность в человеке открывается в специфических обстоятельствах, в человеке, «отпущенном на свободу», вышедшем из-под закона, из-под космического порядка. Подзаконное существование не раскрывает тайн человеческой природы. Только совершив, к примеру, преступление, человек в каком-то отношении поднимается над ними. Это неподзаконное существование открывает глубочайшую тайну души – ее сложность. В ней есть многое, чего мы и не подозреваем в себе. Большей частью люди не знают содержания своей души и не знают истинного образа того мира, в котором они живут. Ведь этот мир также открывается в своей истине только человеку, открывшему глубину своей души. «С преступлением, – писал В. Розанов, – вскрывается один из этих темных родников наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами духовные нити, связывающие мироздание и все живое в нем. Знание этого-то именно, что еще закрыто для всех других людей, и возвышает в некотором смысле преступника над этими последними. Законы жизни и смерти становятся ощутимыми для него, как только, переступив через них, он неожиданно чувствует, что в одном месте прервал одну из таких нитей и, прервав, – как-то странно сам погиб. То, что губит его, что можно ощущать только нарушая, и есть в своем роде “иной мир, с которым он соприкасается”; мы же только предчувствуем его, угадываем каким-то темным знанием»[180]180
Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского // Розанов В.В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 47.
[Закрыть].
Способность ко злу, склонность ко злу – неизбежные спутники человека, такие же неизбежные, как его собственная тень. «О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что, если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать, зазнамо, против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды»[181]181
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 454. «Выражаются иногда про зверскую жестокость человека, – говорит Иван в “Братьях Карамазовых”, – но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Тигр просто грызет, рвет – и только это и умеет. Напротив, человек в жестокость свою влагает какую-то утонченность, тайное и наслаждающееся злорадство. От этой черты не освобождает его ни национальность, ни образование или, наоборот, первобытность, ни даже религия; она вечна и неистребима в человеке» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Т. 1. С. 309).
[Закрыть].
Сознательное творение зла вовсе не удел патологических типов, маньяков. Часто человек совершает преступление, чтобы доказать себе, что он не тварь дрожащая, не «штифтик», не клавиша, а способен на поступок.
Достоинство человека, достоинство его веры, полагал Достоевский, предполагает признание двух свобод: свободы добра и зла и свободы в добре. Свобода не может быть отождествлена с добром, с истиной, с совершенством. Свобода есть свобода, а не добро. И всякое смешение и отождествление свободы с самим добром и совершенством есть отрицание свободы, есть признание путей принуждения и насилия. Принудительное добро не есть уже добро, оно перерождается в зло. Свободное же добро, которое есть единственное добро, предполагает свободу зла. В этом трагедия свободы. Свобода же зла ведет к истреблению самой свободы, к перерождению в злую необходимость. Отрицание свободы зла и утверждение исключительной свободы добра тоже ведет к отрицанию свободы, к перерождению свободы в добрую необходимость. Но добрая необходимость не есть уже добро, ибо добро предполагает свободу. Здесь всегда два полюса: злая свобода и доброе принуждение. Свобода погибает либо от зла, либо от принуждения к добру.
Человек, решаясь на зло, испытывает себя, пытается выйти из-под закона, пытается доказать себе, что он человек, обладающий свободой воли, а не винтик в общей отлаженной социальной машине. Главные герои Достоевского – это люди, решившиеся на преступление, чтобы доказать себе и другим, что они свободные существа (Раскольников, Карамазов, Шатов и др.). Опыт зла изобличает ничтожество зла, в этом опыте зло сгорает, и человек приходит к свету[182]182
«Но эта истина опасна, она существует для подлинно свободных и духовно зрелых, от несовершеннолетних она должна быть скрыта. И потому Достоевский может казаться опасным писателем, его нужно читать в атмосфере духовной освобожденности. И все-таки нужно признать, что нет писателя, который так могущественно боролся бы со злом и тьмой, как Достоевский. … Лишь раб или несовершеннолетний может понять тезис Достоевского о зле так, что нужно идти путем зла, чтобы получить новый опыт и обогатиться… Невозможны никакие детские игры или хитрости со злом» (Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 71).
[Закрыть].
«Ненормальность» человека, его несовпадение с общественными требованиями, его неприятие многих социальных норм и идеалов есть на самом деле норма его истинного существования. Причина зла – в свободе воли человека, и уничтожить зло можно, только отняв у человека свободу. Все деспотические режимы успешно борются с преступностью, поскольку сводят до минимума человеческую свободу, любое нарушение закона жестоко карается. От преступности в таком обществе быстро избавляются, люди могут свободно гулять по вечерам, не опасаться карманных и квартирных краж, но в то же время они совершенно несвободны, они рабы мощного государственного аппарата.
Наоборот, в демократических странах уровень преступности всегда довольно высок: злые люди пользуются предоставленными свободами, потому что в демократическом государстве человека нельзя просто так арестовать, а надо долго и тщательно готовить и обосновывать обвинение, чтобы не нарушить какой-нибудь закон, не ущемить свободу человека, даже если этот человек подозревается в преступлении.
У польского писателя-фантаста Станислава Лема есть роман «Возвращение со звезд». Космонавты возвращаются на землю после двадцати лет отсутствия. За это время на земле произошла Великая Гуманитарная революция – всем сделали прививку, после которой человек уже стал неспособен на агрессию, грубость, насилие. Осуществилась извечная мечта – нет больше преступлений, нет войн. Но космонавты, у которых такой прививки не было, пользуются, как ни странно, огромным успехом в обществе – в них все видят нормальных, полноценных людей. Способность ко злу, агрессивность оказалась тесно связанной с талантом, упрямством в достижении целей, смелостью. А люди с прививкой стали напоминать послушных овец.
Когда человек живет законопослушно, то зло дремлет в нем, чаще всего так и не выходя наружу, и человек сам не подозревает о скрытых в нем безднах. Отчего так бывает, спрашивает подпольный человек Достоевского, что как раз в те минуты, когда я наиболее способен был сознать все тонкости «всего прекрасного и высокого», мне случалось делать такие неприглядные деяния, которые хоть и все делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем более я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Разве мы не любим иногда хаос, разрушение, беспорядок еще жаднее, чем правильность и созидание?
Можно сказать, что существуют две морали – мораль обыденности и мораль трагедии. Искусственный человек остро чувствует, как его засасывает обыденная жизнь – с ее регламентациями, правилами, запретами, законами. С ними надо считаться, надо подчиняться им, даже если по этим законам выходит, что ты всего лишь фортепианная клавиша и все, что ты ни делаешь, делается вовсе не по твоему хотенью, а по законам природы[183]183
«Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов…» (Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 456).
[Закрыть]. Жизнь человека, это осознающего, трагична по своей сути: ведь почти невозможное дело – перестать быть клавишей. Часто ради этого он может решиться совершить что-нибудь из ряда вон выходящее. Конечно, дело облегчается, если есть талант. А если нет, то можно сжечь храм, убить президента, на худой конец старуху-процентщицу, лишь бы заявить о себе, лишь бы перестать быть послушной клавишей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.