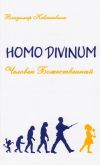Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
И все мы в большей или меньшей степени оказываемся в этом состоянии «личного смятения». Снова и снова мы мечтаем о «большом упрощении»; спонтанно мы предаемся регрессивным фантазиям, в которых образы внутриутробного мрака и окруженного стенами дома являются главными вдохновляющими идеями. Поиск первичного убежища – противоположность ответственности, точно так же как отклонение от норм и бунт были противоположностью подчинения нормам. Тоска по первичному убежищу пришла на смену бунту, переставшему теперь уже быть разумным выбором.
Жизнь среди множества конкурирующих ценностей, норм и стилей, без твердой и надежной гарантии своей правоты опасна, и за нее приходится платить высокую психологическую цену[143]143
«Кибернетическая революция подводит человека, оказавшегося перед лицом равновесия между мозгом и компьютером, к решающему вопросу: человек я или машина? Происходящая в наши дни генетическая революция подводит человека к вопросу: человек я или виртуальный клон? Сексуальная революция, освобождая все виртуальные аспекты желания, ведет к основному вопросу: мужчина я или женщина? (Психоанализ, по меньшей мере, положил начало этой неуверенности.) Что же касается политической и социальной революции, послужившей прототипом для всех других, она, предоставив человеку право на свободу и собственную волю, с беспощадной логикой заставила его спросить себя, в чем же состоит его собственная воля, что он хочет на самом деле и чего он вправе ждать от самого себя. Поистине неразрешимая проблема. Таков парадоксальный итог любой революции: вместе с ней приходят неопределенность, тревога и путаница» (Там же. С. 38–39).
[Закрыть]. Не удивительно, что привлекательность второй реакции, состоящей в том, чтобы скрыться от необходимости ответственного выбора, набирает силу.
Поэтому подлинно свободным индивидом, как полагают Ж. Делёз и Ф. Гваттари, является «шизо» – деконструированный субъект, порождающий сам себя как человека, лишенного ответственности, одинокого и говорящего от своего имени, не испрашивая на это ничьего разрешения. Это имя, не обозначающее никакого «это» и потому не боящееся сойти с ума. Шизофрения индивида у Делёза выступает аналогом разорванности общества. Всякая общепризнанная нормальность – не более чем социальный компромисс. Шизофреник, в отличие от параноика, осознает свое безумие. Поэтому шизофрения, по Делёзу и Гваттари, выступает освободительным началом для индивида и революционной силой для общества. Художник в «разорванном» обществе – и больной, и врач: творческий акт возможен только при шизофрении. В силу этого художник – «состоявшийся шизофреник». «Философию нередко сопоставляли с шизофренией, но одно дело, когда шизофреник – это концептуальный персонаж, который интенсивно живет в мыслителе и заставляет его мыслить, а другое дело, когда это психосоциальный тип, который вытесняет живого человека и похищает его мысль. Причем иногда они оба сопрягаются, смыкаются друг с другом, как будто сверхсильному событию соответствует сверхтруднопереносимое жизненное состояние»[144]144
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. СПб., 1998. С. 92.
[Закрыть].
Существование как проблема
Быть человеком можно, как уже говорилось, только все время освобождаясь от всех сущностных определений, от всех коннотаций, от любого – биологического, социального, личностного – объективирования себя самого. Это и значит быть живым человеком, ибо всякие определения и спецификации омертвляют. Мне, например, говорят, что я злой, но я против такого маркирования моей сущности. Это слишком просто для такого сложного существа, каковым я являюсь[145]145
«Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, – существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет – это вся жизнь…» (Достоевский Ф.М. Записки из подполья).
[Закрыть].
Быть живым – значит стремиться освободиться от прошлого и от такого настоящего, которое является лишь тенью прошлого. Каждая юная душа, считал Ницше, должна думать об этом и стремиться к своему освобождению, так же как и эпоха в целом. Возможно, какому-нибудь отдаленному потомству наша эпоха будет казаться самым темным и неизвестным, самым нечеловеческим отрезком истории, в котором господствовали не живые люди, а подобия людей. Напротив, как много надежд, считал он, будут питать те, кто не чувствует себя гражданами этого времени, ибо, будь они таковыми, они также служили бы тому, чтобы убить свое время и погибнуть вместе с ним.
Живой человек всегда находится в таком месте, где нет пространства и времени, нет вещей самих по себе добрых и красивых, благородных и возвышенных, нет удвоения мира. Есть маленькая мерцающая точка индивидуального сознания в темных безднах. Это особенно относится к философски мыслящему человеку, который должен постоянно преодолевать настоящее, вырываться из его оков, из его стереотипов, из огромного количества усыпляющих и успокаивающих своей массированностью и надежностью знаний, которые существуют в каждую эпоху, из сложившихся представлений о жизни и смерти. Надо быть судьей всему тому, что сложилось, затвердело и омертвело. «Суждение старых греческих философов о ценности жизни говорит бесконечно больше, чем современное суждение, потому что они имели вокруг себя и перед собой самое жизнь в ее пышнейшем расцвете и потому что у них настроение мыслителя не затемнялось раздором между желанием свободы, красоты, величия жизни и влечением к истине…Современный же мыслитель… всегда будет страдать от невыполнимого желания: он будет требовать, чтобы ему сперва показали снова жизнь – настоящую, красную, здоровую жизнь, и лишь затем он сможет произнести о ней свой приговор. По меньшей мере, в отношении самого себя он будет считать нужным быть живым человеком прежде, чем иметь основание признать себя справедливым судьей»[146]146
Ницше Ф. Несвоевременные размышления. С. 26–27.
[Закрыть].
И совесть, и любовь, как все истинно человеческие качества, существуют только в бодрствующем, напряженном состоянии, когда мое существование открывается мне в глубине моей субъективности. Но чем больше мы осваиваемся с внутренней жизнью, чем лучше опознаем удивительную и текучую множественность, которая нам таким образом открывается, тем более чувствуем неуловимость и непостижимость сущности нашего Я. Субъективность невозможно концептуализировать, она являет собой непознаваемую пропасть, не доступную идее, понятию или образу, любому типу науки, интроспекции, психологии или философии. Любая реальность, познанная с помощью понятий или идей, постигается в качестве объекта, а не субъекта. Но субъективность непознаваема, она ощущается как благотворная и всеохватывающая ночь. «Субъективность – это овладение собой благодаря собственному дару – дару существования. Но для этого нужно глубокое внутреннее преображение “Я”, интуитивное понимание своей укорененности в бытии. В подобной интуиции открывается действительная бездна субъективности, открывается врожденная щедрость существования»[147]147
См.: Маритен Ж. Краткий очерк о существовании и существующем // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 242.
[Закрыть].
Человек всегда, сознательно или бессознательно, стремится к чистому существованию, стремится освободиться от сущего: от своего тела (болезни, старости, смерти), от мира, в котором никогда не воплощаются в действительность никакие идеи и мечтания, от общества, в котором невозможна полная свобода, от других людей, поскольку невозможно постоянное пребывание в состоянии любви или доброты. Чистая воля, чистая вера, чистая любовь, чистая мысль – это те стихии, которые для человека существуют только как метафоры, но это не метафоры ума, а метафоры жизни. Я могу любить, если могу существовать в стихии любви, быть способным к любви, т. е. иметь живую душу, откликающуюся на боль и страдания других людей. Я могу мыслить о чем-то конкретном, мыслить оригинально и интересно, если могу удерживаться в чистой стихии мысли, в особом внутреннем сосредоточении, духовном напряжении, когда только и может возникнуть любая конкретная мысль о чем-либо. Я могу верить, если мне доступна чистая вера, которая не мысль, не убеждение в существовании личного трансцендентного Бога, а внутреннее состояние духа, живая полнота сердца, подобная, как считал Франк, свободной радостной игре сил в душе ребенка[148]148
Франк С. С нами Бог // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 259.
[Закрыть].
В полной мере чистое существование возможно или только в младенчестве и первые годы детства, когда человек еще не отягощен никакими грехами, нет никакого разлада между сущим и должным, или в той стадии зрелости и мудрости, которой человек достигает специфическим усилием. Пребывание в таком чистом существовании и есть опыт бытия, последнее открывается нам постольку и так долго, поскольку и как долго мы можем в нем удерживаться.
Таким образом, подлинно существующий человек является метафорой самого себя, ибо он – только проект, задание, которое никогда не осуществляется и в принципе не может осуществиться, потому что человек не может жить в чистом существовании, так как он никогда и не живет, а только собирается жить или вспоминает о тех мгновениях, когда он действительно жил. Человеческая жизнь – это всегда цепь неудач, ибо в ней, если это человеческая, а не животная жизнь, никогда ничего не получается, по большому счету мысль изреченная оказывается ложью, замысел не совпадает с результатом, периоды вдохновения очень кратки и всегда сменяются опустошенностью или разочарованием[149]149
Толстой в 80 лет признавался: «Я часто представляю себе героя истории, которого я хотел бы написать. Человек, воспитанный, положим, в среде революционеров, сначала революционер, потом народник, социалист, православный, монах на Афоне, потом атеист, семьянин, потом духоборец, все начинает, все бросает, не кончая. Люди над ним смеются. Ничего не сделал и безвестно помирает где-нибудь в больнице. И умирая, думает, что даром погубил свою жизнь. А он-то – святой» (цит. по: Шестов Л. Власть ключей // Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 171). Подпольный человек у Достоевского говорит: «О господи, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить».
[Закрыть].
Существование противоречиво, поскольку человеку всегда хочется утвердиться в чем-то конкретном, получить специальность, профессию, устойчивый быт, ясное видение перспектив. И в то же время любая устойчивость и постоянство пугают, так как человек видит границы, пугает всякая завершенность, законченность, все время хочется вырваться из застывшей формы, поломать ее. И если нельзя поломать, то человек начинает воображать себе другую жизнь, более яркую, более счастливую, в которой он обладает многочисленными талантами, живет свободно, имеет много друзей и совершает подвиги. Многие люди часть своей жизни проводят в призрачном, воображаемом мире, и этот воображаемый мир – вовсе не бессмыслица, не излишняя роскошь, он помогает им принять жесткие условия реального существования, примириться с ними, переносить их.
Искусственный человек полагает, что жизнь с ее ежечасными, ежедневными, еженедельными и ежегодными малыми, большими и огромными невзгодами, с ее обманутыми надеждами, с ее разрушающими все расчеты несчастными случаями носит на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно понять, как можно этого не видеть. Благополучие, счастье, здоровье – все это имеет отрицательный характер, только страдания и лишения могут ощущаться нами положительно и оттого сами заявляют о себе. Наше существование, замечал Шопенгауэр, счастливее тогда, когда мы его не замечаем; а отсюда следует, что лучше бы не существовать вовсе.
Так, например, художественная литература – драма и эпос – всегда изображает одних только борющихся, страдающих и угнетаемых людей, и всякий роман – это панорама, в которой видны спазмы и конвульсии страдающего сердца. Он никогда не изображает окончательного и постоянного счастья. Вся человеческая жизнь качается, согласно Шопенгауэру, между страданием и скукой: желание – страдание, удовлетворение – скука. Что бы ни дала природа, как бы часто ни выпадало счастье, кем бы мы ни были и чем бы ни владели, нельзя избыть присущего жизни страдания. Наши усилия освободиться от него приводят лишь к тому, что страдание меняет свой облик. Сначала это нужда, забота о существовании, потом, если повезет изгнать страдание в этом виде, оно является как половое чувство, страстная любовь, ревность, зависть, гнев, страх, болезнь и т. д. Только редким людям удается достичь стоического равнодушия к страданиям. «…История каждой жизни – это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод. …Ни один человек в конце жизни никогда не пожелает еще раз пережить ее, если только он разумен и искренен; гораздо охотнее изберет он полное небытие… Поэтому столь часто оплакиваемая скоротечность жизни, быть может, есть самое лучшее в ней»[150]150
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 1. С. 308–309.
[Закрыть].
Люди напрасно ропщут на свои несчастья, ибо считают их случайностями. Но страдание неизбежно, от случая зависит только вид или форма его.
Страдание – необходимый фон истинно человеческого существования. Страдания нужны для того, считал Шопенгауэр, чтобы человек сохранял в себе возвышенный образ мыслей, направлял их от временного к вечному, «чтобы в нем жило высшее сознание, ему необходимы боль, страдание и неудачи так же, как кораблю отягчающий его балласт, без которого он не измерит глубины, станет игрушкой волн и ветров, не пойдет по определенному пути и легко перевернется»[151]151
Шопенгауэр А. Новые Paralipomena // Шопенгауэр А. Соч.: В 6 т. Т. 6. С. 120. «Страдание – условие деятельности гения. Вы полагаете, что Шекспир и Гете творили бы или Платон философствовал, а Кант критиковал разум, если бы они нашли удовлетворение и довольство в окружавшем их действительном мире и если бы им было в нем хорошо и их желания исполнялись?» (Там же. С. 126).
[Закрыть].
Страдание представляет собой «второе плавание», это суррогат добродетели и святости; просветленные им, мы достигаем, в конце концов, отрицания воли к жизни, возвращаемся с ложного пути, приходим к спасению; именно потому та таинственная власть, которая правит нашей судьбой, считал Шопенгауэр, в народной вере мифически олицетворяемая как провидение, позаботилась, бесспорно, о том, чтобы причинять нам страдания за страданиями.
Чтобы из твари стать творцом, нужно страдать, страдание – самый быстрый конь, который домчит тебя до совершенства. Страдать, потому что страшно решиться на поступок без всякой гарантии на успех, страшно отказаться от привычной роли, привычных стереотипов, страшно отказаться от самой жизни, потому что жизнью надо рисковать. Либералы, просветители во все века искали пути избавления человека от страданий, но если из человеческой жизни устранить страдание, то это будет уже не человеческая жизнь. Философия после смерти Бога ставит своей задачей воспитание страдания, великого страдания – только оно одно возвышает человека.
«…Эти ложно названные “свободные умы”, – писал Ницше в работе “По ту сторону добра и зла”, – как словоохотливые и борзопишущие рабы демократического вкуса и его “современных идей”: все это люди без одиночества, без собственного одиночества, неотесанные, бравые ребята, которым нельзя отказать ни в мужестве, ни в почтенных нравах, – только они до смешного поверхностны, прежде всего с их коренной склонностью видеть в прежнем, старом общественном строе более или менее причину всех людских бедствий и неудач; причем истине приходится благополучно стоять вверх ногами! То, чего им хотелось бы всеми силами достигнуть, есть общее стадное счастье зеленых пастбищ, соединенное с обеспеченностью, безопасностью, привольностью, облегчением жизни для каждого; обе их несчетное число раз пропетые песни, оба их учения называются “равенством прав” и “сочувствием всему страждущему”, – и само страдание они считают за нечто такое, что должно быть устранено. Мы же, люди противоположных взглядов, внимательно и добросовестно отнесшиеся к вопросу, – где и как до сих пор растение “человек” наиболее мощно взрастало в вышину, полагаем, что это случалось всегда при обратных условиях, что для этого опасность его положения сперва должна была разрастись до чудовищных размеров, сила его изобретательности и притворства (его “ум”) должна была развиться под долгим гнетом и принуждением до тонкости и неустрашимости, его воля к жизни должна была возвыситься до степени безусловной воли к власти: мы полагаем, что суровость, насилие, рабство, опасность на улице и в сердце, скрытность, стоицизм, хитрость искусителя и чертовщина всякого рода, что все злое, ужасное, тираническое, хищное и змеиное в человеке так же способствуют возвышению вида “человек”, как и его противоположность»[152]152
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 274–275.
[Закрыть].
Только страдание, великое страдание, воспитание страданием возвышало до сих пор человека, полагал Ницше. То напряжение души в несчастье, которое прививает ей крепость, ее содрогание при виде великой гибели, ее изобретательность и храбрость в перенесении, претерпении, истолковании, использовании несчастья и все, что даровало ей глубину, тайну, ум, хитрость, величие, – все это было даровано ей под оболочкой страдания, под воспитанием великого страдания.
Человек, который глубоко страдал, насквозь пропитан уверенностью, что благодаря своему страданию он знает больше, чем могут знать самые умные и мудрые люди, что ему ведомо много далеких и страшных миров, в которых он некогда «жил». Отсюда его духовное высокомерие и брезгливость по отношению к людям поверхностным, людям без глубины, без внутреннего, которое только и образуется за счет страдания.
Тем не менее страдание нельзя понимать как некое психологическое состояние. Страдание – объективное условие существования человека. Однако, по Ницше, бывает два вида страдания и страдающих. Те, кто страдают от избытка жизни, превращают страдание в утверждение, а опьянение – в действие. Те, кто страдают от оскудения жизни, превращают опьянение в конвульсию или оцепенение. Для них страдание – средство обвинения жизни, противостояния ей, а также средство оправдания ее. Но жизнь не нуждается в оправдании. Страдание возвышает человека до трагического понимания жизни, но это трагическое, если оно вырастает из страдания от избытка жизни, заключается не в тревоге, не в тоске по утраченному единству, а пребывает, по Ницше, в радости утверждения жизни. «Эта радость – не результат сублимации, очищения, воздаяния, смирения, примирения – в любой теории трагического Ницше может изобличить сущностное недопонимание, недопонимание трагедии как эстетического феномена. Трагическое означает эстетическую форму радости, а не медицинскую формулировку, не моральное разрешение от боли, страха или сострадания. Что трагично, так это радость»[153]153
Делёз Ж. Ницше и философия. М., 2003. С. 63. «Люди принимают всю эту комедию (то есть мир явлений) за нечто серьезное, при всем своем бесспорном уме, – продолжает Черт в своей беседе с Иваном. – В этом их и трагедия. Ну, и страдают, конечно, но все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания – какое было бы в ней удовольствие? Все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1991. Т. 2. С. 370).
[Закрыть].
Еще одним условием существования искусственного человека является одиночество. Быть одиноким – не результат неудачно сложившейся жизни, но цель. Быть одиноким – значит быть единственным, неповторимым, отвечающим за свою жизнь, значит не быть членом стада, коллектива, общества, человеком массы. Каждой эпохе – свое, отмечал Кьеркегор, и, быть может, наше время состоит не в удовольствии и наслаждении, но в развращающем презрении к отдельному человеку. Никто не хочет быть отдельным экзистирующим человеком. Люди боятся, что, если они станут экзистирующими людьми, они бесследно исчезнут. Существует, экзистирует только отдельный человек, все остальное абстракция.
Когда Наполеон, писал Кьеркегор, вел свою армию походом в Африку, он напомнил солдатам, что память сорока веков смотрит на них с вершин пирамид. Нет ничего удивительного в том, что в то мгновение, когда произносится такое заклинание, самый трусливый солдат преображается, становясь героем! Но мир существует уже шесть тысяч лет, и это значит, что память этих шести тысяч лет смотрит с небес на отдельно существующего человека – разве это не воодушевляет? «Однако среди всей бодрости, демонстрируемой родом, легко различимы уныние и трусость, овладевшие индивидом. Подобно тому как путешествующие в пустыне объединяются в караваны из страха перед разбойниками и дикими зверями, индивиды в нынешнем поколении страшатся существования, поскольку оно богооставлено, – они осмеливаются жить лишь большими толпами и скучиваются вместе en masse, чтобы хоть чего-нибудь да стоить»[154]154
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». СПб., 2005. С. 385.
[Закрыть].
В классической философии считалось: тот, кто не может возвыситься над своей единственностью, единичностью, над своей «случайной» индивидуальностью, тот и не существует в подлинном смысле слова. У философов была «история вообще», «человек вообще» как воплотившийся дух, но это абстракции, не имеющие ничего общего с жизнью. Еще недавно, писал Л. Шестов, люди строили величественную башню, которая называлась современной культурой, но вдруг разразилась мировая война, и от гордой башни европейской цивилизации остались одни развалины. Человек может построить башню, но до Бога не доберется. «Добраться может только “этот человек”… – тот единичный, случайный, незаметный, но живой человек, которого до сих пор философия так старательно и методически выталкивала заодно со всем “эмпирическим” миром за пределы “сознания вообще”»[155]155
Шестов Л. Власть ключей. С. 34.
[Закрыть].
Люди думают, что, для того чтобы быть кем-то, надо жить в больших коллективах. Они сливаются со своим временем, со своим столетием, поколением, с публикой, с массой человечества, и мнимое мужество поколения прикрывает действительную трусость индивидов. Отдельное, направленное на себя существование есть исключительная и единственная действительность по отношению к системе, которая равным образом все объемлет и выравнивает отличия (между бытием и ничто, мышлением и бытием, всеобщностью и единичностью) на уровне некоего нейтрального бытия. Оно есть действительность единичного в отличие от исторической всеобщности (всемирной истории и поколения, массы, публики и времени), для которой индивидуум как таковой ничего не значит. Оно есть внутреннее существование единичного по сравнению с внешними отношениями. Оно есть христианское существование перед лицом Бога по сравнению с овнешнением христианства во вселенски распространившемся христианском мире. Оно есть существование, решающее для самого себя – за оно или против христианства[156]156
См.: Лёвит К. От Маркса к Ницше. СПб., 2002. С. 286.
[Закрыть].
Любая разновидность объединения – «система», «человечество» или «христианство» – кажется естественному человеку нивелирующей силой, она усиливает людей количественно и ослабляет этически. Истинно экзистирующий человек – это, по Кьеркегору, совершенно индивидуальный человек, лишенный себе подобных, и в то же время он – всеобщий человек.
Существовать – это искусство. Это достижение целостной жизни, в которой объединены мысль, страсть, вера, поэзия. Это единая страсть, в которой человек только и чувствует себя живущим, экзистирующим. А вот соединить элементы жизни в некую одновременность – это действительно достойная задача. И подобно тому, пишет Кьеркегор, как странен взрослый человек, который полностью порывает все связи со своим детством и потому может считаться разве что фрагментарным взрослым, также странен мыслитель, отказывающийся от фантазии и чувств, что не менее безумно, чем отказываться от разума[157]157
«А между тем это именно то, к чему, по-видимому, стремятся люди. Они чураются поэзии и изгоняют ее, считая все это неким надстроечным элементом, поскольку поэзия наиболее тесным образом связана с фантазией. В процессе получения научного знания вполне можно квалифицировать ее как надстроечный элемент, однако для сферы экзистенции справедливо, что пока существует хоть один человек, стремящийся обрести именно человеческую экзистенцию, он должен сохранять для себя поэзию, и все его мышление призвано не разрушать чары поэзии, но скорее усиливать их. Точно так же обстоит дело и с религией. Религия – это не игрушка для инфантильной души, не игрушка, которую с течением времени придется отложить в сторону; с другой стороны, стремление непременно сделать это указывает на инфантильное, суеверное отношение к этому со стороны мышления. Истина вовсе не превосходит добро и красоту; но истина, добро и красота по сути своей принадлежат каждой человеческой экзистенции, – и для экзистирующего индивида они соединяются не в мышлении о них, но в самом экзистировании» (Кьеркегор С. Там же. С. 377).
[Закрыть].
Для отдельного индивида, полагает Кьеркегор, его собственная этическая действительность должна значить больше, чем небо, и земля, и все, что там находится, больше, чем шесть тысяч лет всемирной истории, и даже больше, чем астрология, ветеринарная наука или что там еще востребовано нашим временем. И если индивид не готов к этому – тем хуже для него самого, ибо тогда у него вообще ничего не остается, все остальное дано только как абстрактная возможность.
От воспевания «единицы» (Кьеркегор) до Man (Хайдеггер) эта линия борьбы со всеобщим выдерживается строго и однозначно: быть одному страшно, опасно, в крайнем случае рискованно, потому что живешь на свой страх и риск, не ожидая ни подсказки, ни гарантии, что ты прав, что ты не сумасшедший, поскольку все могут быть не правы, а ты один прав. Есть общие правила, стандарты, шаблоны, выполнение которых каждому обеспечивает безопасность, за которые каждый человек может спрятаться как за всеобщее, ценное для всех. «…Еще выше вьется одинокая тропа, узкая и крутая; он знает, насколько ужасно быть рожденным вовне, одиноко выходить из всеобщего, не встретив рядом ни одного путника… С человеческой точки зрения он безумен и не может сделаться понятным ни для кого. И даже эти слова о безумии будут, пожалуй, слишком мягким выражением»[158]158
Кьеркегор С. Страх и трепет. С. 72.
[Закрыть].
Человек отличается от прочих живых существ не только совершенствами, которые обычно упоминают, но и превосходством природы индивида, отдельного и единичного, над родом. Вся история – это подчинение всеобщему, и как трудно вырваться назад к единичному! «Вполне бездарные люди, – писал Шопенгауэр, – совершенно не могут выносить одиночества; созерцание природы, мира не занимает их. Это происходит оттого, что они всегда имеют перед глазами лишь собственную волю и поэтому упускают в предметах все, что не имеет отношения к их воле, их личности»[159]159
Шопенгауэр А. Новые Paralipomena. С. 59.
[Закрыть].
Обычно, рассуждал Кьеркегор, боятся освободить людей, боятся, что произойдет самое худшее, если только людям понравится вести себя как единичным индивидам. Более того, считается, что существовать в качестве единичного индивида – это самое простое и что именно поэтому приходится вынуждать людей становиться чем-то всеобщим. «Я не могу разделить ни этого страха, ни этого мнения, причем по одной и той же причине. Тот, кто узнал, что самое страшное из всего – это существование в качестве единичного индивида, не должен бояться признать, что в этом есть величие, но он должен сказать об этом таким образом, чтобы его слова не оказались ловушкой для заблудшего, они скорее должны помогать ему входить во всеобщее, даже если эти слова уделяют величию совсем немного места… Тот, кто действительно внимателен к самому себе и действительно заботится о своей душе, уверен в том, что человек, который под собственную ответственность одиноко живет на свете, живет на деле более сурово и замкнуто, чем девица в своей башне девичества»[160]160
Кьеркегор С. Страх и трепет. С. 71.
[Закрыть].
Если нельзя спрятаться за всеобщее, если надо жить на свой страх и риск, ибо на все случаи жизни и на каждый жизненный путь не подберешь правил и законов, то только такая одинокая, собственная, своеобразная жизнь и может быть жизнью нравственной. Все моральные нормы, полагал Ницше, странны по форме и неразумны, потому что обращаются ко всем, потому что обобщают там, где нельзя обобщать; все они изрекают безусловное и считают себя безусловными; всем им мало для приправы одной только крупицы соли. «…Мы прирожденные, неизменные, ревнивые друзья одиночества, нашего собственного, глубочайшего, полночного, полдневного одиночества, – вот какого сорта мы люди, мы, свободные умы»[161]161
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 276.
[Закрыть].
Для свободных умов общее благо, по мнению Ницше, – не идеал, не цель, не какое-нибудь удобоваримое понятие, а только рвотное: что справедливо для одного, не может быть справедливым для другого, что требование одной морали для всех наносит вред именно высшим людям, что есть разница в рангах между человеком и человеком, а следовательно, между моралью и моралью[162]162
«Добродетель, – писал Ницше в «Антихристе», – должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то вредит ей: добродетель только из чувства уважения к понятию “добродетель”, как хотел этого Кант, вредна. “Добродетель”, “долг”, “добро само по себе”, доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе свою добродетель, свой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий “безличный” долг, всякая жертва молоху абстракции» (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 638–639).
[Закрыть].
Поскольку человеком владеет постоянное стремление стать бытием, определиться, овеществиться, оставаясь человеком, стать полноценной частью объективного мира или Богом, а это стремление никогда не осуществимо, человеческая реальность является, следовательно, несчастным сознанием по природе, без возможностей выхода из состояния несчастья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.