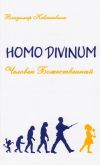Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Еще одним слоем памяти можно назвать «память сердца» – то, что образует фон нашей интеллектуальной активности, всех наших попыток понять мир и устроиться в нем. Эта память делает возможным восприятие мира как живого, волнующего, непостижимого целого. Память сердца возникает и закрепляется в нас тогда, когда я пытаюсь свою жизнь сделать предметом искусства. Что это значит? Почему я одни события или истины запоминаю, а другие нет? Согласно М. Прусту, есть утраченное время, а есть время обретенное. В утраченном времени ничего со мной не произошло и не вошло в состав моей памяти. Я не закрепил прошедшие события силой своего искусства[217]217
«…Самое большое отличие – это отличие между Временем утраченным и Временем обретенным… Утраченное время – это не только время, которое проходит, деформируя живые существа и разрушая созданное; это также и время, которое теряют… Обретенное же время – это, прежде всего, время, обретающее в недрах времени утраченного и одаривающее нас образом вечности; но это также абсолютно подлинное, действительное, вечное время, что утверждается в искусстве» (Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999. С. 42).
[Закрыть]. Здесь об искусстве говорится не только в том смысле, что я попытался происшедшее выразить в стихах или прозе (это тоже важная, но не всем доступная возможность), но и в том смысле, что я живу опытом искусства: я переживаю смерть, разлуку, одиночество и покинутость всеми (это я их переживаю, а не они со мной случаются). Можно расстаться с человеком, зная, что никогда его больше не увидишь, и постепенно забыть его. А можно из этого сделать трагедию: жизнь так коротка, так мало людей, с которыми существует душевная связь, расставание подобно грустной мелодии, которая всегда звучит при воспоминании об этом человеке, расставание подобно смерти, которая коснулась своим крылом, провела невидимую борозду между нами.
Мы иногда вспоминаем каких-то знакомых, которых давно не встречали, и даже беседуем с ними, а потом оказывается, что они уже умерли. Порой мы пытаемся, хотя бы мысленно, вернуться в страну своего детства, но ее уже давно нет, она живет только в нашей памяти. Все, что мы видим и воспринимаем, – это только память, память мира, память вселенной, память человека. И то, что мы сейчас воспринимаем, моментально становится памятью. Смерть – один из тех важнейших переключателей, которые поддерживают и формируют память. «…Любовь может длиться только как подготовка своего исчезновения, как подражание разрыву. Когда мы воображаем, что нам хватит жизни на то, чтобы увидеть собственными глазами, что произойдет с теми, кого мы потеряли, – это-то и является состоянием любви как смерти»[218]218
Там же. С. 44. «…Сама смерть – внезапное откровение, каким она для меня явилась, – провела во мне, подобно молнии, по какому-то сверхъестественному и бесчеловечному графику двойную таинственную борозду… Забвение – это не более чем отрицание, ослабление мысли, которая перестает быть способной воссоздать какую-нибудь черту из жизни и принуждена заменить их условными и безразличными образами» (Пруст М. Содом и Гоморра. С. 153).
[Закрыть].
Я пытаюсь вновь оживить мгновения детства и почувствовать беспредельную радость бытия, которая присутствовала в моем детстве, но не могла быть осознана мной, и только теперь, восстановленная и поддержанная силой мысли, она встает передо мной во всей мощи. Постепенно складывается воспоминание в чистом виде, или прошлое в чистом виде, «кусочек времени в чистом виде» (Пруст)[219]219
«В этом смысле, – отмечал М. Мамардашвили, – жизнь наша как реальная жизнь есть только нами самими осуществляемый перевод того, что в нас запечатлено. И эта жизнь есть искусство. Или литература» (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 161).
[Закрыть].
Память, «невидимая глубина сердца» (М. Хайдеггер), делает нас живыми людьми, создает тот контекст, благодаря которому возможны веры, творчество, любовь, возможна мысль, постоянно удивляющаяся миру. И если смутные воспоминания – это метафоры жизни, то метафоры суть смутные воспоминания искусства. Но только искусство, полагал Делёз, преуспевает в том, о чем жизнь знает лишь по черновому наброску. Смутные воспоминания в непроизвольной памяти – еще из жизни, из искусства на уровне жизни, и они пребывают на уровне скверных метафор. Напротив, искусство превышает жизнь и не основывается на непроизвольной памяти[220]220
См.: Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. С. 82.
[Закрыть].
Говорят также о «памяти рассудка», которую в сравнении с «памятью сердца» можно назвать механической памятью, занимающей определенную часть нашей духовной жизни. Мы ведь только иногда живем «памятью сердца», стараемся «жить поэтически на этой земле», но жить так постоянно может, вероятно, только гений. Мы же бо́льшую часть своей жизни живем в мире устойчивых форм и отношений, в мире упорядоченном и расчлененном. Только относительно такого мира можно объясниться с другими, этот мир надежен, и его надежность поддерживает меня. Наоборот, мир, открывающийся «памятью сердца», волнует, тревожит и опаляет. «Память рассудка» создает для нас специфический образ действительности, который возникает путем проецирования на мир искусственной схемы, предопределяющей способ действия познающего. В результате мир выступает в роли уже знакомого, заранее известного в общих контурах, и все проблемы оказываются в принципе разрешимыми. Мы не могли бы и по большей части не хотели бы жить в мире, где каждая вещь вызывала бы у нас тревожные или радостные воспоминания, будоражила и волновала, в мире, где окружающие нас предметы были бы, как полагал Пруст, подобны ящичкам или закрытым сосудам, удерживающим плененную душу кого-то другого, кто старается приоткрыть крышку.
Поэтому наша память строит для нас мир понятный, удобный, знакомый, где все в принципе можно рассчитать и предсказать. Собственно, речь идет не столько о мире, сколько о картине мира. Тем не менее сфера применения этой памяти, видимо, очень узка, поскольку почти невозможно выделить в чистом виде никакой «механики» в памяти. Человек ничего не запоминает «холодным рассудком», и даже чистые абстрактные правила математического анализа либо восхищают его внутренней числовой мистикой, либо вызывают чувство отвращения в силу непонятности, невозможности наглядно представить.
Конечно, разделение памяти на несколько слоев весьма условно, поскольку они все органически связаны и переплетены. «Между срезом действия, – писал Бергсон, – где наше тело сжало свое прошлое в двигательные привычки, и срезом чистой памяти, где наш дух сохраняет во всех подробностях картину нашей истекшей жизни, мы можем, как нам кажется, заметить тысячи и тысячи различных срезов сознания, тысячи повторений, воспроизводящих целиком, но всякий раз по-другому, совокупность нашего пережитого опыта… Эти срезы не даны, однако, как совершенно готовые, наложенные друг на друга пласты. Они существуют скорее виртуально, способом существования, свойственным духовным образованиям. Разум, все время двигаясь вдоль интервала, разделяющего эти срезы, заново осваивает, а вернее, непрестанно заново создает их: именно в этом движении и состоит его жизнь»[221]221
Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. М., 1992. Т. 1. С. 311–312.
[Закрыть].
Мы не столько заглядываем в будущее, сколько постоянно возвращаемся к прошлому, для того чтобы оживить настоящее, чтобы заново воссоздавать свою жизнь, ибо, только воссозданная, она имеет смысл и ценность, является живой жизнью. Если бы человек мог жить всей полнотой своей памяти, всеми страстями, радостями и горестями, которые ему пришлось испытать, перед ним открылись бы такие глубины и бездны человеческого бытия, такое понимание своей жизни и жизни человеческого духа, о котором мы можем строить только смутные предположения. Мы настолько талантливы, настолько обладаем способностями, насколько мы можем вспомнить – не просто вспомнить то, что с нами когда-то случилось, а вспомнить свою жизнь «в блеске, в истине», которой никогда не было в реальности, или, может быть, она была, но не могла быть ни осознана, ни понята. Но моменты, когда мы постигаем самих себя, свою бытийную природу, очень редки, и потому, считал Бергсон, мы редко бываем свободными. «Многие так живут и умирают, не познав истинной свободы»[222]222
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Там же. С. 122.
[Закрыть].
Смерть как единственная возможность стать человеком
Человек – «дитя случая и нужды», чья жизнь зависит от массы внешних обстоятельств, многие из которых могут в любой момент прервать его жизнь. Смерть сопровождает человека с момента его рождения. Какое бы время его жизни мы ни взяли, человек всегда достаточно зрел для того, чтобы умереть. Смерть представляет собой как бы тень человека, самую верную и привязчивую. Смерть – фундаментальное свидетельство нашего «неодиночества». Мы всегда находимся под ее пристальным взглядом. Ощущая ее присутствие, ее реальность, мы не позволяем себе распускаться, поддерживая себя на уровне, превышающем тот, к которому склоняет нас наша животная природа. Разумеется, это тяжкая ноша. Осознание нашей смертности требует от нас немалых усилий.
Смерть для искусственного человека является необходимым условием жизни. Она присутствует внутри каждого мгновения жизни. Для мертвого и смерти нет, он не может умереть, поскольку и не жил никогда. Смерть существует только для живого, не только как конец, но и как постоянное предельное самоиспытание жизни, предполагающее ее завершенность, целостность в любом акте, любом деле или поступке. В реальной жизни и в реальном ходе самостановления человек постоянно тратит себя, каждую минуту умирает и тогда живет. Живет как понимающее существо. «Что-то вдруг умерло во мне», – часто говорит о себе человек, испытавший эмоциональные или нравственные потрясения. Смерть равнообъемна жизни. Постигая смерть, мы не можем, считал Ж. Делёз, сказать, что она «преобразует жизнь в судьбу, в “неделимое решающее” событие; можно, скорее, сказать, что смерть множится и дифференцируется, чтобы предоставить жизни единичности, т. е. истины, которые жизнь считает полученными в результате своего сопротивления. Жизнь отныне состоит в том, чтобы занять свое место, занимать все свои места в кортеже под названием “умирание”»[223]223
Делёз Ж. Фуко. М., 1998. С. 125.
[Закрыть].
Смотреть на мир «через» смерть значит смотреть на всё с точки зрения вечности, мысль как бы растягивает, по выражению М. Мамардашвили, тот интервал, в котором открывается скрытый в своем многообразии и бесконечности мир, ему может поразиться даже самая темная и ограниченная душа. На всем лежит печать смерти: на близких людях, которым предстоит умереть и уйти в недосягаемую бесконечность, следовательно, подлинная жалость и любовь к ним, а не имитация этих чувств пронизывают мое существование; на каждом счастливом мгновении, которое умирает или сменяется печалью, становится прошлым, ибо его невозможно удержать; на будущем, которое станет настоящим и неизбежно уйдет в прошлое. Только смерть, продуманная и понятая, останавливает в нас работу механизмов надежды, лени, привычного безразличия[224]224
«Понятая до конца смерть или феномен смерти и является таким коммутатором или переключателем, который наши глаза или глаза нашей души поворачивает так, что мы в обычных ситуациях видим то, что без этого предельного образа не могли бы увидеть» (Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С. 159).
[Закрыть].
Окружающий нас мир является нам осмысленным и достойным внимания, потому что хрупок и недолговечен. И мы, зная о своей смертности, воспринимаем эту его хрупкость как нечто прекрасное, связанное с нами общей судьбой, которая уготована нам в грядущей мгле. И в то же время только то, что ушло навсегда, превратилось в чистую форму и стало вечным, а то, что не ушло, всегда незаконченно, несовершенно. Всматриваясь в вещи, в окружающих людей, мы видим в них контуры грядущего или возможного совершенства и целостности, потому что прозреваем сквозь них мертвый, ушедший мир.
Все, что умерло, ушло навсегда, обусловливает любое мое восприятие, понимание. Окружающий мир – это всегда мир, где уже нет людей, которых мы любили, в котором мы все время учимся жить без очередного умершего человека. Это не только мир, где умерли мои родители, мои предки, это еще и мир, где умер Сократ, умерли Шекспир и Ницше. Мы не только метафизически, но и буквально связаны с царством мертвых, и эта связь делает наше существование человеческим.
Для человека, никогда не сталкивающегося со смертью – будь то внезапно пробудившийся страх в сознании ребенка, который вдруг осознал, что он рано или поздно обязательно умрет, или пограничная ситуация, в которой человек чудом спасся от неминуемой смерти – для него мир является плоским, одномерным, без рельефной глубины, без завораживающей, непроницаемой тени, которую отбрасывает любой предмет, любое живое существо.
Как было известно грекам, эрос – это наша первая встреча со смертью. Любящий человек начинает умирать, потому что у любви никаких корней в этом мире нет. Любовь, считал Бердяев, вне человеческого рода, она не нужна ему, перспективе его продолжения и устроения. Над любовью нельзя ни богословствовать, ни морализировать, ни социологизировать, ни биологизировать, она вне всего этого, она не от мира сего, она – нездешний цветок, гибнущий в среде этого мира. Любовь скинута со всех мирских счетов.
Любовь свободна, потому что она может выбрать смерть. Она всегда связана со смертью: оттого, что часто препятствия для ее осуществления оказываются непреодолимыми или, когда любящий человек осознает, как хрупко и недолговечно его чувство, когда он остро переживает тот факт, что он живет, дышит, радуется жизни, он своим главным врагом считает смерть. Но не только врагом, но и неотвязным спутником. Любовь невозможно удержать, так же как невозможно удержать жизнь. Любящий как бы подписывает договор со смертью, потому что отрекается от всего остального мира, потому что согласен пожертвовать всем, даже собственной жизнью, для того чтобы любовь продолжалась.
Смерть предполагает высший уровень ответственности. Лишить человека смерти означает, помимо всего прочего, устранить этот уровень. Человек, будучи конечным существом, отличается от всех животных тем, что прилагает к своей конечности масштаб безусловного и бесконечного. Он должен жить так, говорит философия, как если бы впереди его ожидала вечность, только не в обыденном смысле, когда человек просто не думает о смерти, живя так, будто он бессмертен, а в том смысле, что он брал и будет брать на себя задачи, для выполнения которых заведомо не хватит собственной жизни. Поэтому, творя, любя, делая добро, он прорывается в вечность, побеждает смерть. Многие бравшие на себя такие бесконечные задачи остались жить в вечности в прямом смысле этого слова.
Можно избежать смерти, строя всевозможные софизмы типа эпикуровского: «Пока мы живы, смерти нет, когда смерть пришла – нас нет». А можно, вглядываясь в лицо смерти, учиться быть свободным. «Смерть является предельным образом или предельным случаем того, что вообще не выдумано. И не может быть придумано. К чему мы не приходим, как к конечному пункту нашего движения, не ищем нашей памятью. Оно не продукт сознательных воспоминаний, оно – явление»[225]225
Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 139.
[Закрыть].
Смерть освобождает нас от плена суетной, бестолковой жизни, смерть, если она понята до конца, расколдовывает мир. Переживание смерти, забота о смерти, обеспокоенность смертью, сознание (как субъект), которое смотрит смерти в лицо, представляют собой то, что в философии называется условием свободы.
Человек, открывающий экзистенциальное измерение своего существования, понимает смерть не только как конец жизни, но, прежде всего, как возможность перехода в иную интенсивность жизни. Кьеркегор говорил об «идеальности» смерти, о той смерти, которая сопровождает всякое падение или подъем в интенсивности переживания жизни. «…Тайная мысль о самоубийстве, – писал он в своем «Дневнике», – обладает известной силой, которая способна сделать жизнь более интенсивной. Мышление о смерти уплотняет, концентрирует жизнь»[226]226
См.: Подорога В.А. Философия ландшафта. М., 1993. С. 96. «…Смерть, которая располагается вокруг нас, всегда не “наша”, а смерть других, Другого, она наблюдаема извне и подобно черной воронке во времени настоящего втягивает в себя все, что нас окружает, сопутствует нам, но не имеет с нами никакой экзистенциальной связи; в этом горизонте смерть ужасает, ибо она представляет собой грубый разрыв или распадение живой ткани жизни. С другой стороны, смерть не перестает жить в нас на бессознательном уровне, в бесконечном множестве аффектов, порывов, переживаний, повсюду мы наталкиваемся на ее следы, опутывающие нашу речь, жесты, тело, не распознавая их, мы ими пользуемся, будто они “под рукой”; это смерть, смещенная в другой горизонт бытия, смерть, выталкивающая нас за пороги нашей конечной чувственности. Смерть, которая будучи вовне, есть не только некая потенция не жить в каждое следующее мгновение, но и потенция снова жить преображенным в другом плане экзистенциального бытия. В первом горизонте смерть обрывает всякое движение, в другом – развертывает, интенсифицирует жизненный опыт в качестве экзистенциального предела, который должен быть преодолен за счет качественного изменения того, кто мыслит смерть» (Там же. С. 104–105).
[Закрыть].
Перед лицом смерти человек оказывается один на один с самим собой, именно здесь его субъективность и индивидуальность проявляются в наибольшей степени. Только смерть порождает такую ситуацию, когда конкретный индивид оказывается незаменимым, когда он полностью идентифицируется с самим собой, когда он не может передать свою смерть никому другому. Поскольку никто не может умереть за меня, то в этой ситуации, когда я оставляю мир, я наконец обретаю самого себя. В этом контексте смерть есть, согласно Деррида, дар обретения себя[227]227
Derrida J. Donner la morte. Р., 1994. P. 48–49.
[Закрыть].
Исчезновение проблематики смерти может привести к утрате собственного Я. Смерть должна все время присутствовать в горизонте жизни, хотя бы потому, что она дает представление об уникальной индивидуальности каждого живущего человека, моей индивидуальности, поскольку речь идет о моей смерти, а не о смерти кого-то другого. Смерть, с точки зрения Деррида, составляет самый большой секрет человеческой жизни, секрет неподменимой единственности каждого живущего и жившего[228]228
«Секрет смерти хранит человека даже прежде того, как он научается хранить этот секрет сам. Как представляется, в этом фрагменте Деррида выражает тот подход, который только и может каким-то образом приблизить к схватыванию секрета смерти – помещение смерти в контекст жизни, причем жизни каждого конкретного человека, как его собственной смерти, присутствующей некоторым загадочным образом в его собственной жизни» (Гурко Е. Деррида Ж. Деконструкция: тексты и их интерпретация. Минск, 2001. С. 98).
[Закрыть].
Секрет этот заключается и в том, что в иллюзорном, несуществующем, метафорическом мире, где живет человек, смерть должна восприниматься как еще один фантом этого фантасмагорического мира. Смерть всегда уже здесь, она сама суть не-бытия этого мира-призрака, и никакого перехода к ней не требуется. Смерти нет в массивном, плотном, самодостаточном мире – мире неорганическом, мире животных и растений. Там есть только исчезновение, переход в другие формы, рассеяние. Как биологический субстрат человек тоже принадлежит этому миру, многие, если не все проявления жизнедеятельности человека неразрывно связаны с его биологической жизнью, но человека как душевного и духовного существа в этом мире нет. Человек как реализующее себя существо в принципе невоплотим в реальном эмпирическом пространстве и времени. Его подспудно все время сопровождает ощущение «неуместности» присутствия в этом мире. Меня действительно нет в таком мире, который сложился до меня и вместо меня, который не заметил моего рождения, так же как и не заметит моей смерти. В таком мире существовать нельзя. Мир существует только для существующего, который его дополняет, до-определяет, расцвечивает, обогащает, в котором он не случайная пылинка, а необходимая составная часть. Никакого другого мира для человека нет.
Предел серьезного отношения к жизни – это отношение к жизни в ее смертном измерении, в страдании человека, который постоянно ощущает это измерение[229]229
«И все же нужно спешить, – писал М. Пруст, – воспользоваться ими (страданиями), ибо они не очень долго длятся: мы или бываем утешены, или же, когда они слишком сильны, а сердце не выдерживает, мы умираем. Для тела благотворно счастье, а силы духа развивают лишь горесть, которая, впрочем, открывает нам каждый раз закон, что она не в меньшей мере необходима, чтобы снова вправить нас в истину, заставить нас принимать вещи всерьез, вырывая каждый раз сорняки привычки, скептицизма, легкомыслия, безразличия. Правда, эта истина несовместима со счастьем или здоровьем, как не всегда совместима и с жизнью. Горе в конце концов нас убивает. При каждой новой, слишком сильной горести мы чувствуем, как взбухает еще одна вена, развертывая свою смертельную кривую на наших висках, под нашими глазами» (цит. по: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С. 163).
[Закрыть].
Факт, что мы смертны, уже заложен в том, как мы вообще можем что-то осознавать, видеть, понимать, чувствовать. Само выражение «я есть» означает «я есть смертный». Выражение «я бессмертен» представляет собой невозможное утверждение. Бессмертие воспринимается человеком обычно как наказание (ибо что может быть ужаснее вечной жизни, понимаемой как бесконечное повторение одних и тех же ситуаций, одних и тех же переживаний), лишившись смерти, человек теряет смысл жизни, лишается того мгновения, ради которого он, может быть, и живет. Если нет смерти, то нет никаких великих мгновений, они все одинаковы. В древнегреческом мифе мать попросила богов забрать ее сыновей в то время, когда они спали, гордые и счастливые своей победой на Олимпиаде. Они достигли высшего пика счастья, и дальше продолжать жизнь уже нет смысла, дальше будет только унылая повседневность; лучше умереть, находясь на этом пике торжества, чтобы такими и остаться в памяти людей.
Действительно, о некоторых людях, ставших знаменитыми в молодости, можно сказать, что они упустили момент умереть или погибнуть вовремя, и сейчас их старость больше похожа на карикатуру их прошлой жизни. В России были несколько «модных» поэтов, в 1960-е годы собиравших на свои выступления целые стадионы, издававших свои книги миллионными тиражами, кумиров молодежи. Ныне некоторые из них превратились в «священных ко-ров», которые безуспешно пытаются вернуть остатки былой славы, но эти потуги вызывают только сожаление. Постарели поэты, изменилось общество, которому теперь нужны совсем другие песни.
Только умерев в том смысле, в каком Ницше говорил о смерти человека, можно стать бессмертным не только символически, но и буквально. Нет смысла в бесконечном продолжении жизни, если жизнь состоялась, если человеку удалось попасть в «просвет бытия» и выразить это попадание в самобытности своего существования, в словах и делах, которые продолжают жить вечно. Только рискнув своей жизнью, без всякой надежды на успех, можно достичь этого попадания, ибо моя жизнь – не точка в развитии поколения или государства, не полено, которое должно сгореть в общем костре, освещая путь идущим следом, и не ступень в развитии и становлении мирового духа, который тем самым дарит мне единственно возможное бессмертие. «Это вечное становление есть лживая кукольная комедия, из-за которой человек забывает себя самого, развлечение, которое рассеивает личность во все стороны, нескончаемая игра тупоумия, которою большое дитя – время – забавляется перед нами и с нами. Героизм же правдивости в том, чтобы в один прекрасный день перестать быть его игрушкой. В становлении все пусто, обманчиво, плоско и достойно нашего презрения; загадка, которую человек должен разрешить, он может разрешить лишь в бытии, в бытии таком, а не ином, – лишь в непреходящем»[230]230
Ницше Ф. Несвоевременные размышления. С. 37–38.
[Закрыть].
Поиски нового бога
В классической европейской философии Бог был незаменимым и неснимаемым компонентом мира. «Атеист не может быть хорошим математиком», – говорил Р. Декарт. С точки зрения Делёза, в классическую эпоху все силы человека соотносились с одной-единственной силой – силой репрезентации, которая притязала на то, чтобы извлечь из человека все, что в нем есть позитивного или же возвышаемого до бесконечности. В результате получался не человек, а Бог, человек мог предстать только в контексте бесконечного. Например, силу понимания можно увеличивать до бесконечности, и тогда получится, что человеческое понимание представляет собой лишь ограничение бесконечности понимания. Тексты ХVIII в. касаются различий порядков бесконечности: бесконечность величия и бесконечность малости по Паскалю, бесконечность Лейбница. Классическая мысль непрестанно пропадает в бесконечности. «…Развертывать, постоянно развертывать – “объяснять”. Что такое Бог, как не всеобщее объяснение, как не наиболее яркий пример развертывания?»[231]231
Делёз Ж. Фуко. С. 163.
[Закрыть]
Если вещи связаны между собой причинными связями, то должна быть первопричина, из которой все вытекает. Если в социальном мире существует закон и порядок, то только потому, что есть страх Божий. Мы должны жить так, полагал Кант, как если бы Бог был, даже если мы не можем доказать или опровергнуть его существование с помощью рациональных аргументов. «Если Бога нет, то какой я после капитан», – говорит один из героев Достоевского в «Бесах». Бог – гарантия осмысленности мира, гарантия порядка и гармонии – как во Вселенной, так и в душе человека. Даже если бы Бога не было, его нужно было бы выдумать (Д. Юм). Все научные, философские и эстетические установки строились на предпосылке существования двух миров – горнего и дольнего, истинного и иллюзорного, подлинного и неподлинного, мира по сути и мира по видимости. Философия, как и религия, должна пробиваться к истине – к миру как он есть сам по себе, к вещи в себе, к идее. Истина является или добывается из божественного, высшего мира. «Наша вера в науку, – писал Ницше, – покоится все еще на метафизической вере – и даже мы, познающие нынче, мы, безбожники и антиметафизики, берем наш огонь все еще из того пожара, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою Платона, – вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна…»[232]232
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 516.
[Закрыть]
Таким образом, Бог являлся гарантом всего – смысла существования мира, совершенствования человеческих отношений, в результате которых Град земной постепенно перерастет в Град Божий, возможности гармоничного развития человека, если тот следует божественным заповедям.
Правда, постепенно становилось ясно, что из человеческого опыта мира невозможно выявить никакого всеобщего опыта Бога. Чтобы избежать представлений о Боге как субстанции, Хайдеггер говорил о «божествовании» как некоем событии, которое заставляет нас «трепетать». Нет Бога или богов, а есть божествование. Сталкиваясь с божествованием, мы переживаем ряд различных настроений: страх, настороженность, растроганность, восторг, робость. Из смеси этих настроений «существенное мышление» добывает свои идеи и положения[233]233
См.: Сафрански Р. Хайдеггер. М., 2002. С. 412.
[Закрыть].
Смерть Бога – водораздел в европейской философии и культуре, однако это не одномоментный инцидент, но процесс, продолжающийся уже более века, процесс революционной ломки многих философских категорий и понятий. Смерть Бога для М. Фуко – главное событие современной культуры. После этого события отчетливо обнаружились конечность человека, исчезновение бесконечных оснований человеческого разума, высших гарантий человеческого существования. Но конец человека – это, согласно Фуко, возврат к философии. В наши дни мыслить можно только в пустом пространстве, где уже нет человека.
Что касается Ницше, устами своего Заратустры провозгласившего, что Бог умер, то его философия, по мнению Фуко, была первой попыткой радикального пересмотра сущности человека. В ней он достиг той точки, где человек и Бог сопринадлежны друг другу, где смерть Бога синонимична исчезновению человека и где грядущее пришествие сверхчеловека означает, прежде всего, неминуемость смерти человека. Фуко полагал, что приближается другая мысль и другая культура, задача которой заключается в том, чтобы устроить человеку надежное убежище на той земле, где больше нет богов. «В наше время – причем Ницше уже давно указал на этот поворотный момент – утверждается не столько отсутствие или смерть бога, сколько конец человека (то маленькое, едва заметное смещение, сдвиг внутри тождества, которое и превращает конечное человеческое бытие в конец человека). Таким образом, обнаруживается, что между смертью бога и концом человека есть связь: разве не последний человек возвещает о том, что он убил бога, помещая тем самым свой язык, свою мысль и свой смех в то пространство, где бога уже нет, и выступая как тот, кто убил бога, обретя в своем существовании свободную решимость на это убийство? Таким образом, последний человек одновременно и моложе, и старше, чем смерть бога: поскольку бога убил именно он, он и должен нести ответ за свое собственное конечное бытие; однако, поскольку именно в этой смерти бога он говорит, мыслит и существует, то, значит, и само его убийство обречено на смерть; новые и старые боги уже вздувают Океан будущего – человек скоро исчезнет. Мысль Ницше возвещает не только о смерти бога, но и (как следствие этой смерти и в глубокой связи с ней) о смерти его убийцы»[234]234
Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994. С. 402–403.
[Закрыть].
Следовательно, исчезают или радикально пересматриваются не только категории философии, теологии, культуры в целом, учитывающие существование Бога, но исчезает и сам человек, для которого это существование было самым явным доказательством его собственного существования.
Граница между теми, кто верит в Бога, и теми, кто не верит, имеет мало общего с их отношением к существованию или несуществованию сверхъестественного существа. Гораздо важнее открытость к священному посреди нашей жизни, не на пределах человеческого, а в средоточии его.
Всякие представления об истинном мире, о некоем высшем плане мировой истории, о цели, заложенной в истории и постепенно осуществляющейся в ней, – все то, что предполагало существование Бога, все это сейчас, считал в свое время Ницше, не более чем сказки. Исследования, опирающиеся на подобные представления, – совершенно бессмысленные занятия, если только они не вызваны инстинктом отрицания, очернения, недоверия к жизни. Если нами движет этот инстинкт, мы в отместку за нашу жизнь создаем фантасмагорию иной, «лучшей» жизни. «Взирать на природу так, как будто она являет неоспоримое доказательство божьей милости и его неусыпной заботы; интерпретировать историю как воплощение божественного разума… – все это теперь кануло в лету, ибо совесть восстала, а более тонкое нравственное чутье возмутилось всем этим неприличием, низостью, ложью, болтливостью, слабостью, трусостью…»[235]235
Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. С. 489–490.
[Закрыть]
Идея Бога – условие существования трансцендентных ценностей, она делает ценности вечными, непреходящими, превращает их в действующую силу сверхчувственного мира. Отказ от этой идеи, убийство Бога радикально меняют позицию человека в мире культуры. Обретение свободы путем отрицания трансцендентных ценностей и попытка вырваться из самоотчуждения человеческого бытия требуют мужества. Когда человек, полагал Ницше, приходит к твердому убеждению, что он должен кому-то подчиниться, он становится верующим. Но можно представить себе такую силу и такую жажду самоутверждения, такую свободу воли, при которой человек предпочитает распрощаться со всякой верой и стремлением к достоверности, полагаясь на свое умение балансировать на самой головокружительной высоте возможностей и не испытывая страха перед бездной, по краю которой он хочет пройти в лихом танце. Следующие слова Ницше можно считать действительно написанными для будущих поколений, ибо только в наше время они могут быть оценены по достоинству, могут положить начало совершенно новому, свободному от иллюзий взгляду на условия исторического развития человека: «Никто не дает человеку его свойств – ни Бог, ни общество, ни предки, ни родители, ни он сам. …Никто не в ответе за то, что он вообще существует, имеет те или иные свойства, существует в данных обстоятельствах, в данном окружении. Фатальность человеческого бытия невозможно выделить из фатальности всего, что было и что будет. Человек не есть следствие собственных целей …попытка достичь “идеала человека”, или “идеала счастья”, или “нравственного идеала”, – желание втиснуть его сущность в рамки какой-то цели есть абсурд… В реальной действительности цели нет… Каждый необходим, каждый – частица рока, входит в целое, существует в целом: нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие…»[236]236
Ницше Ф. Сумерки кумиров // Там же. С. 570.
[Закрыть]
Такое понимание доступно только человеку, коренным образом изменившему свое сознание, сверхчеловеку, который от избытка силы играет со всем, что раньше считалось святым, неприкосновенным, божественным. Это игра, в которой устанавливаются новые ценности и снимается двоемирие. Раз нет никаких заранее предданных ценностей, то нет и никаких априорных порождающих структур человеческой истории. Все зависит только от человеческой свободы, а последняя может быть возвращена человеку после смерти Бога. Свобода – это возрастающая жизнь, переливающаяся через край энергия, она показывает, что характер всего сущего есть воля к власти, воля к жизни.
Смерть Бога – это не атеистический лозунг, она означает для человека лишь колоссальное возрастание ответственности. Человек перестает быть автоматом добродетели, а принимает на себя страх и риск собственных решений относительно того, что такое добро и зло, относительно смысла своего существования. Можно сказать, что умер Бог, автоматически гарантирующий порядок, прогресс и нравственное совершенство, конечно, при соответствующем усилии со стороны человека, но остался живым Бог как соблазнитель и искуситель, Бог, с которым можно общаться один на один, без всякой гарантии того, что он тебя слышит, без всякой гарантии, что услышанный ответ ты истолковал правильно, без всякой надежды на то, что избранный тобой путь будет правильным. Кьеркегор усматривал в личности истинно человеческое содержание лишь в той мере, в какой ей удается преодолеть состояние, когда свободный моральный выбор жестко обусловлен – или собственной психикой человека, или социальными и природными особенностями его существования, господствующими верованиями или суевериями. Покончить с человеком – значит покончить с человеком-автоматом, намертво связанным социумом, связанным так крепко, что он и не подозревает об этом состоянии, которое кажется ему вполне естественным. «…Тот, кто боролся с миром, стал велик оттого, что победил мир, а тот, кто боролся с самим собой, стал еще более велик, победив самого себя, однако тот, кто боролся с Богом, стал самым великим из всех»[237]237
Кьеркегор С. Страх и трепет. С. 23.
[Закрыть]. Бороться с Богом – значит все время сомневаться в своей избранности, отмеченности, в правильности своего жизненного пути, в попытке во что бы то ни стало на все происходящее с тобой накладывать отпечаток своей личности, в отстаивании внутреннего убеждения в том, что все случающееся в мире случается только с моим участием, что ничего еще не было, что мир еще нов, он каждую минуту рождается, и я должен присутствовать при этом рождении. «Ибо не то, что случается со мной, делает меня великим, но только то, что я сам делаю, и не было еще на свете человека, который полагал бы, что кто-нибудь может стать великим, выиграв в лотерею»[238]238
Там же. С. 61.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.