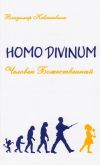Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Понимание – это специфическое средство познания в науках о духе, противостоящее естественно-научному объяснению. Мы объясняем природу, но понимаем духовную жизнь. Понимание чужой жизни всегда покоится на непосредственной ситуации познающего субъекта, проецирующего себя на другого. На основании внешних выражений я должен воспроизвести в собственном сознании переживание, чувство другого человека. Лишь после этого я могу почувствовать нечто подобное тому, что чувствует другой. Понимая чужое переживание, я как бы открываю себя в другом человеке, внутренняя жизнь которого идентична моей собственной.
Понимание – это обнаружение Я в Ты, в каждом субъекте общества, в каждой системе культуры, во всеобщей истории. Но как быть, если мы понимаем не лицо, а большее историческое событие? Нить событий, охватывающее месяцы или даже годы, нельзя удержать в воображении без обобщения, которое опускает детали. Где критерий – что опускать? Здесь нам на помощь приходит герменевтика.
Подобно тому как современное естествознание рассматривает природу не как понятное целое, а как чуждое «Я» течение событий, на которое оно проливает ограниченный, зато достоверный свет, делая таким образом возможным господство над ним, и человеческий дух, который заботится о защите и надежности, должен противопоставить «неисповедимости» жизни, ее «ужасному лицу» научно сформированную способность понимания. Она должна так широко раскрыть жизнь в ее общественно-исторической действительности, чтобы знание, несмотря на неисповедимость жизни, обеспечивало защиту и надежность.
Сегодняшняя историография, по Хайдеггеру, прямо обусловлена положением и местом современной науки в культуре. В настоящее время наука – это способ, притом решающий, каким для нас предстает все, что есть. Действительность, внутри которой движется и пытается оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что называют западноевропейской наукой. «Вглядываясь в это обстоятельство, мы обнаруживаем, что в западной части мира на протяжении веков ее истории наука развернула нигде более на земле не встречающееся могущество и идет к тому, чтобы в конце концов наложить свою власть на весь земной шар»[202]202
Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 239.
[Закрыть].
Вот уже долгое время науки всё решительней и вместе с тем неприметней внедряются во все организованные формы современной жизни: в промышленность, экономику, образование, политику, военное дело, в публицистику всякого рода. В чем же заключается существо науки? Его можно высказать в лаконичном тезисе: наука есть теория действительного. Но этот тезис означает только науку Нового времени, он не имеет смысла ни для средневековой науки, ни для науки древности. От теории действительного средневековая doctrina имеет такое же сущностное отличие, как последняя, в свою очередь, – от античного типа научности. Современная наука – это такая обработка действительности, благодаря которой теория и начинает соответствовать основной черте теперешнего действительного как такового. Действительное есть выявляющее себя присутствующее и в своем присутствии понимается как предметное противостояние. Наука добивается от действительного, чтобы оно всякий раз представало как результат того или иного действия, т. е. в виде обозримых последствий подведенных под него причин. Тем самым становится возможным прослеживать и обозревать действительное в его причинно-следственных взаимосвязях. «То, что существующее – например, природа, человек, история, язык – выступает как действительное в его предметной противопоставленности и что тем самым наука оказывается теорией, фиксирующей действительное и устанавливающей его в предметном статусе, для средневекового человека было бы таким же странным, как для греческого мышления – сбивающим с толку»[203]203
Там же. С. 245.
[Закрыть].
Отказавшись от предметной противопоставленности, наука изменила бы собственной сущности. Это же относится к исторической науке, которая, все энергичнее развертывающаяся во всеобщую историю, осуществляет свое исследующее устанавливание в области, которая предоставляет себя ее теории в образе исторических событий. Слово «история» означает (в переводе с древнегреческого) осведомление и описание, именуя тем самым определенный род научного представления предмета. Слово «событие», наоборот, означает нечто совершающееся постольку, поскольку таким-то и таким-то образом уготовано и предопределено, т. е. предрешено и послано исторической судьбой. Историография есть изучение событий. Но история вовсе не создается впервые историографическим рассмотрением, события совсем не обязательно вписываются в историографию.
Раскрывается ли событие в своем существе только через историографию и для историографии, или же оно скорее заслоняется историографическим опредмечиванием – это для исторической науки, считает Хайдеггер, остается неразрешимым. Решающим, однако, является то, что за историографической теорией высится как необходимое история событий. «Природа, человек, исторические события, язык остаются для названных наук тем необходимым, которое всегда уже заранее живет внутри их опредмечивания и от которого они всегда так или иначе зависят, никогда, однако, не будучи в силах обставить своим представлением полноту его существа. Эта несостоятельность наук коренится не в том, что их устанавливающее представление никогда не доходит до конца, а в том, что предметная противопоставленность, в которой выступает соответственно природа, человек, исторические события, язык, сама по себе остается в принципе всегда только одним из способов их присутствия, причем то или иное присутствующее, конечно, может, но никогда не обязано проявляться непременно в нем»[204]204
Там же. С. 249.
[Закрыть].
Человек может быть просто сущим, существовать так, как существуют вещи, скажем, жить как щепка, бессмысленно и бесцельно бросаемая взад и вперед в водовороте судьбы. А может быть экзистенцией. Экзистенция – это такое сущее, которое в отличие от камней, растений и животных, как-то относится к самому себе. Оно не просто «есть», «присутствует», но обнаруживает себя «вот-здесь». Экзистенция – это такое существование человека, который позаботится о своем существовании. Только перед ним открывается весь горизонт заботы и времени.
Человеческое бытие никогда не бывает готовым, целым и замкнутым как предмет, оно всегда остается открытым для будущего, преисполненным возможностей. Оно само ведет свою жизнь. Оно то, чем оно становится. Человек все время вглядывается в открытый горизонт, понимая, что ему предстоит много неизвестного и еще одно, не вызывающее никаких сомнений: великое «вперед-себя», смерть. Мы знаем об этом будущем не только потому, что вокруг нас умирают, но и потому, что мы в любой момент можем его пережить: ведь поток времени есть не что иное, как сплошная череда микрорасставаний, микросмертей. Временность, или темпоральность, есть опыт переживания таких «вперед-себя» – нынешних, будущих и, наконец, последнего, смертного.
Мы склонны относиться к себе как к вещи, нас тревожит временность, и научная объективация есть уклонение от тревожащей нас временности. Но если человек знает о своей предстоящей смерти и испытывает ужас от этого знания, «мир» не способен больше ничего предложить, ужас не терпит рядом с собой никаких других богов, он уединяет человеческое бытие. Смерть может быть только моя, я не могу ею ни с кем поделиться, хотя бы перед лицом смерти человек чувствует свою уникальность и неповторимость. Ужас разрывает связь индивида с другими и заставляет его выпасть из системы доверительных отношений с миром. Человеческое бытие выпадает из системы отношений, в которых оно успело освоиться.
Мы – заботящиеся и тревожащиеся существа, потому что остро переживаем открытый перед нами временной горизонт. Забота есть не что иное, как переживаемая временность.
Вещи пребывают во времени, тогда как человеческое бытие (Dasein) имеет свое время, оно временит себя. Человек хотел бы «покоиться» во времени так же, как покоятся в нем вещи. Утешительные мысли о бессмертии мобилизуют силу упорствующего пространства против устремленного «вперед-себя», протекающего мимо времени.
На первый взгляд мы всегда живем только в настоящем, в переживании «теперь». Прошлое и наступающее, напротив, «уже не» или «еще не» действительны. «Присутствие отмеривает отведенное ему временное протяжение между обеими границами таким образом, что действительное всякий раз лишь в теперь, оно как бы пропрыгивает через последовательные теперь своего “времени”. Поэтому говорят, что присутствие “временно”»[205]205
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 373.
[Закрыть].
Человеческая экзистенция всегда находится между своим рождением и своей смертью, они в ней взаимосвязаны. Именно в этом исток историчности, исходя из временности Dasein можно осмысленно говорить об истории, смысл которой нельзя искать в историографии как науке об истории. «Как история способна стать возможным предметом историографии, это можно извлечь только из способа бытия всего исторического, из историчности и ее укоренения во временности»[206]206
Там же. С. 375. «Анализ историчности присутствия пытается показать, что это сущее не потому “временно”, что “выступает в истории”, но что оно, наоборот, экзистирует и способно экзистировать лишь потому, что в основании своего бытия оно временно» (Там же. С. 376. Курсив М. Хайдеггера).
[Закрыть].
Экзистенциальная интерпретация историографии как науки полагает целью единственно демонстрацию ее онтологического происхождения из историчности присутствия. Но чтобы лишить расхожую характеристику исторического ее мнимой самопонятности и исключительности, надо прежде «дедуцировать» историчность прямо из исходной временности человеческого бытия.
Но для осуществления экзистенциального анализа историчности нужно, полагает Хайдеггер, понять, что в расхожем толковании подразумевается выражениями «история» и «исторический». Они многозначны. История означает и «историческую действительность», и возможную науку о ней. Часто под историей понимают просто прошлое. Это значение дает о себе знать в обороте речи: то и то принадлежит уже истории. «Прошлое» означает здесь, во-первых: уже не налично, или также: правда, еще налично, но без «воздействия» на «современность». Конечно, историческое как прошлое имеет и противоположное значение, когда мы говорим: от истории не уйдешь. Здесь история подразумевает прошедшее, но еще воздействующее. Во всяком случае, историческое как прошлое понимается в позитивном, соответственно привативном отношении воздействия на «настоящее» в смысле «теперь» и «сегодня» действенного. «Прошедшее» обладает при этом еще одной примечательной двусмысленностью. Прошлое невозвратимо принадлежит более раннему времени, оно принадлежало к тогдашним событиям и способно тем не менее еще «сегодня» быть в наличии, к примеру, остатки греческого храма. «Осколок прошлого» оказывается с ним еще «настоящим».
Затем, история означает не столько «прошлое» в смысле ушедшего, но происхождение из него. Что «имеет историю», пребывает во взаимосвязи становления. «Развитие» при этом есть то восхождение, то падение. Что таким образом «имеет историю», способно вместе с тем таковую «делать». «Делая эпоху», оно «в настоящем» определяет «будущее». История означает здесь «взаимосвязь» событий и «воздействий», тянущуюся сквозь «прошлое», «настоящее» и «будущее». При этом прошлое не имеет никакого особого преимущества.
История означает также целое сущего, изменяющегося «во времени», а именно – в отличие от природы, которая также движется «во времени» – перипетии и судьбы людей, человеческих союзов и их «культуры». История подразумевает здесь сферу сущего, которая ввиду сущностной обусловленности человеческой экзистенции «духом» и «культурой» отличается от природы.
И наконец, «историческим» считается традиционное как таковое, будь оно познано историографически или принято как само собой разумеющееся.
«Если мы соберем названные четыре значения в одно, то получается: история есть протекающее во времени специфическое событие экзистирующего Dasein, причем так, что «прошедшее» в бытии-друг-с-другом и вместе с тем «передаваемое по традиции» и продолжающее воздействовать событие считается историей в подчеркнутом смысле»[207]207
Там же. С. 379.
[Закрыть].
Все четыре значения имеют взаимосвязь через то, что отнесены к человеку как «субъекту» свершений. Как надлежит определить событийный характер этих последних? Есть ли, спрашивает Хайдеггер, событие череда процессов, попеременное всплывание и исчезание обстоятельств? Каким образом это событие истории принадлежит к человеческому бытию? Например, рассуждает Хайдеггер, хранимые в музее древности, домашняя утварь, к примеру, принадлежат «прошедшему времени» и все же еще наличны в «современности». В каком смысле эти средства исторические, когда ведь они еще не ушли? Только в том, что они стали предметом историографического интереса, охраны памятников и краеведения? Но историографическим предметом подобные средства способны стать все же, лишь поскольку сами в себе неким образом историчны. Вопрос повторяется: по какому праву мы именуем это сущее историческим, когда оно ведь не ушло? Или эти «вещи», пусть они сегодня еще налицо, имеют все же «нечто прошедшее» «в себе»? Суть ли они еще, наличные, то, что они были? «Вещи» явно изменились. Сосуд «с течением времени» стал ломким и изъеден червями. Но не в этой преходящести, сохраняющейся и в продолжение наличествования в музее, заключен тот специфический характер прошлости, который делает сосуд чем-то историческим. Что же тогда в этом средстве прошлое? Чем были вещи, что сегодня они уже не суть? Они суть все еще определенное употребительное средство – но вне употребления. Положим, однако, они были бы подобно многим наследуемым вещам в домашнем хозяйстве еще и сегодня в употреблении, разве тогда они еще не были бы историческими? В употреблении или вне употребления, они все равно уже не то, что были. Что «ушло»? Не что иное, как мир, внутри которого они, принадлежа к взаимосвязи средств, встречали как подручное и применялись озаботившимся, сущим-в-мире присутствием. Самого мира больше нет. Но прежнее внутримирное того мира еще налицо. Как миропринадлежное средство нечто теперь еще наличное способно тем не менее принадлежать «прошлому». Что, однако, означает уже-не-бытие мира? Мир есть только по способу экзистирующего человеческого бытия, которое всегда уже есть как бытие-в-мире[208]208
См. там же. С. 380.
[Закрыть].
Исторический характер еще хранимых древностей основан, стало быть, в «прошедшести» человеческого бытия, чьему миру они принадлежали. Тогда только «прошлое» присутствие исторично, но не «современное». Однако может ли человеческое бытие вообще быть прошлым, если «прошлое» мы определяем как «теперь уже не наличное»? Явно Dasein никогда не может быть прошлым, не потому что оно непреходяще, но потому что в принципе никогда не может быть наличным, а если оно есть, экзистирует. Даже о неэкзистирующем бытии мы не можем сказать, что оно прошло, но можем сказать, что оно сбылось. Все наличные древности имеют характер «прошедшести» и историчности на основании их принадлежности и происхождения из былого мира уже сбывшегося Dasein. Оно первично историческое. «Но становится ли Dasein впервые историческим лишь через то, что его больше нет? Не есть ли оно историческое именно как фактично экзистирующее? Dasein становится бывшим лишь в смысле сбывшегося или оно сбывается как актуализирующее-настающее, т. е. во временении своей временности?»[209]209
Там же. 381.
[Закрыть]
Любое сущее исторично, делает вывод Хайдеггер, поскольку принадлежит миру. Мир же обладает бытийным родом исторического потому, что составляет онтологическую определенность человеческого бытия. Первично исторично человеческое бытие… Вторично же исторично все, что находится внутри мира, не только как подручное средство в широчайшем смысле, но и мироокружная природа как «историческая почва». «Сущее с отодвиганием во все более далекое прошлое не становится “историчнее”, так чтобы древнейшее оказывалось всего собственнее историчным. Однако “временное” отстояние от теперь и сегодня опять же не потому лишено первично конститутивного значения для историчности собственно исторического сущего, что последнее существует не “во времени” и вне-временно, а потому что оно экзистирует так исходно временно, как ничто наличное “во времени”, уходящее соответственно, приходящее, по своей онтологической сути никогда не может»[210]210
Там же. С. 382.
[Закрыть].
Человеческое бытие, экзистируя, по возможности изгоняет из своей жизни всякую случайность. Оно старается перестать быть «атомом» в машине мировой истории, игральным мячом обстоятельств и происшествий. «Присутствие только потому может быть задето ударами судьбы, что в основе своего бытия оно есть в характеризованном смысле судьба… Судьба не возникает впервые лишь через столкновение обстоятельств и происшествий. Нерешительный тоже, и еще больше, чем тот, кто сделал выбор, швыряем ими и все равно не способен “обладать” никакой судьбой… Только когда в бытии сущего смерть, вина, совесть, свобода и конечность равноисходно обитают вместе как в заботе, оно способно экзистировать в модусе судьбы, т. е. быть в основании своей экзистенции историчным… Лишь собственная временность, которая вместе с тем конечна, делает возможным нечто подобное судьбе, т. е. собственную историчность»[211]211
Там же. С. 384–385.
[Закрыть].
Память и свобода
Если естественный человек не придает большого значения индивидуальной памяти и для него память – это совокупность архетипов, мифических моделей, мифических действий, то для человека искусственного индивидуальная память – основа духовного существования. У человека, живущего насыщенной внутренней жизнью, восприятие настоящего является всего лишь поводом к воспоминанию. Восприятие – это мгновенный срез, который совершает наша память в настоящем. Предшествующая психологическая жизнь обладает для человека существованием в большей мере, чем внешний мир: он воспринимает всегда только ничтожно малую часть этого мира, тогда как пережитый опыт используется во всей совокупности. В этом смысле в любом восприятии уже все есть, если речь идет о восприятии в точном смысле этого слова. И тогда, как любил говорить М. Мамардашвили, не только в «Мыслях» Паскаля, но и в рекламе мыла можно познать истину, увидеть красоту или установить искренность выражения чувств. А то, что не ожило, что мы не оживили, смотрит на нас, а мы не чувствуем его взгляда. Дерево, стоящее передо мной в саду, осыпанное росой и сверкающее в лучах утреннего солнца, – просто антоновка из семейства семечкопокрытых; музыка, что мы слышим, – только набор звуков; человек, которого я когда-то любил, сидит передо мной во всем блеске красоты и не вызывает во мне никаких чувств. Но вдруг этот человек, что-то рассказывая о своей жизни, произносит одно слово, слово-пароль, и вся цепь моих переживаний, моей памяти включается и вдруг озаряет ярким светом и меня самого, и этого человека. Я оживаю, я вижу его красоту, и это ви́дение снова потрясает и волнует меня. Восприятие, отрезанное от памяти, было бы патологично, поскольку зависело бы только от случайности и ограниченности нашей психики. Жить исключительно в настоящем, сразу отвечать на возбуждение непосредственной реакцией – это, согласно А. Бергсону, свойство низшего животного; когда так поступает человек, говорят, что он импульсивен.
Человек, в сущности, есть не что иное, как его прошлое. Он не мог бы осмысленно жить без того, чтобы снова и снова не проигрывать свою жизнь, не беседовать со своими умершими, как с живыми, не воображать, что было бы, если бы некоторые события в прошлом не произошли или произошли совсем по-другому. Декарт говорил, что в полной мере нам принадлежат только наши мысли. Подобным образом мы можем сказать, что в полной мере нам принадлежит только наше прошлое, наша память о нем, ее никто не может у нас отнять, и никакие силы не в состоянии ее изменить. Погружаясь в воспоминания, человек погружается в стихию духа, поскольку того, что он вспоминает, нет как объективной реальности, это чистая виртуальность, и в то же время только то, что живет в памяти, в полном смысле слова есть, потому что, раз случившись, оно уже существует всегда, и даже Бог не может сделать бывшее небывшим. А бытие существует всегда в вечности и не зависит от времени. Поскольку у меня есть память, я принадлежу бытию, не завишу от внешних обстоятельств, сам определяю свою жизнь, становлюсь самобытным. То, что прошло и хранится в моей памяти, стало объемным, расцвеченным, я могу посмотреть на него со стороны и оценить каждое мгновение моего прошлого переживания. Жалость и печаль о днях прошедшей любви превращают те дни в факт искусства, моя страсть, злость, растерянность, смущение и робость, переход от отчаяния к надежде, которыми я был подавлен, превращаются в моей памяти в стройное повествование, в сюжет, который организует и упорядочивает мою раздерганную случайными обстоятельствами жизнь. Наша память создает для нас полный смысл ушедшего, в то время как в настоящих мгновениях жизни мы никогда не достигаем полного смысла, он разделен на отдельные переживания, отдельные дни и годы. Полный смысл открывается только в воспоминании. Мы не проживаем наши годы в их непрерывной последовательности, день за днем, но восстанавливаем их в воспоминании, которое не подчиняется законам времени, потому что нечто, что вспоминается, живет по законам психики, стареет иначе или сохраняет молодость. Если сравнить то, что мы вспомнили, с тем, что существует в нашем повседневном эмпирическом опыте, то между ними обнаруживается такая же разница, как между различными мирами, потому что мир, всплывший в нашем воспоминании, поддержан нашей фантазией, нашим продуктивным воображением, это метафорический мир, и именно поэтому такой мир реален и истинен.
В беспечных радостях, в живом очарованье,
О дни весны моей, вы скоро утекли.
Теките медленней в моем воспоминанье…
А.С. Пушкин
Только прошлое и есть, потому что восприятие, как полагал А. Бергсон, каким бы оно ни было мгновенным, «состоит из неисчислимого множества вспоминаемых элементов, и по сути всякое восприятие есть уже память. Практически мы воспринимаем только прошлое, так как чистое настоящее представляет собой неуловимое поступательное движение прошлого, которое подтачивает будущее»[212]212
Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. М., 1992. Т. 1. С. 254.
[Закрыть].
Мы не распоряжаемся своей памятью и часто сожалеем о том, что нельзя удержать в памяти и сотой доли того, что было пережито или прочитано. Утешает только одно: все это было питанием, способствующим росту и развитию внутреннего мира, многое завязывается в нас помимо наших сознательных усилий, и это многое часто составляет самое существенное, что есть в нас. Здесь и первые розовые цветы боярышника, и материнский поцелуй на ночь, и звук лопнувшей струны, медленно тающий в теплом вечернем воздухе, и пронзительно-страшная мысль в детстве о неизбежности собственной смерти, которая занозой на всю жизнь остается в сердце. Собственно, все наше внутреннее есть результат памяти, которая живет в нас и нам не принадлежит[213]213
«Лучшее, что хранится в тайниках памяти, – вне нас; оно – в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге – всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез… При ярком свете обычной памяти образы минувшего постепенно бледнеют, расплываются, от них ничего не остается, больше мы их уже не найдем» (Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1992. С. 189).
[Закрыть].
Парадоксальность памяти заключается в том, что мы ничего не помним, если понимать память как склад, механическую совокупность событий, знаний, открытых истин, которые лежат, подобно картофелинам в мешке, и ждут, когда то или иное событие осветит их, вызовет к жизни. Память обладает виртуальным бытием, ее нет и в теле, так как тело само является нашим образом. Бытующая в современной науке теория о том, что носителем памяти являются рибонуклеиновые кислоты в клетках мозга, не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики, ибо, как бы ни были сложны структуры РНК, наши переживания, ощущения, эмоции, знания, сплетающиеся в бесконечно сложный комплекс памяти, никак не могут быть адекватно отражены в физиологическом аппарате мозга. Мозг как часть материального мира есть нечто протяженное в пространстве и должен определяться как непрерывно начинающееся заново настоящее. Наше же настоящее, напротив, и есть сама материальность нашего существования, т. е. совокупность движений и ощущений – и ничего сверх этого.
Если за каждым ощущением или переживанием закреплен определенный комплекс нервных процессов в мозгу, то одинаковые ощущения или впечатления всегда вызывали бы одинаковые переживания, однако сознание никогда не возвращается в прежние состояния, потому что тащит за собой всю прошлую память, которая постоянно изменяется и обогащается и подобна, как говорил Бергсон, мелодии, меняющейся с каждой новой нотой. Воспоминание возникает от какого-либо толчка, вызванного восприятием, причем никогда нельзя проследить очевидной и однозначной связи между восприятием и воспоминанием, мы не распоряжаемся своей памятью, память – это то, что, принадлежа нам, от нас не зависит, она значительнее и больше, чем вся наша актуальная психическая жизнь. Может быть, не мы помним, а наш дух вспоминает себя через нас. Ведь чтобы вспомнить нечто важное и значительное, что когда-то удивило или потрясло нас, нужно попасть в соответствующее состояние. «Только дух слышит дух» (А. Шопенгауэр). Пруст считал вполне правдоподобным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, становятся пленниками какой-либо низшей твари или неодушевленного предмета. Но вот мы подходим к дереву или берем в руки предмет, служивший для них темницей, тут-то они вздрагивают, тут-то они взывают к нам, и как только мы их узнаем, колдовство теряет свою силу. Мы выпускаем их на свободу, и теперь они, победив смерть, продолжают жить с нами. «Так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его – напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от нее получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так и не найдем – это чистая случайность»[214]214
Пруст М. По направлению к Свану. М., 1992. С. 41.
[Закрыть].
Память – очень сложный и многослойный феномен. Сюда входит, например, непостижимое воспоминание (термин К. Ясперса) – виртуальный и чисто духовный слой, о котором могут что-либо сказать мистики и религиозные пророки. Это абсолютно необходимый, фундаментальный слой памяти. Я должен помнить то, чего со мной не было, как будто я присутствовал при рождении мира, иначе я вообще ничего не помню. Эту «странную» память можно описать только с помощью косвенных примеров. Так, в теологии утверждается, что высшей формой любви является любовь к Богу, которая делает возможной любовь к любому конкретному человеку. Но что значит любить Бога? Скорее всего – просто находиться в стихии любви, быть всегда готовым к любви.
Но точно так же можно находиться и в стихии памяти, помнить не о чем-то конкретном, а о своей памяти, т. е. жить в духе. Только в памяти мы и сталкиваемся с духом, с духом в себе и для себя, не отягощенным никакой материальностью. Подобным же образом Декарт, как уже отмечалось, различал мышление о чем-то и чистое мышление, мышление о мышлении, как условие любой мысли о чем-либо конкретном, мышление как стихию, а не как совокупность логических операций над восприятиями и представлениями.
Мы люди, поскольку помним. Что помним? Неизвестно. Но что-то точно помним, самое важное и самое главное, при этом всякое конкретное воспоминание – всегда уже не то, не о том. Иногда в особом состоянии духа нам кажется, что еще минута, и мы вспомним самое важное, то, что составляет существо всей нашей жизни: кто мы такие, откуда пришли, почему страдания составляют бо́льшую часть нашей жизни, в чем смысл нашего существования. Разумеется, ничего «самого важного» вспомнить в конкретном образе нельзя, но сама попытка вспомнить это, сама попытка удержаться в «сознании непостижимого воспоминания» создает внутренний строй души, которой доступны свобода и творчество.
«А можно ли считать воспоминанием то, – писал М. Пруст, – что нельзя восстановить в памяти? Допустим, мы не можем вызвать в памяти события за последние тридцать лет, но ведь они все равно омывают нас со всех сторон; зачем же тогда останавливаться на тридцати годах, почему не продлить минувшую жизнь до того времени, когда нас еще не было на свете? Раз от меня скрыто множество воспоминаний о том, что было до меня, раз я их не вижу, раз я не могу к ним воззвать, то кто мне докажет, что в этой “тьме тем”, остающейся для меня загадкой, нет таких воспоминаний, которые находятся далеко за пределами моей жизни в образе человека?»[215]215
Пруст М. Содом и Гоморра. М., 1993. С. 349.
[Закрыть]
Определенную модель этого «непостижимого» воспоминания представляет собой теория коллективного (или родового) бессознательного К. Юнга. Архаические структуры психики содержат в себе совокупность архетипов (праобразов) – древних способов понимания и переживания мира. Это «память», которая виртуально живет в человеке и никогда непосредственно им не осознается. Коллективное бессознательное при нормальных условиях не поддается осознанию, никакая аналитическая техника не поможет его «вспомнить»: ведь оно, в отличие от личного бессознательного, никогда не было вытеснено или забыто. В то же время коллективное бессознательное не существует наподобие некоторых врожденных структур нашей психики, передающихся по наследству. Это, по Юнгу, не врожденные представления, а врожденные возможности представления, ставящие известные границы самой смелой фантазии. Это как бы категории деятельности воображения, априорные идеи, существование которых не может быть установлено иначе как через опыт их восприятия. Архетипические образы особенно наглядно могут выступать в символической форме искусства. «Они проявляются лишь в творчески оформленном материале в качестве регулирующих принципов его формирования, иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную подоснову праобраза лишь путем обратного заключения от законченного произведения искусства к его истокам»[216]216
Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 116.
[Закрыть].
Неудивительно, считает Юнг, что в типической ситуации мы внезапно ощущаем совершенно исключительное освобождение, чувствуем себя как на крыльях и нас захватывает непреодолимая сила. В такие моменты мы уже не индивидуальные существа, мы – род, голос всего человечества, просыпающийся в нас. Архетип, проявляющийся в сновидении, фантазии или в жизни, всегда несет в себе некоторое особое влияние или силу, благодаря которым его воздействие носит нуминозный, т. е. зачаровывающий, характер. Архетип захватывает психику изначальной силой и вынуждает ее выйти за пределы человеческого. Он ведет к преувеличению, раздутости, проявлению недобросовестности, одержимости, рождает иллюзии, как в хорошем, так и в дурном.
Только художник средствами своего таланта может выразить могучую энергию архетипа, главную составляющую непостижимого воспоминания. Любое отношение к архетипу, полагает Юнг, задевает нас, пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Объясняющийся праобразами говорит как бы тысячами голосов, он пленяет и покоряет, поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечного, возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким образом высвобождает в нас те спасительные силы, которые всегда помогали избавиться от любых опасностей и преодолеть даже самую долгую ночь. Такова тайна воздействия искусства. Творческий процесс складывается из бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления вплоть до завершения произведений искусства. Настоящее искусство дает жизнь тем фигурам и образам, которых духу времени как раз больше всего недоставало. От неудовлетворенности современностью творческая тоска уводит художника вглубь, пока он не нащупает в своем бессознательном того праобраза, который способен компенсировать ущербность и однобокость современного духа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.