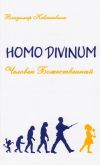Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Обычно полагают, что быть субъективным – не такое уж великое искусство. Всякий человек как нечто само собой разумеющееся – уже есть субъект. Но как стать таковым по-настоящему? Этого нельзя достичь, читая умные книги или слушая мудрые проповеди, это истина существования, а не истина разума. Знания не играют здесь никакой роли. Я сам, мое внутреннее и есть истина[120]120
«Христианство возражает против какой бы то ни было объективности; оно хочет, чтобы субъект был бесконечно озабочен собой самим. Единственное, чего оно просит, это субъективности; истинность христианства, если таковая вообще есть, состоит именно в этом; объективно такой истинности нет вовсе. И даже если эта истинность пребывает в одном-единственном субъекте, она пребывает только в нем, и нет большей христианской радости в небесах, чем о нем, это радость больше, чем обо всей всемирной истории и всякой системе, которые, будучи объективными силами, несоизмеримы с христианской силой» (Там же. С. 145).
[Закрыть].
Внутренняя глубина стала скорее предметом знания, а экзистирование – пустой тратой времени. Люди уже все знают, а главное, знают, что им не стоит осуществлять ни малейшей доли из того, что они знают. Ведь с помощью своего внешнего знания они уже благополучно пребывают на седьмом небе, тогда как если им придется осуществлять это знание на деле, они тут же превратятся в бедных, несчастных экзистирующих индивидов, которые снова и снова будут спотыкаться, пытаясь хоть немного продвинуться вперед. Иногда, вспоминая о том, что Цезарь дотла сжег Александрийскую библиотеку, можно с самыми добрыми намерениями пожелать человечеству, чтобы весь этот чрезмерный массив знания попросту исчез, – так, чтобы мы смогли заново понять, что же это значит – жить как человек.
Ведь всякое знание о действительности – это только возможность. Единственная действительность, полагает Кьеркегор, относительно которой у экзистирующего индивида есть нечто большее, чем просто знание, – это его собственная действительность, то, что он экзистирует, и эта действительность представляет для него высший интерес. Наука и строящаяся на ней научная философия требуют, чтобы человек стал объективным, т. е. безличным, бесстрастным наблюдателем мира, и сделать это нужно для того, чтобы обрести что-то, что он может узнать. А жизненная мудрость требует оставаться бесконечно заинтересованным в собственном экзистировании. «Экзистировать – значит прежде всего быть отдельным индивидом, и как раз поэтому мышление вынуждено пренебрегать экзистенцией, поскольку мыслить можно только всеобщее, а не частное»[121]121
Там же. С. 383.
[Закрыть].
Быть отдельным человеком, изо всех сил стараться отличаться от других умом, оригинальностью, необычной позицией – это еще не подлинное экзистирование. Это эстетическая позиция. С этой точки зрения продать душу дьяволу, чтобы потом создать замечательное произведение, – вполне естественная вещь. Если индивид отказывается от самого себя, чтобы постичь нечто великое, это значит, что он вдохновлен эстетически, если же он отказывается от всего на свете, чтобы спасти самого себя, то он действительно живой человек, и его существование наполнено смыслом[122]122
«Стремиться быть отдельным человеком (каковым каждый несомненно является), опираясь на свое отличие, – это трусость; стремиться же быть отдельно существующим человеком (каковым каждый несомненно является) в том же самом отношении, которое равным образом открыто и всякому другому индивиду, – это этическая победа над жизнью и всеми ее обманками. И эту победу, пожалуй, труднее всего одержать именно в нашем теоцентричном девятнадцатом веке» (Там же. С. 386).
[Закрыть].
Экзистировать – значит быть свободным. Проблема свободы, понимание того, что свобода – это величайшее бремя для человека, были важнейшими темами в творчестве Ф.М. Достоевского. Человеческая природа, по его мнению, полярна, антиномична и иррациональна. У человека есть неискоренимая потребность в иррациональном, в безумной свободе, в страдании. Человек не стремится непременно к выгоде. В своеволии своем человек сплошь и рядом предпочитает страдания. Он не мирится с рациональным устроением жизни. Свобода выше благополучия. Но сама свобода иррациональна и безумна, она влечет к переходу за грани, поставленные человеку. Эта безмерная свобода мучит человека, ведет его к гибели. Но человек дорожит этой мукой и этой гибелью. Судьбы Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова – это страдальческое странствование на путях своевольной свободы. Иван Карамазов – последний этап на пути свободы, перешедшей в своеволие и бунт против Бога.
Мы живем в культурной среде, стремящейся взвалить на каждого ответственность за собственную жизнь. Моральная ответственность, унаследованная от христианской традиции, стремится заставить нас обеспечить всю совокупность условий своего существования. Но никто не в состоянии вынести ответственность за свою жизнь. Человеку гораздо естественнее вручить свою участь, желания, волю кому-то другому. Человек приговорен к свободе, но люди боятся свободы, боятся ответственности. Они ищут того, кому можно было бы вручить свою свободу, чтобы он снял с них страшное бремя ответственности, при которой человек должен сам выбирать свой жизненный путь, сам отвечать за свои поступки, не перекладывая ответственность на воспитание, семью, партию, государство и т. д. От свободы происходит все зло, все преступления и войны. В мире так много зла и страдания, потому что в основе мира лежит свобода. И в свободе – все достоинство мира и достоинство человека. Избежать зла и страдания можно лишь ценой отрицания свободы. Тогда мир был бы принудительно добрым и счастливым. Но он лишился бы своего богоподобия. Ибо богоподобие прежде всего в свободе. Тот мир, который сотворил бы бунтующий «эвклидов ум» Ивана Карамазова, в отличие от Божьего мира, полного зла и страдания, был бы добрый и счастливый мир. Но в нем не было бы свободы, в нем все было бы принудительно рационализировано. Это изначально, с первого дня, был бы тот счастливый социальный муравейник, та принудительная гармония, которую пожелал бы свергнуть «джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией»[123]123
См.: Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. О русской философии. Ч. 1. Свердловск, 1991. С. 67.
[Закрыть].
Человека можно избавить от зла, сделать его счастливым, только отняв у него свободу. По мнению Великого Инквизитора, Христос, дав людям свободу, возложил на них страшное и невыносимое бремя[124]124
«Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1991. Т. 1. С. 329).
[Закрыть].
Людям нужна не свобода, а счастье, сытая обеспеченность и внешняя сила, авторитет, за который можно спрятаться и от врагов, и от ответственности за свою жизнь. «У нас же все будут счастливы, – говорит Великий Инквизитор Христу, – и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные и несчастные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: “Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам: спасите нас от себя самих”»[125]125
Там же. С. 333.
[Закрыть].
Людей можно сделать счастливыми, «избавив их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного», но это, полагал Достоевский, будет счастье муравейника. А человеку нужно не счастье, а свобода. Его можно утопить в счастье с головой, дать ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уже больше ничего не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники, но человек рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмысленности единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела»[126]126
Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Бесы. Записки из подполья. М., 1994. С. 457. «Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет» (Там же. С. 459).
[Закрыть].
Страдание и бедность людей, полагал Достоевский, происходит не оттого, что человек эксплуатирует человека, один класс – другой класс, а оттого, что человек рожден свободным существом, свободным духом и предпочитает страдать, только бы не лишиться свободы духа. Свобода человеческого духа есть и свобода зла, а не только добра. Но свобода зла ведет к своеволию и самоутверждению человека, своеволие же порождает бунт, восстание на самый источник духовной свободы. Свобода есть бремя, путь свободы – крестный путь страдания. И вот человек в слабосильном бунте своем восстает против бремени свободы. Свобода переходит в рабство, принуждение. «Как выйти из этой антиномии, из этого безысходного противоречия? Достоевский знает только один выход – Христос. Во Христе свобода становится благодатной, соединяется с бесконечной любовью, свобода не может уже перейти в свою противоположность, в злое насилие. Повсюду у Достоевского утопия социального счастья и социального совершенства уничтожает свободу человека, требует ограничения свободы. Так это в шигалевщине и в планах Петра Верховенского, как и в учении Великого Инквизитора, который ведь под маской католичества проповедует религию социализма, религию хлеба земного, социального муравейника»[127]127
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 136.
[Закрыть].
Парадоксы свободы в обществе постмодерна
В современном обществе постмодерна свобода человека оказывается столь же проблематичной и трагической, как и во все прошлые времена, хотя в настоящее время проявляются новые и совершенно неожиданные аспекты. Во-первых, в современном обществе свободы, несомненно, стало больше. «Тяжелый», фордистский, капитализм, который, по мнению З. Баумана, был миром законодателей, разработчиков режима и контролеров, миром авторитетов, лидеров, знающих все лучше остальных, сменился «легким», дружественным потребителю капитализмом, который вызвал к жизни и обеспечил сосуществование авторитетов в таком количестве, что ни один из них не в состоянии оставаться авторитетом долгое время, не говоря уж об обладании правом на исключительность. «Когда авторитетов много, они начинают отменять один другого, и единственным эффективным лидером в данной области остается тот, кто будет выбирать между ними. Именно избиратель отвечает за то, что возможный авторитет становится реальным. Авторитеты больше не командуют; они ищут расположения избирателя; они соблазняют и покоряют»[128]128
Бауман З. Текучая современность. М., 2008. С. 71–72.
[Закрыть].
Мы переходим теперь, утверждает Бауман, из эры заранее заданных «референтных групп» в эпоху «универсального сравнения», в которой цель усилий человека по строительству своей жизни неопределенна, не задана заранее и может подвергнуться многочисленным и глубоким изменениям, прежде чем эти усилия достигнут своего подлинного завершения, т. е. завершения жизни человека.
Раньше идеальной моделью общественного управления считался проект паноптикума Иеремии Бентама. Но паноптикум имел существенные недостатки – это была дорогостоящая стратегия: завоевание пространства и привязанность к нему, удержание населяющих его людей на месте, постоянный контроль за ними – все это при реальном осуществлении, о котором мечтал Бентам, потребовало бы больших затрат и тяжелых управленческих задач.
Современные компьютерные возможности, сотовые телефоны сделали возможным избавление от неудобных и раздражающих аспектов техники власти по типу паноптикума. Бауман даже называет современный этап истории постпаноптическим. Современная власть характеризуется легкостью, текучестью, все большей мобильностью, нестабильностью, переменчивостью, неуловимостью и мимолетностью. Чтобы власть могла быть текучей, мир должен быть свободен от заборов, барьеров, укрепленных границ и контрольно-пропускных пунктов. Любая плотная сеть социальных обязательств, и особенно основанная на территориальном принципе, является препятствием, которое необходимо убрать с пути[129]129
См. там же. В одной из своих лекций 1975 г. Фуко говорил о том, что концепция, согласно которой власть довлеет над человеком «снаружи», постоянно совершая над ним насилие, списана с модели рабовладельческого или, во всяком случае, кастового общества. Представление же о власти как о механизме ограждения процесса производства и передачи прибыли от него одному социальному классу опирается не на реальное функционирование власти в современном обществе, а на представление о функционировании власти в обществе феодальном. Наконец, представление о власти как об административной машине контроля над производственными отношениями на данном уровне экономического развития является моделью административной монархии. Сегодняшние отношения власти и общества отличаются радикальным образом.
[Закрыть].
Главным показателем сегодня является принципиальная неопределенность. Современная неопределенность, полагает З. Бауман, – мощная сила индивидуализации. Она разделяет, а не объединяет, и поскольку никому не сообщают, в каком подразделении он проснется на следующий день, идея «общих интересов» становится все более туманной и теряет свою практическую ценность[130]130
См. там же. С. 160.
[Закрыть]. Современные страхи, тревоги и обиды созданы для того, чтобы переживать их в одиночку. Они не складываются, не аккумулируются в «общую причину», не имеют никакого определенного, а тем более очевидного адреса. Это предлагает стратегию жизни, весьма отличную от прежней, приведшей, например, к созданию оборонительных и боевых организаций рабочего класса.
Сегодня человек, как правило, пребывает в состоянии постоянной изменчивости, в процессе самопреодоления. Отсюда неукоренненность как основная черта жизни. «Общество действительно независимо, когда оно знает, должно знать, что нет никаких “проверенных” смыслов, что оно живет на поверхности хаоса и само есть хаос, ищущий свою форму, но такую форму, что никогда не является раз и навсегда заданной». Отсутствие проверенных смыслов – абсолютных истин, предопределенных норм поведения, заранее проведенных границ между правильным и неправильным, больше не нуждающихся во внимании, гарантированных правил успешного действия – в то же время не является обязательным условием действительно независимого общества и действительно свободных людей; независимое общество и свобода его членов обусловливают друг друга. Какую бы безопасность ни могли предоставить демократия и индивидуальность, она зависит не от борьбы со случайностями и неопределенностью человеческой жизни, а от способности осознать их и смело встретить их последствия»[131]131
Там же. С. 228.
[Закрыть].
Недаром философы и социологи (Ж. Деррида, Ж. Атали) называют современного человека кочевником. Жизнь среди множества конкурирующих ценностей, норм и стилей, без твердой и надежной гарантии своей правоты опасна, и за нее приходится платить высокую психологическую цену. Часто нужно убежать, уйти от любой системы, от любого порядка и обязательств, сковывающих свободу. И условия современной жизни предоставляют такую возможность. Например, работа сместилась из универсума построения порядка и контроля над будущим в область игры; рабочие действия становятся все более похожими на стратегию игрока, который ставит перед собой краткосрочные цели, простирающиеся не далее чем на один или два шага вперед. Имеют значение именно прямые результаты каждого шага; эти результаты должны быть пригодны для непосредственного использования.
Возможно, термин «поверхностный» был бы более подходящим, чтобы передать изменившийся характер работы, отделенной от грандиозного замысла миссии всего человечества и не менее грандиозного замысла жизненного призвания человека. Лишенная своих эсхатологических атрибутов и отрезанная от своих метафизических корней, работа потеряла центральность, которая приписывалась ей в галактике ценностей, доминирующих в эпоху «тяжелого» капитализма. Работа больше не является надежной осью, вокруг которой группируются самоопределения, идентичности и жизненные планы. Она также не может служить бесспорной этической основой общества или этической осью индивидуальной жизни.
Это резко отличается от религиозного отношения к труду, созданного протестантскими общинами прошлого и просуществовавшего много веков. В той же степени, как от рациональной техники и рационального права, экономический рационализм зависит и от способности и предрасположенности людей к определенным видам практически-рационального жизненного поведения. В прошлом основными формирующими жизненное поведение элементами повсюду выступали магические и религиозные идеи и коренившиеся в них этические представления о долге. Хозяйственное мышление этоса данной формы хозяйства, писал М. Вебер, вызывалось определенной религиозной направленностью. Иллюстрацией этой обусловленности должна служить связь современного хозяйственного этоса с рациональной этикой аскетического протестантизма. Прежде всего труд издавна считался испытанным аскетическим средством: в качестве такового он с давних пор высоко ценился. Именно труд служил специфической превентивной мерой против всех тех – достаточно серьезных – искушений, которые пуританизм объединяет понятием «unclean life». «Повсюду, где утверждалось пуританское мироощущение, оно при всех обстоятельствах способствовало установлению буржуазного рационального с экономической точки зрения образа жизни, что, конечно, имеет неизмеримо большее значение, чем простое стимулирование капиталовложений. Именно пуританское отношение к жизни было главной опорой этой тенденции, а пуритане – ее единственно последовательными сторонниками. Пуританизм стоял у колыбели современного “экономического человека”»[132]132
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 199.
[Закрыть].
В настоящее время работа, полагает Бауман, как и другие виды жизнедеятельности, приобрела главным образом эстетический смысл. Она, как ожидается, должна удовлетворять сама по себе, а не измеряться реальными или предполагаемыми плодами, которые она приносит семье, нации или стране, не говоря уже о счастье будущих поколений. Только немногие люди – и к тому же лишь изредка – могут требовать привилегий, престижа или почестей, указывая на важность и общественную полезность выполняемой ими работы. Едва ли кто-нибудь ожидает, что работа «облагородит» ее исполнителей, сделает их «лучшими людьми», и по этой причине она редко вызывает восхищение и заслуживает похвалы. Вместо этого она измеряется и оценивается по способности быть интересной и занимательной, удовлетворяющей не столько этическое, прометеево, призвание производителя и создателя, сколько эстетические потребности и желания потребителя, искателя острых ощущений и коллекционера переживаний.
В европейском мире еще очень сильна инерция, положенная классикой – Платоном, Кантом, нововременной наукой: для них главным является знание, люди ищут истину, пытаются понять, как было «на самом деле», пытаются преодолеть все видимости и иллюзии.
Знание – это сила, знание – это власть. Чтобы уметь подчинять себе природу и человека, управлять обществом, надо знать тайные пружины, механизмы, открывать законы, классифицировать и типологизировать сферы реальности. Высшим видом знания в Новое время оказывается научное знание. Но научное знание всегда относительно и с точки зрения абсолютной истинности сомнительно, поэтому оно навязывается сознанию человека в качестве неоспоримого авторитета, который заставляет человека мыслить готовыми понятиями и концептами. «Исторический анализ этой злостной воли к знанию, – писал Фуко, – обнаруживает, что всякое знание основывается на несправедливости (что нет права, даже в акте познания, на истину или обоснование истины) и что сам инстинкт к знанию зловреден (иногда губителен для счастья человечества)…Воля к знанию не способна постичь универсальную истину: человеку не дано уверенно и безмятежно господствовать над природой… Она все больше порабощает его своим инстинктивным насилием»[133]133
Власть, поясняет Фуко в «Надзирать и наказывать», не достояние, а стратегия, и воздействие господства связано не с присвоением, а с механизмами, маневрами, тактиками и техниками действия. Это сеть активных и напряженных отношений, а не привилегия, которой можно обладать. Модель власти – «вечное сражение», а не договор о правах и имуществе. Власть скорее «отправляется», чем «принадлежит», это не привилегия господствующего класса, а совокупное воздействие его стратегических позиций. Власть производит знание; власть и знание непосредственно предполагают друг друга, и нет ни отношений власти без соответствующего образования в области знания, ни знания, которое не предполагало бы и не образовывало отношений власти.
[Закрыть].
Столетиями мир в глазах людей был построен по образцу платонического дуализма: означающее – означаемое, явление – сущность. Философия должна была преодолеть этот миф. Означаемое, трансцендентное нужно преодолеть, нужно отбросить платоническую идею, что за знаками, дискурсами, языком лежит какая-то объективная реальность, изначальный смысл, нуждающийся в открытии. Окружающую человека реальность нужно рассматривать, считают современные философы, не как заданную извне совокупность объектов, но как исторически складывающееся и перманентно конституируемое дискурсивное поле, т. е. как культурно-знаковую среду с развивающимися законами функционирования. В свете теории нарратива можно сказать, что различные общества в различные периоды имеют различные языковые конвенции и потому – разные «реальности».
Сегодняшняя культура ориентирована не на знание, не на истину, а на игру означающих элементов, игру символов. «Все видимости составляют заговор, чтобы дать бой смыслу, чтобы искоренить всякий смысл, преднамеренный или же нет, и обратить его в игру, в другое правило игры, на сей раз произвольное, в другой, неуловимый ритуал, более рискованный и соблазнительный, нежели генеральная линия смысла. И биться дискурсу приходится не столько с тайной бессознательного, сколько с поверхностной бездной своей собственной видимости, победа же, если она суждена, одерживается не над грузными фантазмами и галлюцинациями смысла или того, что противно смыслу, но над искрящейся, играющей тысячью игр поверхностью бессмыслицы»[134]134
Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000. С. 107.
[Закрыть].
Освобождение – это попытка жить в мире, где нет никаких обязательных, принуждающих истин.
Основной моделью функционирования и развития общества считается ныне не паноптикум, не структура, но ризома (неупорядоченная корневая система). Если классическая европейская философия в качестве метафоры имела в своем основании «корень», а вернее, стержневую корневую систему, то Делёз и Гваттари в 1976 г. предложили концепцию ризомы («корневища»). Ризома не содержит в себе никакого стержневого корня, она растет «разом во все стороны» и имплицитно содержит «скрытый стебель»; она абсолютно нелинейна и потому практически неуничтожима. Ризома не имеет не только семантического центра, но и единого кода, который мог бы оказывать центрирующее действие. Неравновесная целостность ризомы (аналогичная неравновесным средам синергетики) характеризуется не наличием организационных порядков, но имманентной нестабильностью и нонфинальностью; ризоморфные структуры, таким образом, обладают имманентным креативным потенциалом самоорганизации и являются синергетическими. Делёз на буддийский манер отмечал, что ризома ни стабильна, ни нестабильна, но метастабильна. Бытие ризоморфной среды есть нонфинальная динамика, и никакая статика ей не присуща. Ризома включает в себя перманентно подвижные линии членения, предполагающие разрывы как переходы в состояние без жесткой стратификации. Ризома не только не боится разрыва, но конституируется им; она может быть разорвана в любом месте и перестроиться на другую линию функционирования. Это принципиально открытая среда, как в смысле возможности трансформаций, так и по отношению к внешнему (хотя, строго говоря, ни «внутреннего», ни «внешнего» здесь нет). У ризомы нет ни начала, ни конца, но только середина, из которой она растет и выходит за собственные пределы. Не имеет смысла говорить о ее происхождении, прогрессе или регрессе. Таким образом, ризома не реальна, но виртуальна (в буквальном значении этого термина, т. е. вероятностна)[135]135
См.: Дьяков А.В. Проблема субъекта в постструктуралистской перспективе. М., 2005. С. 205.
[Закрыть].
В человеческой целостности, выросшей по модели ризомы, нет привилегированных точек, нет никакого выделенного центра, нет никакого господствующего дискурса, которому бы подчинялись научные направления, идеология, политика, мораль. Поскольку произошло разрушение нормативных и защитных сетей, то больше нет «спасения» в обществе, т. е. гарантированности нормального стандартного существования. Освобождение и рок лежат на вашей совести, и произошедшее с вами – исключительно плод ваших рук, результат того, что вы, свободная личность, свободно делали со своей жизнью[136]136
«Жизнь в мире, полном возможностей, каждая из которых более привлекательна, чем предыдущая, “компенсирует предыдущую и создает почву для достижения следующей”, – это возбуждающее переживание. В таком мире мало что предопределено и практически ничего нельзя считать непоправимым. Лишь немногие поражения окончательны, лишь редкие неудачи, если такие вообще есть, необратимы, однако никакая победа также не является полной. Чтобы возможности оставались безграничными, ни одна из них не должна становиться вечной реальностью. Они должны оставаться изменчивыми и текучими и иметь такой “срок годности”, чтобы не сделать недосягаемыми остальные возможности и не задушить будущие приключения в зародыше» (Бауман З. Указ. соч. С. 70).
[Закрыть].
На место отношения «знак – означаемое» становится отношение между симулякрами. Симулякр, по мнению Ж. Бодрийяра, – это знак, схема или модель, за которым ничего не стоит. Это искусственное образование, заменяющее собой реально существующие предметы и отношения, он не требует отсылки ни к чему реальному, он самодостаточен, и человеку вполне достаточно обладать симулякром, а не тем, что он симулирует. Симулякры обмениваются на симулякры, и ни один из них не отсылает ни к какому референту. Человек тоже становится чистым симулякром, его «ценность» больше не обеспечивается ни Богом, ни производством, а значит, никакого человека больше нет. Нет не только автономного картезианского субъекта, но и атомарного элемента производительных сил.
Человек глубоко вовлечен в мир симулякров, где невозможно отличить правду от вымысла, живое от неживого, страсть от имитации. Симулякрами может быть все: любовь, секс, смерть, политика, война. Самодостаточные знаки – симулякры – поглотили собой предметы, т. е. реальность в привычном смысле слова. В симулятивной реальности постмодернистского общества нельзя четко провести грань между «собственно» реальным и «всего лишь» фиктивным. Эта реальность соткана из фикций, а фикции, напротив, сделались единственной реальностью. Человек становится симулякром и не может дать себе отчета в том, действительно ли он существует, или через него существуют некие силы, формирующие его и вызывающие его к жизни.
Бодрийяр не вкладывает никакого отрицательного смысла в понятие «симулякр». Всякий смысловой дискурс желает положить конец видимости, открыть некую сущность, истину. Но это абсолютно невозможное предприятие – дискурс неумолимо отдается во власть своей собственной видимости, вовлекается в игру обольщения и подчиняется неизбежности своего провала как дискурса.
Хотя за симулякром нет никакой реальности, однако для своего существования он нуждается во внимании со стороны человека и выступает для последнего как соблазн. Да и сам человек идет навстречу соблазну: его соблазняет не сходство с реальностью, а именно невозможность этого сходства. Так возникает вселенная, которая «истолковывается… в терминах игры, вызова, агонистических дуальных отношений и стратегии видимостей: в терминах обольщения и соблазнительной обратимости взамен структуры и различительных оппозиций…»[137]137
Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 31.
[Закрыть] Любые поиски смысла призваны положить конец видимостям, кажется, что вот-вот будут сброшены последние покровы, и нам откроется смысл. Но когда покровы сброшены, за ними не оказывается ничего. Бодрийяр часто обращается к образу женского стриптиза: в нем завораживает обещание наготы, но сама открывшаяся нагота никому не интересна. «Соблазнять – значит умирать как реальность и рождаться в виде приманки»[138]138
Там же. С. 131.
[Закрыть].
Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения и предназначения, они вступают на путь бесконечного самовоспроизводства. Все сущее продолжает функционировать, тогда как смысл существования давно исчез. Оно продолжает функционировать при полном безразличии к собственному содержанию. И парадокс в том, что такое функционирование нисколько не страдает от этого, а, напротив, становится все более совершенным.
Таким образом, идея прогресса исчезла, но прогресс продолжается. Идея богатства, которая предполагает производство, исчезла, но производство как таковое осуществляется наилучшим образом. И по мере того как исчезает первоначальное представление о его конечных целях, рост производства ускоряется. Идея исчезла и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, будучи втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам. О телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло. Человек, сидящий перед пустым экраном, – логический конец такого развития. Может быть, в каждой системе, полагает Бодрийяр, в каждом индивидууме заложено тайное стремление избавиться от идеи своего существования, от своей сущности с тем, чтобы обрести способность размножаться и экстраполировать себя во всех направлениях?
«Та же история – с Богом и с Революцией. Манящей иллюзией иконоборцев было отбросить видимости, чтобы дать истине Бога раскрыться во всем блеске. Иллюзией, потому что никакой истины Бога нет, и в глубине души они, наверное, знали это, так что неудача их была подготовлена той же интуицией, которой руководствовались и почитатели икон: жить можно только идеей искаженной истины. Это единственный способ жить истиной. Иначе не вынести (потому именно, что истины не существует). Нельзя желать отбросить видимости (соблазн образов). Нельзя допустить удачи подобной затеи, потому что тогда моментально обнаружится отсутствие истины. Или отсутствие Бога. Или же отсутствие Революции»[139]139
Там же. С. 114–115.
[Закрыть].
Или власти. Сама власть, полагает Бодрийяр, никогда не воображала себя властью, и тайна великих политиков в их знании о том, что власть не существует. «…Она только перспективное пространство симуляции, каким является и живописное пространство Ренессанса, и если власть совращает, то именно потому (чего наивные реалисты в политике никогда не поймут), что она – симулякр, и потому, что она превращается в знаки и измышляет себя, исходя из знаков (вот почему пародия, обращение знаков или их ложное раздувание может затронуть ее глубже, чем любое отношение сил). Этой тайной несуществования власти, тайной великих политиков также владеют и великие банкиры, которые знают, что деньги – это ничто, что денег не существует, и великие теологи и инквизиторы, которые знали, что Бога не существует, что Бог мертв. Это дает им невероятное превосходство»[140]140
Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. С. 85.
[Закрыть].
Когда много говорят о власти, это значит, что ее больше нигде нет. То же самое, согласно Бодрийяру, можно сказать о Боге: фаза его повсеместного присутствия только ненамного опередила ту, когда он уже был мертв. Хотя смерть Бога, без сомнения, предшествовала фазе его вездесущности. То же относится и к власти: о ней так много говорится только потому, что она преставилась, потому что она фантом, марионетка – таков смысл слов Кафки: мессия, являющийся на следующий день, это только воскрешенный из мертвых Бог, зомби. Современная культура показывает неизбежность смерти всех великих референтов (религиозного, сексуального, политического и др.).
Победила стадия комбинаторики и симуляции. «Симуляции в том смысле, что теперь все знаки обмениваются друг на друга, но не обмениваются больше ни на что реальное»[141]141
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 52.
[Закрыть]. Все современные научные теории осмысленны лишь потому, что соотносимы друг с другом, но никоим образом не соотнесены с реальностью. Производство симулякров стало самоцелью.
Все становится симулякром: смерть, секс, искусство, экономика и, наконец, сам человек.
Так, миф о сексуальной свободе все еще жив в реальном мире, а в воображении доминирует именно транс-сексуальный миф с присущими ему двуполыми и гермафродитическими вариантами. Если раньше налагали запрет на те или иные сексуальные действия, сексуальные сцены в театре или кино, то сейчас происходит более эффективное изгнание телесного посредством символов секса, изгнание желания посредством его преувеличенных демонстраций.
Смерть также стала симулякром. Ничто, даже Бог, считал Бодрийяр, не исчезает более, достигнув своего конца или смерти; исчезновение происходит в виде размножения, заражения, насыщения и прозрачности, изнурения и истребления, из-за эпидемии притворства, перехода во вторичное, притворное существование. Нет больше фатальной формы исчезновения, есть лишь частичный распад как форма рассеяния. «Нет ни одного действия, которое не стремилось бы к совершенству в виртуальной вечности – не в той, что длится после смерти, но в вечности эфемерной, созданной ветвлениями машинной памяти. Виртуальное принуждение состоит в принуждении к потенциальному существованию на всех экранах и внутри всех программ; оно становится магическим требованием. Это – помутнение разума черного ящика»[142]142
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 84.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.