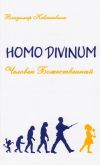Текст книги "Человек в трех измерениях"

Автор книги: Валерий Губин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Христианство, будучи поклонением Богу, есть одновременно религия Богочеловека и Богочеловечности, и оно является религией любви, ибо открывает в столь простом естественном чувстве, как любовь, великое универсальное начало, норму, идеал и цель жизни. После распространения христианства мечта о реальном осуществлении всеобщего царства братской любви не может уже исчезнуть. Человек, утверждал Франк, часто попадает на ложные пути в стремлении установить это царство, чаще всего видит этот путь через принудительный порядок, но любовь может – вплоть до просветления мирового бытия – лишь несовершенно и частично реализовываться в мире, оставаться лишь путеводной звездой. И тем не менее, если душа узнала, что любовь есть оздоровляющая, благодатствующая сила Божия, "никакое глумление слепцов, безумцев и преступников, никакая холодная жизненная мудрость, никакие приманки ложных идеалов – идолов – не могут поколебать ее, истребить это знание спасительной истины"[355]355
Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 325.
[Закрыть].
Удивительные строчки посвятил Ф. Ницше Богу, представляющего собой всецело любовь: «Возможно, – писал Ницше, – что под священной легендой и покровом жизни Иисуса скрывается один из самых болезненных случаев мученичества от знания, что такое любовь: мученичество невиннейшего и глубоко страстного сердца, которое не могло удовлетвориться никакой людской любовью, которое жаждало любви, жаждало быть любимым и ничем, кроме этого, жаждало упорно, безумно, с ужасающими вспышками негодования на тех, которые отказывали ему в любви; быть может, это история бедного не насытившегося любовью и ненасытного в любви человека, который должен был изобрести ад, чтобы послать туда тех, кто не хотел его любить, – и который, наконец, познав людскую любовь, должен был изобрести Бога, представляющего собой всецело любовь, способного любить, – который испытывал жалость к людской любви, видя как она скудна и слепа!»[356]356
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1990. С. 393–394.
[Закрыть].
3. Для сверхчеловека любовь не только конституирует человека как личность, но и является средством более глубокого, а потому и более точного открытия реальности. Она есть любовь ко всем людям во всей их конкретности и единичности каждого. «Такая любовь объемлет не только всех, но и все во всех. Признавая ценность всего конкретно-сущего она объемлет всю полноту многообразия людей, народов, культур, исповеданий, и в каждом из них – всю полноту их конкретного содержания. Любовь есть радостное приятие и благословение всего живого и сущего, та открытость души, которая открывает свои объятия всякому проявлению бытия, как такового, ощущает его божественный смысл»[357]357
Франк С.Л. С нами Бог. С. 322.
[Закрыть].
Гете, например, говорил, что ему претят всякие узкопрофессиональные занятия. Он во всем старался оставаться «любителем», ибо «любитель» – от слова «любить», а узкий профессионал не любитель, и потому от него, как правило, бывает скрыта исконная цель его профессии. Это же имел в виду А.Ф. Лосев, комментируя Платона: «Любящий всегда гениален, так как открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего… Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, в искусстве, в общественно-политической деятельности всегда есть любящий, только ему открыты новые идеи, которые он хочет воплотить в жизнь и которые чужды нелюбящему»[358]358
Лосев А.Ф. Вступительная статья к первому тому сочинений Платона. Т. 1 // Платон. Соч. М., 1968. С. 70.
[Закрыть]. Только в состоянии любви возможна встреча со внутренним существованием мира. «Мысль разума», которой дана лишь внешняя предметность, всегда должна сопровождаться «мыслью сердца». «Сердце» не есть некая отдельная инстанция, противоположная разуму, а целостность внутреннего бытия, одним из излучений которого может быть и разум. Сердце противостоит лишь отрешенному, оторванному от этой целостности разуму. То, что не дано сердцем, вообще не дано в точном смысле слова, не затрагивает человека и в конечном счете делает невозможным объективное познание. Отношение к окружающему через «мысль сердца» есть отношение любви. М. Хайдеггер также считал мысль сердца основанием рассудочной мысли. Мысль (Denken) восходит, по Хайдеггеру, к древнегерманскому слову «Gedanc», что означает «душа, сердце». «Внутренние и невидимые сферы сердца являются не только более внутренним, чем внутреннее рассчитывающего представления, и потому более невидимым, но оно одновременно простирается дальше, чем область только изготовляемых предметов. Только в невидимой глубине сердца человек расположен к тому, что является любимым, – к предкам, умершим, детству, грядущему»[359]359
Heidegger M. Holzwege. Frankfurt-M., 1963. S. 282.
[Закрыть].
Любовь как стихия преобразует для нас весь окружающий мир. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1Кор 13:1–8). Мы бы добавили к словам Августина, что любовь всё и всех спасает – и людей, и весь окружающий мир. Так, покоряя природу, мы разрушаем себя, лишаясь чувства красоты, любви, сострадания, которые являются главными составляющими нашей разумности. А природу, писал французский эколог Ж. Дорст, нужно охранять не только потому, что она лучшая защитница человека, но и потому, что она прекрасна. Еще не было человека, а мир уже блистал во всем своем великолепии. Человек, если бы он постарался, мог бы десять раз повторить Парфенон, но ему никогда не воссоздать животных, прошедших уже миллионы лет в своем развитии по причудливому кругу. «У человека вполне достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохранению дикой природы. Но в конечном счете природу может спасти только его любовь. Природа будет ограждена от опасности только в том случае, если человек хоть немного полюбит ее просто потому, что она прекрасна, и потому, что он не может жить без красоты, какова бы ни была та форма, к которой он по своей культуре и интеллектуальному складу наиболее восприимчив»[360]360
Дорст Ж. До того как умрет природа. М., 2013. С. 405.
[Закрыть].
Сверхчеловек и смерть
Сверхчеловек – это человек, победивший смерть. Не метафорически, а буквально. Многие давно умершие люди для нас представляются гораздо более живыми, чем наши живущие современники. Читая их произведения, мы волнуемся, плачем, восторгаемся, мы сами живем и ощущаем свою жизнь в эти мгновения. Есть А.С. Пушкин – человека такого нет, а поэт есть. «Нет, весь я не умру!..» И есть вполне реально, в то время как об очень многих пишущих сегодня стихи можно сказать: человек есть, а поэта нет. Но поскольку поэзия должна составлять сущность их бытия и они к этому стремятся, а стремление ничем серьезным не заканчивается, то можно утверждать, что и человека нет.
В.И. Ленин, например, продолжает жить. Его могучая энергия остается в России и будет оставаться, пока остается презрение власти к народу, к интеллигенции, пока жива вера в некий избранный путь России, в построение земного рая, в то, что великая цель оправдывает любые средства. Ленин остается «вечно живым», и чем более он живой, тем более мы, все остальные, – мертвые.
Жизнь человека – не точка в развитии поколения или государства, не полено, которое должно сгореть в общем костре, освещая путь идущим следом, и не ступень в развитии и становлении мирового духа, который тем самым дарит мне единственно возможное бессмертие.
Ницше, говоря о монументальной истории, описывает великих исторических деятелей и их отношение к смерти. Они, «оглядываясь на прошлое величие и подкрепленные созерцанием его, испытывают такое блаженство, словно человеческая жизнь – великолепное дело, а самым прекрасным плодом этого горького растения является сознание, что некогда люди, совершая круг своего существования, кто – гордо и мощно, кто – глубокомысленно, кто – полный сострадания и готовности помочь другим, – все завещали потомству одно учение: наиболее прекрасна жизнь того, кто не печется о ней. Тогда как обыкновенный человек относится к отведенному ему сроку существования с глубочайшей серьезностью и страстностью, те, о которых мы только что говорили, сумели, напротив, подняться в своем шествии к бессмертию и монументальной истории до олимпийского смеха или, по крайней мере, до снисходительного презрения; они нередко сходили в могилу с иронической улыбкой, ибо, в самом деле, что могло быть в них похоронено! Разве только то, что всегда угнетало их, как нечистый нарост тщеславия и животных инстинктов, и что осуждено теперь на забвение, будучи уже давно заклеймено их собственным презрением. Но одно будет жить – это монограмма их сокровеннейшего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их вдохновения, их творения; это будет жить, ибо ни одно из позднейших поколений не может обойтись без него»[361]361
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 170.
[Закрыть].
Мы не можем обойтись без Шекспира или Гёте, без Ньютона или Платона, их мысли и прозрения органичной частью входят в наш мир, и монограмма их сокровеннейшего существа продолжает жить в каждом из нас. Мир был бы совершенно другим, если бы их не было. У каждого человека есть такое дело, которое, кроме него, никто не сделает. Это дело может быть любым: от открытия новых физических законов до вбивания гвоздя. «Вбивать гвоздь, – писал Г. Торо, – надо так прочно, чтобы, и проснувшись среди ночи, можно было думать о своей работе с удовольствием, чтобы не стыдно было за работой взывать к Музе. Тогда и только тогда Бог тебе поможет. Каждый вбитый гвоздь должен быть заклепкой в машине Вселенной, и в этом должна быть и твоя доля»[362]362
Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1979. С. 120.
[Закрыть].
Вся проблема в том, чтобы найти такое дело, найти такое место, встав на которое человек займет свою уникальную, неповторимую позицию. Надо «втиснуться» в этот застывший, слипшийся мир, где все места уже заняты, раздвинуть его глыбы. Если я не пытаюсь найти свое место, значит, я занимаю чужое, я повторяю уже известные мысли и делаю дела, которые могут делать многие. И тогда я не отвечаю своему человеческому назначению, потому что человеческое назначение заключается в том, чтобы оставить свой след на земле, свою «заклепку в машине Вселенной».
Ведь все мысли, все идеи и все дела были когда-то кем-то впервые высказаны, впервые сделаны. И эти, впервые сделавшие или выдумавшие, принимали участие в творении мира – благодаря им мир продолжается. Но если человек не будет продолжать его существование своим оригинальным незаменимым делом, своей собственной незаменимой позицией, мир ведь может кончиться. Если все будут повторять чужие дела и чужие мысли, не тратя собственного сердца, собственной крови, не пытаясь участвовать в творении мира, то он рухнет.
По большому счету найти такое дело, которое лучше тебя никто не сделает, и означает стать сверхчеловеком. Очень мало кому удается это сделать, в основном люди повторяют чужие дела и мысли. Но даже если человеку и не удается найти свое место и дело, его жизнь, пусть внешне незаметная и неинтересная, все равно может быть достойной, если человек проживает ее как свою жизнь, никого не копируя, ничему не подражая, а просто живет самобытно, живет, как сказал бы М. Хайдеггер, в стихии своей четырехугольности, живет поэтически: сохраняя для себя землю, небо, божественное и смертное. Живущие таким образом развертывают себя четырехкратно – в спасении земли, в восприятии неба, в провожании смертного и в ожидании божественного. Такой человек все равно победил смерть.
Человек, будучи конечным существом, отличается от всех животных тем, что прилагает к своей конечности масштаб безусловного и бесконечного. Многие, бравшие на себя бесконечные задачи, остались жить в вечности в прямом смысле этого слова. Сократ, или Эпикур, или Ницше, или Пушкин гораздо более живые, чем многие ныне здравствующие наши современники. К любому из них можно отнести слова Владимира Соловьева:
Средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог,
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог.
Естественный человек существует всегда, во все времена и большом количестве. Искусственный, как и подобает всякому произведению искусства, – единичный, неповторимый продукт. Его черты проступают только в некоторых людях и не как нечто постоянное, а лишь временами, через большие усилия. Искусственный человек словно бы вложен, как зародыш, в естественного человека. Там, где он раскрывается в наибольшей мере, там, где человек пытается жить по законам любви, добра, красоты, там он быстро приближается к собственной гибели, потому что искусственный человек есть только переход к сверхчеловеку. Только возникнув, он начинает исчезать. Искусственный человек ясно представляет себе собственную конечность: то, что он может существовать только через распадение планов организации жизни, через рассеивание языков, через несходство способов производства, и то, что рано или поздно на смену такому человеку придет совершенно новая форма. «Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, – это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII века почва классического мышления, тогда – можно поручиться – человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[363]363
Фуко М. Слова и вещи. С. 404.
[Закрыть].
Искусственный человек может существовать, мучась своим несовершенством, страдая от одиночества, от безнадежных поисков родины, понимая, что в его жизни по большому счету ничего не получается и никогда не получится, потому что его жизнь гораздо сложней всех способов организации людей, всех приемов и методов обустройства жизни и достижения счастья. Его единственная страсть и стремление, которым в полной мере соответствует его природа, – стать сверхчеловеком. Не просто творить культуру, а изменять бытие. Стать Пигмалионом, вдохнувшим жизнь в создание своих рук, написать такую музыку, слушая которую люди станут добрее и умнее. Мечта о возможности подобного творчества завершается или в технической объективации, или в эстетическом безумии, но не перестает тревожить душу человека. Часто то, что нашептывают нам наши музы о выходе путем личных усилий за пределы этого мира, оказывается только соблазном, но тем не менее размышления о нем, пусть и неосуществимые, помогают появлению в нас нового сознания, нового понимания сути человеческого творчества. Без подобного теургического устремления остается непонятной богоподобная природа человека. Стремиться к сверхчеловеческому – самое естественное желание в искусственном человеке. В таком смысле надо понимать фразу Ницше, что сверхчеловек – это не далекая, фантастическая цель, а причина человека. Наше воскрешение ничуть не менее вероятно, чем наше появление на свет. Точно такой же степенью вероятности является преображение человека в сверхчеловека. «Сверхчеловек, – писал Делёз, – это нечто гораздо меньшее, чем исчезновение существующих людей, и нечто гораздо большее, чем изменение понятия: это пришествие новой формы, не Бога и не человека, и можно надеяться, что она будет не хуже двух предыдущих»[364]364
Делёз Ж. Фуко. М., 1998. С. 171.
[Закрыть].
Заключение
Во введении мы писали о том, что идеальным человеком был бы такой индивид, в котором все три ипостаси органически соединены, сплавлены в целое. Конечно, самым близким к такому идеальному человеку является сверхчеловек. Ему в наибольшей степени удается сохранить в себе положительные черты и естественного, и искусственного человека. Но к сверхчеловеку – величайшему исключению в человеческой истории – относятся в полной мере только те индивиды, основной чертой которых является духовность, последняя побеждает звериное, телесное начало, преображая человека. Но в то же время это начало именно в сверхчеловеке может вырваться наружу, неся хаос, разрушение и гибель как самому человеку, так и окружающим. Это относится не только к великим политическим деятелям, для которых индивидуальная жизнь простого человека ничего не значит и которые посылали миллионы на смерть во имя своих честолюбивых замыслов, но и к великим художникам, чье творчество давалось им ценой великих страданий, сомнений и разочарований, вызывало злобу, зависть, будило беспочвенные надежды у других людей, толкало на самоубийство. Сверхчеловеческое в простых смертных, будучи гиперболизировано, выпячено – а так чаще всего и бывает с той толикой таланта, фантазии, крохами гениальных предчувствий, отпущенных нам Богом, – является скорее негативным моментом их бытия[365]365
«…Забывают, что эти великие люди – поразительные исключения, в своей подлинности большей частью изначально связаны с разрушительным духовным заболеванием. Действительное присутствие в них мифа производит необыкновенное
[Закрыть]. Сколько загубленных жизней, сколько страшных разочарований у тех, кого поманил невнятный свет скромной одаренности, но которым нужно было приложить огромный труд, чтобы хоть чего-нибудь достичь на этом пути. Чаще всего сил на такой труд не хватает. Они есть только у сверхчеловека.
Но и ему тоже многого не хватает: свободы искусственного человека (потому что сверхчеловек абсолютно не свободен – политический деятель зависит от своего окружения, художник – от своего духа, который поедает его заживо, требуя постоянного самовыражения), не хватает субъективности искусственного человека, его способности отказаться от всего на свете, чтобы спасти собственную душу. Сверхчеловеку не хватает простого, незатейливого счастья человека естественного.
Возможно, что счастье и составляет главную цель человеческого существования, сколько бы ни рассуждали мудрые люди о том, что счастья нет, а есть покой и воля, о том, что если человек знает, зачем он живет, то ему все равно, как он живет. Правда, единственно возможный вид счастья – это жизнь в согласии с самим собой, без страха, без напрасных надежд и мечтаний, в спокойном и ясном видении проблем и невзгод. Счастье – это внутренняя умиротворенность, когда вместо страха и забот жизнь проникнута пониманием святости каждой прожитой минуты, святости и красоты окружающего мира, которые отражаются в душе человека. И достичь такого состояния может только тот, в ком все три стороны, три измерения его существования гармонично взаимосвязаны.
Но для этого нужен еще один ингредиент, еще одна крупица, в результате добавления которой может произойти, на наш взгляд, необходимый синтез. Такой крупицей является вера и необходимо связанная с ней кротость. Вера в то, что мы можем жить как люди, несмотря на животную злобу, насилие, лень, инертность. Вера в то, что человек есть образ и подобие Божие, и это не красивая метафора, ибо действительно в каждом человеке есть хотя бы крохотная искорка божественного, которую можно раздуть в пламя, придающее жизни обыкновенного обывателя некоторую долю святости, а иногда и преображающее его в святого.
Святой – не сверхчеловек, его отличает от остальных людей не гениальность, не острота ума, не могучая биологическая энергия, его отличает кротость. Слова «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» имеют совершенно особую выразительность. Кротость – нечто совсем иное, чем простая уступчивость по душевной слабости, по неспособности упорствовать и бороться там, где это нужно. Кротость есть нравственное состояние души, в котором любовное отношение к другим и отказ от самоутверждения образуют нераздельное единство. Кротость есть надмирность, отрешенность (в смысле Мейстера Экхарта) от мира, вместе с тем любовно обращенная на мир, сочетание радости обладания «сокровищем на небесах» с благословенным приятием всего земного бытия. Кротость – это прямая противоположность той земной установке души, когда самоутверждение предполагает борьбу с врагами и соперниками и отстаивание своих прав и интересов. Житейская мудрость говорит, что успех обеспечен только борющимся, сильным, а кротость – это вызов земной мудрости. Кроткие, а не гордые, хищные и жестокие наследуют землю. Конечно, считал Франк, это невероятно с точки зрения земной мудрости, но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. «Эта правда говорит нам, что добро, самоотречение, бескорыстная самоотверженная любовь в конечном итоге – в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия – есть, вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила»[366]366
Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 338.
[Закрыть].
В конце концов, только кроткие люди могут вырвать человечество из замкнутого круга беспрерывного, нескончаемого насилия, который называется человеческой историей, поскольку прогресс возможен только в одном: в человеческих отношениях, в любви. А все остальное – совершенствование интеллекта, создание могучих машин, развитие внешней культуры, даже написание гениальных художественных произведений не избавляет от насилия и не уменьшает его. Кроткие люди – великая сила. Только они находятся на дороге к святости, только в их деяниях творится настоящая история, которая идет «неслышной походкой голубя», несмотря на весь шум и грохот истории внешней.
В кротком человеке природность, острота ума, способность к творчеству слиты воедино. Его невозможно представить себе только как естественного или только как искусственного человека.
Такого кроткого человека, рыцаря веры пробовал описать С. Кьеркегор. «В тот самый момент, когда он попадается мне на глаза, я тотчас же отталкиваю его, сам отступаю назад и вполголоса восклицаю: “Боже мой, неужели это тот человек, неужели действительно он? Он выглядит совсем как сборщик налогов”. Между тем это и в самом деле он. Я подхожу к нему поближе, подмечаю малейшее его движение: не обнаружится ли хоть небольшое, оборванное сообщение, переданное по зеркальному телеграфу из бесконечности, – взгляд, выражение лица, жест, печаль, улыбка, выдающие бесконечное по его несообразности с конечным. Ничего нет! Я осматриваю его с головы до ног: нет ли тут какого-нибудь разрыва, сквозь который выглядывает бесконечное? Ничего нет! Он полностью целен и тверд… Ничего нельзя обнаружить здесь от той чуждой и благородной сущности, что отличает рыцаря бесконечности. Он радуется всему, во всем принимает участие, и всякий раз, когда видишь его участником этих единичных событий, он делает это с усердием, отличающим земного человека, душа которого тесно связана со всем этим. Он занимается своим делом. И когда видишь его за работой, можно подумать, что он – тот писака, душа которого полностью поглощена итальянской бухгалтерией, настолько он точен в мелочах. Он берет выходной по воскресеньям. Он идет в церковь. Никакой небесный взгляд, ни один знак несоизмеримости не выдает его; и если его не знаешь, совершенно невозможно выделить его из общей массы; ибо его мощное, нормальное пение псалмов в лучшем случае доказывает, что у него хорошие легкие. После обеда он идет в лес. Он радуется всему, что видит: толпам людей, новым омнибусам… Встретив его … вы решите, что это лавочник, который вырвался на волю, настолько он радуется; ибо он никакой не поэт, и я напрасно пытался бы вырвать у него тайну поэтической несоизмеримости… Он спокойно сидит у раскрытого окна и смотрит на площадь, у которой живет, и все, что происходит там перед его глазами, – будь то крыса, поскользнувшаяся на деревянных мостках, играющие дети – все занимает его, наполняя покоем в этом наличном существовании, как будто он какая-нибудь шестнадцатилетняя девушка. И все же он никакой не гений; ибо я напрасно пытался заметить в нем несоизмеримость гения. В вечерние часы он курит свою трубку; когда видишь его таким, можно было бы поклясться, что это торговец сыром из дома напротив, который отдыхает тут в полумраке. Он смотрит на все сквозь пальцы с такой беззаботностью, как будто он всего лишь легкомысленный бездельник, и, однако же, он покупает каждое мгновение своей жизни по самой дорогой цене, “дорожа временем, потому что дни лукавы”… Этот человек осуществил движение бесконечности и продолжает осуществлять его в каждое следующее мгновение. Он опустошает глубокую печаль наличного существования, переливая ее в свое бесконечное самоотречение, ему ведомо блаженство бесконечного, он испытал боль отказа от всего, отказа от самого любимого, что бывает только у человека в этом мире; и все же конечное для него так же хорошо на вкус, как и для того, кто не знает ничего более высокого, ибо его продолжающееся пребывание в конечном не являет никакого следа вымученной, полной страха дрессуры, и все же он обладает той надежной уверенностью, которая помогает ему радоваться конечному, как если бы оно было самым надежным из всего»[367]367
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 39–40.
[Закрыть].
В этом бесконечном самоотречении заложены мир и покой и утешение в боли, это последняя стадия, непосредственно предшествующая вере. Может быть, это самое главное в человеке: опустошить глубокую печаль наличного существования, в котором каждый день похож на другой, и они быстро сменяют друг друга, как правило, не задевая ни души, ни сердца, и единственным грустным резюме такой жизни являются слова «всё проходит». Только вера и вырывает нас из этой печали, когда человек вырабатывает в себе твердое убеждение, что есть некий смысл в его существовании.
Если естественный человек просто не задумывается об этом, не обращает внимания на собственное существование, то для человека искусственного и сверхъестественного жизнь полна мучений и страданий. Искусственный человек понимает, что в его жизни ничто не получается, рушатся все планы и попытки обустроиться, он ищет свою родину, которую невозможно найти в этой жизни, до самого конца надеется найти и осуществить своей жизнью тот или иной идеал. Человек сверхъестественный тоже заранее знает о невозможности достижения какого-либо идеала, о тщете всех идеалов, страдает от непонимания современников, от незнания того, действительно ли то, что он делает, имеет смысл и значение, действительно ли он слышит голос Божий, или это только иллюзия, в крайнем случае дьявольское наваждение. «…Всегда останется нечто, – размышлял над этой проблемой Ф.М. Достоевский, – что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи»[368]368
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1973. Т. 8. С. 328.
[Закрыть].
Чего-то самого главного не хватает в жизни человека искусственного и сверхъестественного, некоторая онтологическая ущербность умаляет их существование. Искусственный человек стремится стать богом, стать «бытием в себе и для себя», обрести бессмертие, т. е. стремится к чистому существованию, стремится освободиться от сущего: от своего тела (болезни, старости, смерти), от мира, в котором никогда не воплощаются в действительность никакие идеи и мечтания, от общества, в котором невозможна полная свобода, от других людей, поскольку невозможно постоянное пребывание в состоянии любви или доброты. В таком смысле Ж.П. Сартр говорил, что человек – это бесполезная страсть.
Сверхчеловек тоже стремится стать богом, не просто творить культуру, но творить бытие. Фактом такого стремления является странная и очень заманчивая идея теургии. Теургическая концепция искусства – это мечта о том, что искусство сможет рано или поздно стать реальной силой, преображающей мир. До сих пор искусство творило идеальное, а не реальное бытие. Но оно, особенно в современных формах и направлениях, ищет конечного, последнего, предельного, в новом искусстве творчество перерастает себя, стремится преобразовать не только культуру, но и бытие. Уже и сейчас искусство обладает такими потенциями, которые делают его одной из важнейших, а может быть, и самой важной сферой человеческой деятельности. В. Соловьев считал это задачей искусства, кажущейся немыслимой и парадоксальной. «Задача искусства в полноте своей, как свободной теургии, состоит, по моему определению, в том, чтобы пересоздать существующую действительность, на место данных внешних отношений между божественным, человеческим и природным элементами установить в общем и частностях, во всем и каждом, внутренние, органические отношения этих трех начал. Уже и в таком общем, отвлеченном выражении задача эта не только отличается от общепризнанных задач искусства, но частию прямо противоположна им, частию же не имеет с ними ничего общего»[369]369
Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 744.
[Закрыть].
Конечно, только в русском духе, в русской философии могла зародиться такая странная и на первый взгляд даже безумная идея – идея теургии, изменения мира под влиянием искусства[370]370
Об этом убедительно писал Е.Н. Трубецкой, отмечая, что контраст между преображенной и непреображенной действительностью есть в любой стране, но в странах, где господствует европейская цивилизация, он так или иначе «замазан культурой» и потому менее заметен для поверхностного наблюдателя. Там черт ходит «при шпаге и в шляпе», как Мефистофель, а у нас он совершенно откровенно показывает хвост и копыта. Во всех странах, где есть относительный порядок, сатанинские силы сдерживаются культурой, а в России им суждено веками бесноваться на просторе. Но чем сильнее хаос, тем сильнее потребность подняться в высшую сферу, уйти от этой погрязшей в грехе действительности в мир вечной красоты. В России как отсталой стране всегда ярко светил идеал всеобщего преображения (Трубецкой Е.Н. Свет Фаворский и преображение ума // Флоренский П.А. Pro et contra. СПб., 1996. С. 287).
[Закрыть].
Вяч. Иванов считал, что в современной культуре задача изменения бытия кажется совершенно невыполнимой. В самом деле, «как может человек способствовать своим творчеством вселенскому преображению? Населит ли он землю созданиями рук своих? Наполнит ли воздух своими гармониями? Заставит ли реки течь в предначертанных им берегах и ветви деревьев простираться по пред-указанному плану? Напечатлеет ли свой идеал на лице земли и свой замысел на формах жизни? Будет ли художник-теург – художник-тиран, о каком мечтал Ницше, художник-поработитель, который переоценит все ценности эстетические и разобьет старые скрижали красоты, последовав единственно своей “воле к могуществу”?.. Или такой художник, который “трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит”?»[371]371
Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // Родное и вселенское. М., 1994. С. 144.
[Закрыть]
Человек хотел бы совершить теургический акт, но совершает только акт символический. В самой материи, в веществе больше святости, больше искусства, чем в человеческом духе. Само вещество не символически, не условно, но прямо и на деле следует за духом по его тайным путям. А человек лишь символически оживляет в произведениях искусства эту видимую для глаза и звучащую для уха плоть. Все произведения искусства – только символы иной реальности; иконы, изображающие богов, – это только кумиры, а люди забывают это и поклоняются им, как идолам. Всякое произведение искусства в этом смысле несовершенно, и, как бы оно ни было прекрасно, душа мира страдает от незавершенности, «тоскует мрамор в статуе», любое вещество требует от художника других и больших усилий для своего освобождения.
С древнейших времен истинные художники, по Иванову, терзаются темными воспоминаниями о том, что когда-то, в золотом веке искусств, звучали лиры, которым повиновались деревья и звери, волны и скалы, а изваяния искусных рук жили и не старились. Микеланджело казалось, что его создания действительно живые и только притворяются камнями. Художника все время тревожит и томит желание перейти за грань этой реальности, туда, где начинается чудо. Перейти невозможно еще и потому, что это безумный шаг. И тем не менее художнику трудно отказаться от своего безумия и поверить в то, что его дело – только преобразование форм. Доказательством наличия этого постоянного теургического томления является вечно живущий миф об оживлении Афродиты Адонисом, который потом трансформировался в быль о ваятеле Пигмалионе, оживившем свою статую, причем изваянная им возлюбленная носит имя морской нимфы, одной из прислужниц Афродиты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.