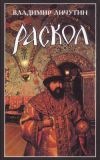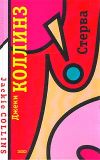Текст книги "Миледи Ротман"

Автор книги: Владимир Личутин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Глава тринадцатая
Ротман шел на работу и, оскальзываясь на покатях мартовской дороги, клял собачью жизнь. Небо взялось голубенью, снега сахарно искрились, а хотелось по-собачьи выть. Все обрушилось, и мечты, как репьи, в один день унесло ветром. Мир, такой устойчивый и надежный прежде, вдруг рухнул на четыре кости и, поскуливая, стремительно покатился вниз в пропасть, уже и не чая зацепиться за мерзлый склон хотя бы одним ноготком. И без того-то крохотные производства, кое-как державшиеся на ужищах и подпорках государства, словно колхозные коровы по веснам, вдруг разом приказали долго жить, а слободские мужики лишились постоянной работы. В унынии, не зная, на что и подумать, словно бы отыскивая обидчика, обвели они взглядом окрест и, не найдя виноватого, принялись пить горькую, подгоняя друг дружку, чтобы сыграть в ящик заодно; и даже вот мостки и подворье перестали огребать, позабыли лопату и пешню, без чего ни один дом на северах не стоит, и вот по этим-то горбам и увалам, по катыхам и надраенным валенками раскатам и пытал судьбу редкий народец в поисках хлеба насущного. Только Саша Баграмян процветал в своем фанерном «шопе», откармливая «собачьей радостью» и «кити-кэт» особенно привередливых, кто спешил в иные миры. Да вот Вася Лампеин загребал, по слухам, огромные деньжищи, открыв при своей гробовой артели «В мир иной» столярку и похоронный магазин «Чудо». Счастливчик торопился «в новых условиях демократии» снять пенку, потому что городок невелик и скоро вовсе изредится при таких темпах и испротухнет на своих же костях.
Вчера Ротману достался случайно сюжет из простонародной жизни «под Писемского». Молодая женка просилась слезно на автобус, чтобы ее отвезли с больным ребенком за реку в рабочий поселок. Шофер отказался, и тогда она на задах «шопа» добыла картонную коробку из-под папирос, положила девочку и потянула радость свою неиссякновенную через ледяные заторы в больницу. Поздно вечером она попала к врачу, но дочь уже была мертва…
«Скоты, ах, скоты, – бормотал Ротман, в очередной раз едва устояв на ногах и ошалело мотая головою, будто в загривок впилось осатаневшее оводье. Эту историю он сразу пристегнул к своей беде, и она получила особенно жуткий окрас. – Эти воши, эти гниды обманули всех. Мордастый гайдаришко проглотил мои деньжонки и эту вот несчастную девочку. Циники, они сожрали наши кровные, пропустили сквозь гнилой желудок, и ни одна скотина не поперхнулась, не подавилась. Змеи подколодные. Нужна на вас варфоломеевская ночь, собаки. Чтобы, как перепелов, нанизать на один шампур».
Благо дорога до редакции короткая, то пыл Ротмана скоро иссяк, иначе бы он взорвался от смертельной обиды. Обивая о ступеньку крыльца ботинки, Иван рассудительно подумал: «Настоящее – это бабочка-однодневка. Оно рождается из будущего и стремительно перетекает в прошлое. И если нет настоящего, то стоит ли так из-за него страдать? И что скулить, обижаясь на день нынешний? И он схлынет, как вешняя вода, оставив мусор и грязь».
«Но в этой грязи и мусоре предстоит жить тебе!»
«А я не стану так жить. Я смахну пыль с ушей, чтобы не надули в очередной раз, или сбегу в землю обетованную от этого разгильдяйского народа. Блаженные! Их извозили в дегте, изваляли в перьях, с позором провели для глума по всем площадям мира, а они еще токуют, как глухари: „Лимит на революции исчерпан. Новой революции нам не выдержать“. Ну и прейте под бревном до полного изнеможения костей».
Дней десять назад Ротман был у друга Фридмана. Устроили парламентские слушания по вопросу: как жить дальше и стоит ли вообще жить. Григорий Семенович решил, что жить можно и даже хорошо жить, и вдруг подсказал, слегка заикаясь: «Слушай, Ваня, не мне тебя учить, но вот мой дружеский совет. Бери под себя газету, и тогда можно стричь купоны. Конечно, дрянь листок, больших бабок не выжмешь, но!.. Будешь подыгрывать чьим-то интересам, как ведется на Западе испокон веку, а там и копейка побежит. Возьми в союзники бухгалтера и кассира, а закадычных друзей по перу прижми деньгой. Или гони вон. Устрой им проверку на вшивость. Ступай, мой друг! А я тебе помогу, чем смогу. Да поторопись, время – деньги! Кто смел, тот и съел. Смелость города берет».
Легко сказать: бери под себя газету. Близок локоток, да не укусишь; вкусен задок, да не укупишь. Тьфу, двусмысленно и пошло получилось…
Неделя, которую положил на дело друг Фридман, прошла, а Иван никак не мог подступиться к замышленному: интриги, подкопы, свары, дележ власти – в общем, тот еще сволочизм, в котором Ротман не поднаторел, хотя и живывал в столице. Да еще совесть мешала, как гвоздь в сапоге, и стыд заедал. Все мнились укоризны и людской оговор. Де, беден, да честен, а тут залезла блоха не в свою шерсть. И Бог вот подсказки не дает, сумеречней день ото дня его образ, угрозливы сдвинутые брови, испытующи очи, горек изгиб губ. В каждую ночь, молясь, подливал маслица в лампадку, чтобы разглядеть обнадеживающие перемены в лике, но Спаситель не мягчел…
Народец в редакции, будто собачья свора, только и ждал Ротмана, чтобы ополчиться. Удивительно, но будто внезапным ветром беды их согнало в один гурт, чтобы волею редактора в этих стенах связаться в один тугой веник.
– А… Явился не запылился! – язвительно, с каким-то торжествующим металлом в голосе возгласил на всю газетную обитель благородный Валя Уткин. – Витязь без тигровой шкуры, только что тебя поминали.
– А я живой… Рано меня поминать, – буркнул Ротман. – По какому случаю? Иль грозу ждете по весне и внезапный ливень? Боитесь, что смоет вас, как безмозглых кутят. Ты-то, Кроха, о чем думаешь?
– Не Кроха, а Кроха, – обидчиво поправил редактор газеты. Он был ростом метр с кепкой, но вырублен из пня, с моржовыми усами и породистым носом. На него постоянно заглядывались женщины бальзаковского возраста, чем Анатолий очень гордился; он рылся в бабах, как в щепе, и однажды обжегшись на воде, дул на воду. Жил он во дворе редакции во флигельке и своей постоянной неряшливостью в одежде, лохматой головою походил на побитый дождем сноп из суслона. – Ты вот материалы не сдаешь, а газета чахнет. Ты не отвечаешь духу обстановки и живешь для себя.
– Какой дух, какой? – взвился Ротман, не глядя в глаза собратьям по несчастью. – Деньги собачьи пошли, накрутили баранок, ничего на них не укупишь…
Но Валя Уткин, знаток бабьей психологии, следил внимательно за перепалкою; он боялся, что верх останется за Ротманом, а тогда легко станет рассеять боевые засадные полки, которые сейчас мирно зевали за соседним столом: девка-практикантка в шальварах, рожа – заревом, глаза лупастые, ну, дура дурой, и одутловатый производственник в очках, с кудерьками на постоянно потном от вселенских дум челе.
– Будто не знаешь, строишь из себя дурилку, – строго поправил Уткин и взбил гребнем на голове пышную седину, отливающую бусым пеплом. Значит, скоро кранты сердцееду; скоро волосы тронет зелень, а значит, вся мужская сила схлынет в простатит и ржавую зыбь в мозгах. Но пока время было: Уткина ждал переходный возраст из снежно-белого в мучнисто-желтый, когда шерсть на висках словно бы посыплет никотином.
– А что я должен знать? – недоуменно развел руками Ротман, лихорадочно соображая, за что взъелись на горемычного друзьяки и собутыльники, с кем не одну тарелку щей выхлебал в общепитовской столовке.
– Раньше правили большевики, дрын им в могилку, а нынче заправляют коммунисты и энкеведисты. Скоро всех ждут коммуны и кибуцы. Это на выбор. Надо писать о моменте, а ты про кастрацию и пальпацию.
Уткин захихикал, лазоревые глазки занялись безумным языческим огнем, от которого можно было прикуривать. Задавливая переливистый смех, заглушая иронию, уже на полном серьезе спросил:
– Мы все знаем, что ты вроде бы еврей, хотя был вроде бы не еврей. Когда обрезали, больно было?
– Евреи тоже люди…
– Но ты скажи, больно было? – не отступался Уткин. – А это ведь серьезно. Отчекрыжили кусочек кожицы – и ступай в кибуцы. – При этих откровениях лупастая практикантка взялась огнем до самых корней волос, но она не отвернулась к окну, за которым жила синь небесная, а с каким-то сладострастным любопытством уставилась на смуглое чеканное лицо Ротмана, уже влюбляясь в него. Нине Палкиной тоже хотелось принца за морями, а ее вот обхаживал кучерявый тщедушный производственник. – Ты, наверное, Розанова читал? Он знаток был. Он писал, что, обрезаясь, евреи как бы принимают печать от Бога на крайний уд свой и тем дают обет плодоношения и жертвенности кусочком крайней плоти. Они как бы присягают идти бесконечным, однажды избранным путем: де, я твой, и бери меня с собою без остатка, лишь не оставляй в одиночестве в этом безжалостном мире.
– Так он же не еврей, братцы. Он просто Ванька Жуков, – вроде бы простодушно пискнул редактор. – Я же у его матери учился…
– Вот она истина, изреченная мудрым руководством, – назидательно поднял палец коварный Валя Уткин. – А я уж было испугался. И неуж, думаю, все евреи такие, как наш Ваня Ротман? Тогда я, пожалуй, антисемит. Я Фридмана знаю: это совсем хороший человек. Наверное, Ваня и есть главный антисемит. Он перевербовался туда из ненависти к нам. А кто не любит свой народ, тот не любит никого. Он пошел туда, чтобы управлять кибуцами. Он – великий порчельник.
Валя умеет напускать дыму такой плотности, что не различить ни черта, ни ангела; все в поисках глотка воздуха начинают хватать друг друга и невольно брататься.
Прижали Ротмана к стенке, и куда деться? Худо, когда в споре на одного напирают толпою, и тогда, вызвериваясь, стараясь защитить внутреннее сердечное «я», человек может натворить самого ужасного, порою памятного до скончания дней. Например, ударить в зубы своему начальнику. Толпа всегда полагает, что она права, что за нею последняя истина, в ее ряды надо встраиваться не переча. Но увы, чаще всего правда стоит за плечом того, кто силится встать противу всех, ибо на него обыкновенно и спускается с небес вещее слово. Ибо Спаситель выбирает себе подпоркою на земле одного из многих, на кого можно верно положиться.
Нельзя, милые мои, наступать на сердитого медведя; у него когти дол-ги-е, а зубы вост-ры-е!..
Ване бы задраться самое время; он, пожалуй, в минуту бы всех поставил на рога, штаны натянул на голову и, воссев за письменный стол, заставил бы зарвавшихся друзьяков плясать языческий хоровод: «Ой, ладо!» Но Ротман – гнилой интеллигент, и тут вся закавыка и постоянная причина всех российских бед. В основе всякого большого несчастия всегда ищи интеллигента.
«И-эх, размахнись рука!» – мысленно воскликнул Ротман, и кулак просвистел по уху вечного бобыля Вали Уткина. «И-эх!» – и снисходительный, в полсилы, щелчок превратил благородный шнобель почтенного редактора в картофель-синеглазку, подпорченную нематодой. Иначе, братцы мои, зачем три года кряду кидать на грудь всякие железяки, купаться в снегу и бегать за Слободу в зной и стынь?
Но Ротман лишь скрестил руки на груди и сказал презрительно:
Ты гнида в волосах искариота.
Тебя я вижу, мне блевать охота.
– А твой искариот был лысым, – скоро нашелся с ответом Валя Уткин. С ним спорить было рискованно, можно сесть в лужу. Он сразу заводил в словесные дебри. – Даже есть поговорка: «Лысый, как искариот». А может, он был кудрявым, и поговорка гласит: «Кудрявый, как искариот»? Это же история, самая глубинка, а там сам черт не рассудит. Целые народы сошли со сцены… Ты, Ваня, даже ругаться не умеешь. У тебя страдает мозговая извилина, отвечающая за образ.
Прежде, чем писать стихи,
Нахлебайся-ка ухи.
Если не пойдет уха,
Убирайся от греха.
Хи да да, хи да ха,
Значит, скверны потроха.
– Чем мои стихи хуже твоих? Я могу их гнать километрами, не требуя славы и денег. А ты, Ваня, за свои сопли требуешь и того, и другого. Значит, ты графоман. – Валя Уткин победительно обвел взглядом редакцию и добавил, обращаясь к редактору Крохе: – Толя, не забудь гонорар. Вместе раздавим бутылек…
– А ты – педер, – прошипел уязвленный Ротман. Он уже упустил момент, когда можно было смазать по зубам: любой бы суд оправдал. С ненавистью подумал: «Вот попадись на улице в тихом месте, скотина, сниму скальп».
– Ну и что? – вытаращил кукольные глазенки Валя Уткин и, скорчив насмешливую рожу, рассыпал по редакции хрустальный смех здорового утробою человека. – Ну и что ж, что педер? Хотя и не доказано… Ты за ноги держал? Одна актриса замужем за голубым. Она призналась по телевизору, что с голубым страсть как интересно жить. Я лично актрисе верю. А ты, Ванек, даже в педеры не годишься…
– Валя, ты не прав, – неожиданно забасила волоокая практикантка, и волосяная каштановая грива на голове встала дыбом. Экая необъезженная кобылица, ей бы еще доброго всадника, чтобы не сломал копчик. – Нельзя, Валя, так больно пинать поэта.
– Ты влюбилась?.. Ха-ха, эта дурочка влюбилась. – Снова засмеялся Валя Уткин, призывая всех в свидетели. – А Ротман хочет тебя с работы гнать. Он ведь уже сел в редакторское место, он заел шею Крохе. Он хочет предложить тебя Саше Баграмяну на выставку породистых овец, а нас всех загнать в кибуцы уборщиками навоза.
– Какая ты сволочь, – устало сказал Ротман. Спорить не хотелось, и он плюнул в наглые глаза соперника. И ловко угодил в голубой бесстыжий озеночек, в котором постоянно играл смех.
Валя Уткин вынул из нагрудного кармана батистовый надушенный платочек с острыми от утюга кромками, встряхнул и неторопливо утерся. Все с ожиданием вытянули шеи в его сторону, ожидая грозы. Получилась живописная картина из коллекции передвижников. Валя Уткин бочком сместился за стол, чтобы ненароком не достал его кулак Ротмана, и, степенно обкусывая клещами каждое слово, сказал:
– Сам ты сволочь. И не вздумай пускать кулаки. Мы не боимся. Загремишь по пятьдесят восьмой, куда макар телят не гонял. Это тебе не большевистские времена. Думал, мы темные? Думал, мы тюльки и кильки и можно нас щелкать под пиво? – Уткин побледнел от воодушевления, и седина головы сравнялась со щеками. Да он прямо сиял, этот святой человек, ибо без страха и упрека встал за правду и истину. – Дурак! У нас всюду разведка! У нас всюду агентура. Ты только пустил шептуна в укромном месте, а нам уже донесли. Ты понял?!
Ротман вдруг с тоскою подумал, что кулак и слово тут не помогут. Разве можно что доказать бетонной стене? И ушел. Фридману он звонить тоже не стал.
Глава четырнадцатая
Эти мужиковатые фригидные революционерки даже по смерти своей подставляют ножку незадачливому смирному человеку, чтобы посмеяться над ним.
Сворачивая с проспекта Ильича на Розочку Люксембург, Миледи не справилась с необъезженным жеребцом и обреченно рухнула на ледяной череп запущенной улочки, скользкой, как натертый воском паркет, призатянутой тонкой маслянистой пленкою весенней прозрачной влаги. Упала она неловко, щекою и ссадила правую бровь. Сумка с почтою угодила в рябую лужу, и пока, охая, подымалась Миледи с дороги, призатонула; одно письмецо, как весенний кораблик, даже запарусило в канаву, отороченную засахаренным сугробцем. Велосипед тоже окривел на одно колесо, завосьмерил, сияя на солнце новенькими спицами. Домой Миледи не пошла, а отправилась к Ротману на чердак, благо вся история приключилась возле шанхая.
Милый Ваня был на службе, тянул лямку, собирая по району новости. Миледи разложила почту на просушку, переоделась в сухое и, не поленившись, сбродила в больницу, где ей всадили укол от шока. Пока возвращалась в шанхай, Миледи чудилось, что вся Слобода подозрительно смотрит на нее; несчастной даже показалось, что от такого привязчивого внимания она окосоротела, а правый глаз выставило наружу, и он повис под бровью на голубом сосудике.
Не раздеваясь, с печалью на душе, Миледи улеглась в корыто, зарылась в шкуры. Угревшись, где-то на грани сна и яви, она вдруг почувствовала себя почти счастливой; и словно что стронулось в бабьем лоне и душу ласково щекотнуло лебяжьей пуховинкой. Ей вспомнился Гена Новожилов, с которым она провела осенью два дня, не вылезая из постели. Неутомимого ходока устроила Миледи близкая городская подруга; без намеков объяснила, что кое-кто хочет ребенка. У парикмахера были свои дети, он любил подносить шампанское и цветы, был говорлив и неутомим, по-своему добр и по этой неистребимой мужской доброте обещал постараться. Миледи при этом разговоре сидела в другой комнате и, конечно, все слышала: ей было ужасно стыдно, аж горели щеки, но в сердце не было того горячего протеста, иль испуга, иль боязни поймать любострастную болезнь, с какими жила все прежние годы до замужества. Гена Новожилов пришел с цветами, но от него удушливо пахло французскими лосьонами вместо мужского пота, такая по нынешним временам вселенская мода; Миледи зажимала в себе воздух и, чтобы перевести дыхание, толкала мужика порою от себя, чтобы он не целовал и не прислонялся лицом. Гена принимал тычки за пылкую страсть бесплатной прелестницы, еще более горячился и гордился собою. Гена был худ, как гончая, со старообразным нервным лицом и двумя желвами на скуле. Но три бутылки шампанского и горячие обольстительные слова на ждущее женское ушко вскоре сделали ухажера почти красавцем.
И вот сейчас, больная, в какой-то нервной судороге, закрытая в скверное бельишко, Миледи отчего-то вспомнила случайного жеребца, и те две бурные ночи показались ей дивными. В каком-то бреду Миледи приподнялась на локте, будто готовая вывалиться из ковчежца, и воскликнула: «Я, кажется, стыд теряю! И так сладко терять стыд! Лежу, а меня теребят. Господи, что со мною станет!» Тут раздались свадебные звуки Мендельсона, и безо всякого перехода Миледи очутилась на широкой кровати в незнакомой комнате. Она скосила взгляд влево и увидала знакомое по телевизору седое, с перебитым носом лицо без обычной разбойничьей ухмылки: «Я те ус-тро-ю!» Глаза были необычайной печальны, с близкой слезою и оттого казались стеклянными, словно бы в глазницы вставлены зеркала. Отчего-то президент лежал в костюме-тройке с широким цветным галстуком и золотой заколкой «череп-кости». Обычно такой знак вывешивают на трансформаторных будках высокого напряжения. Президент не произносил речей, он не клялся в любви, не тянул к женщине волосатых рук, не домогался – что вы! – но так жалобно глядел, с такой невыносимой тоскою, что и без слов было понятно: человек погибает и молит о помощи. Он будто вопит «сос», по-рыбьи разевая рот. И Миледи по-бабьи стало жаль этого замечательного одинокого человека, волей судьбы заброшенного на зияющие высоты. Неведомый удильщик выкинул из моря на золотом крючке огромную рыбину и оставил ее доживать на раскаленном песке, похожем на золотую жаровню. Ишь ты, еще до ада так далеко, а уже поджаривают грешного. Словами не передать того чувства, что овладело Миледи. И только она в порыве жалости протянула ладонь к седатой голове беспомощного человека, чтобы, как ребенка, погладить по желтеющим волосам, но пальцы ее наткнулись на пустоту, увязли в пустоте, как в черном жирном варе. Разглядывая живущие отдельно, какие-то бескостные шевелящиеся пальцы, с которых стекало черное вонючее варево, Миледи вскрикнула: тут открыли дверь, включили свет, и женщина оказалась в длинном, скверно освещенном коридоре. Мимо редкой цепью, один за другим уныло бредут люди в одинаковых серых балахонах. По чьему-то знаку Миледи вошла в этот строй. А навстречу мимо идет сама Смерть, ростом раза в два выше людей, тоже в сером балахоне, то ли с палкой, то ли с метлой в руке. Идет и время от времени лениво, как бы нехотя, равнодушно метит кого-нибудь по плечу, и тот безропотно поворачивается за нею и тут же растворяется в сгустившейся в конце коридора темени. Миледи идет спотычливо, как бы налитая свинцом, едва протаскивая ноги, и все надеется, что неумолимый косарь минует, не заденет, смилостивится. Ведь Миледи еще так молода, ей хочется иметь детей, долгой жизни, у нее ничего не болит, лишь тягуче порою ноет под сердцем да выворачивает от натуги правый глаз, потому что она неловко, искоса смотрит на грозного управителя. Но Смерть-таки дотрагивается до плеча Миледи, и женщина послушно поворачивает за нею. И тут же в душе возник неясный бунт: почему я? за что? чем же я провинилась? И сама с собою оказалась в руке трухлявая палка. Миледи тычет этим рожном прямо в глаза смерти. А рожа ее, братцы, до чего же страшна, не приведи Господь видеть наяву! Непонятно, какой формы головизна, уродливо слеплена из синей с проседями и вмятинами глины с черными провалами глазниц и носа. Сколько было сил, Миледи отбояривалась от вратарницы, отбивалась гнилым дрючком, уходя потиху от бесконечной неторопливой вереницы в случайный заулок. Смерть поглядела вослед и равнодушно отступилась, громко всхлопала железной дверью и накинула с той стороны засов, чтобы неповадно было поднимать бунт другим.
И вдруг Миледи оказалась на широком ложе посреди залитой светом больничной палаты, подле на коленях стоит парикмахер Гена Новожилов и гладит ее под грудью клешнятым копытцем, больно так, сердито чертит странные знаки в подвздошье, под пупом и ниже, торя путь во врата родильницы. Глаза у Гены сияют, как два алмаза, на лбу кучерявая смолистая челка, в которой просвечивают два молочно-белых рожка.
«Распечатаю сосуд каменный огнем пылающим. Разожгу в нем блуд и ярость! – вещает Гена. – Отдай, баба, мне свой стыд, отдай!» – «Не отдам, – кричит Миледи, яростно упираясь поначалу, но с каждым словом затихая и как бы смиряясь с покорителем. – Не хочу, – уже шепчет она, зная, что желает блуда. – Стыд – смирительная рубашка для бабы. Где стыд, там и совесть».
Миледи все же нашла сил вскочить с кровати и побежала куда-то вверх по пролетам, запинаясь о щербатые ступени. Стена вдруг пропала, перед Миледи разверзлось бескрайнее небо с редкими кучерявыми облаками, похожими на кротких ангелов. Она оказалась на ветхой веревочной лестнице, ее качает ветром, осыпаются трухою скверные перекладины, опадая в пустоту, а снизу, угрозливо подбивая пятки, вдогон спешит пламя. «Все. Это конец!» – обреченно подумала Миледи и вдруг оказалась на фабричной трубе около черного зевла, парящего дымом и серою. Тут протянулись невесть откуда добрые нежные руки и бережно повлекли вниз.
Миледи проснулась внезапно, взглянула на часы. Казалось, спала вечность, а прошло лишь минут двадцать. Тягуче пытал душу живот, словно бы внутри пылали язвы, лицо окосоротело; не глядя в зеркало, Миледи чуяла, как свирепо задрало угол губы; глаз словно бы вылился из обочья и чудом повис на стебельке, как желтая речная бобошка.
Мужа все не было, пропал на службе. Пошаталась по студеной каморе, еще подумала разживить печуру и нагреть берлогу, но трудно было рукою шевельнуть. Горько усмехнулась: «Вот тебе и сбила калым на двух работах. Поскользнулась и убилась кобыла счастия на простой ледяной катыхе. Если Богом не дано, на фанерных крыльях высоко не взлетишь, обязательно шмякнешься носом об землю. Размечталась, возгордилась: де, Ваня, ничего не бойся, я ныне на двух работах и тебя прокормлю. Тебя в редакции грызут поедом, а ты наплюнь. Еще мне папа в девичестве говаривал: „Вошь, что заемный грош, спать долго не даст“. Намекала на Валю Уткина. Передавали, что этот волокита тоже пытался измерять ее развальчик, но промахнулся.
По всем приметам плохая из нее получилась жена, да и уличной девки не станет. С русским мужиком мяса не сваришь, одна бульонка. За бутылку раздень-одень, накорми, напои, спать уложи, ублажи, чтоб до седьмого пота, а все одно кругом виноватой останешься.
Пошла замуж, чтобы попробовать, каково семьею жить, и ничегошеньки от того каравая не откусила; пал хлеб на оселку и стал будто камень, только десна искровянила.
Миледи пыталась найти зеркальце. Ведь где-то же был осколыш? Не спрятал же его Ротман? Ваня любит красоваться после гимнастики, по частям разглядывая тугие мяса.
Присела к самодельному столику на укосинах подле окна; поверх вороха бумаг лежала вчетверо согнутая газетенка. Бездельно развернула ее. Видно, что приплыла недавно из московского бедлама, где нынче все помешались на деньгах и сексе; сладкий запах блуда по ветру нанесло и до далекой северной провинции, и даже здесь скоро помутился от этого терпкого духа невинный крохотный ум розовощеких местных кобылок. Ишь ли, заголились сеголетки, выше некуда, черниленку видать, и понеслись бестии по ипподрому перед мужиками, высоко вскидывая ноги, загибая кренделя. Даже она, старбеня, рехнулась головою и замутилась блажью: там ноет, тут стонет, там спать не дает, и подушка под головою, будто черствый гранит.
«А блудить-то сладко! – снова прошептала Миледи, тупо глядя в газету, где простому народу приоткрывалась завеса над „Историей женщины“. – Знает, дьявол, чем поманывать да куда подмазывать. Это у нас на Руси с мужиком мяса не сваришь, одно голое костье да лохмы жил; а в столице лихие девахи и крылатые нимфеточки давно смекнули, почем стоит свежее мясцо, и едят вот пышки с икрою. Какой соблазн для переменчивой бабьей породы, скинувшей узду; почище станет змеиного яблока искушения».
И не понять было, то ли завистью рвет свое сердце Миледи, то ли пристанывает от жалости к себе, несчастной, опущенной вдруг на самый низ жизни. Снова с тоскою оглядела нищую нору свою… Тешила сердце музыкой, берегла себя до тридцати годков, дожидаясь лыцаря, чтобы спать нынче со сбившимся с панталыки мужиком в самодельном гробу. Подумала: «Иль я больная, изъедена до самой глубины пороками, или весь мир рехнулся и сошел с ума. Но если весь мир потерялся вдруг, то почему я должна уцелеть и сохраниться? Для одной-то и рябчик не мясо, в рот еда не лезет, а в компании и собаку съешь, не поперхнешься».
Статья вроде бы для дам, а читают, поди, одни мужики; вспоминают бывших в услужении женщин, рабынь любви и утех, и примеривают под себя, с той ли спали, не промахнулись ли в размере, зря теряя время, ту ли теребили до изнеможения чувств, к той ли притирались, чтобы высечь искру? А начитавшись, небось, уже со знанием дела станут примерять девок, перебирать, как мусор на свалке, помышляя лишь о необходимой для себя глубине лона, но не о красоте души. Где она, поэзия чувств? Где он, этот внезапный электрический ток, что однажды пронизывает двух вовсе не знакомых прежде людей и заставляет кидаться в объятия? Попроси объяснить, что случилось? – и не скажут, лишь пожмут плечами: он – чернобровый статный молодец, смолевая кудря на висок, она же дурнушка, серая утица с тощими косицами, и изъеденными зубешками; и меж тем многие годы им жить в любви, не разлей вода, когда каждый день расставания кажется за вечность, и сподобится умереть, быть может, в один срок.
Судя по описанию женщин, она, Миледи, верно, и для любви не сильно гожа, и мало удовольствия с ней играться в постели. И губы-то у нее толстые лопухи, и рот широкий, зевластый, и норки носа, как у тюленьей мамки-утельги, наружу выперли.
Согласно росписи древних восточных врачей по телосложению она, пожалуй, подпадает под второй размер. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Мало ли что шахи предпочитали наложниц с глубиной лона в шесть пальцев; такие, значит, были мелкие, невзрачные мужики, потому и выродились, и потеряли свои царства. Если уж с бабой не могли управиться, так невольно пропустили сквозь шесть пальцев и свой трон.
Нынче снова мало одной жены, супружницы венчанной на всю жизнь, но хотят любовниц и наложниц, и чтобы все были девственны. И чем развратней, скотинистей мужик, тем на большую чистоту он посягает, хочет осквернить ее, смять себе под ноги, умягчить разлитую в утробе зависть. Мало ли было вовсе минувшие века шлюх, гетер, одалисок, путан, ночных бабочек, жриц любви; они безвыводны, эти солдаты утехи, но церковь, но вера христианская, но совесть, но стыд сдерживали этот вековечный дьявольский напор, эту бурю вожделения, таящуюся в женщине, этот вечно кипящий бражный лагун, готовый выплеснуться во всякое время наружу, и тогда завейся моя веревочка, пропади все пропадом! И вот сказали нынче: де, стыд – пережиток, совесть – хитрая уловка монахов, человек живет на свете лишь раз, и только на земле он может испытать истинный рай. И бесстыдство скоро обуздало стыд, выгнало на паперть, набросило крепкую узду; совесть стала за порок, честность объявлена лживой игрою, добродетели – ханжеством ничтожных и беспомощных, кто не может постоять за себя. Табун разнузданных, диких, больных пороками жеребцов выметнулся на просторы России и, играя жиловатым мясом, поуркивая, принялся лихорадочно тратить все, что годилось бы для продолжения породы.
Миледи была и у сексопатолога. Он явно начитался древних мудрецов и магов языческого покроя и усердно поклонялся им. И то, что вычитала Миледи о себе, она впервые узнала от врача. У него были медовые испытующие глаза, нарочито неряшливая смоляная щетина на скульях, говорил он глухо, монотонно, копируя голос Кашпировского. «У тебя посуда глубиной в девять пальцев. Достает ли муж до дна?» Уж не девочка вроде бы, но покраснела, занялась пожаром, едва сдержалась, чтобы не уйти. Но, право же, не девочка. Заузила глаза, сделала их нарочито бесстыдными, спросила: «А что, мельче есть?.. А как вы замерили? На взгляд? иль линейкой? иль у вас есть глубиномер? А пальцы бывают толстые и тонкие. У меня, например, как прутики. А есть сосиски, сардельки, колбаски. Вот у вас пальцы шахтера. Ваши девять пальцев, это ой-ой – утонуть можно».
Миледи так играла голосом, так строила глазки, словно бы предлагала себя тут же, не выходя из кабинета.
«Ой, плутовка», – засмеялся врач, и глаза у него завлажнели, как две маслины; он вдруг стал походить на одалиску, дождавшуюся любезного сердцу.
«Голубой, наверное», – с облегчением подумала Миледи. Она неотвратимо скатывалась в пропасть безумств, и теперь ей всюду мерещилось, что ее все преследуют. Ведь все мужики – кобели, верно?
«Да мне линейки не надо. И глубиномера. Ха-ха. У вас талия делит тело пополам, лоб у вас широкий, брови вразлет, глаза – как зеленые миндалины. Ну что еще сказать? Шея у вас толстая, но длинная, талия узкая, бедра круглые, гитарой, пальцы изящные. – Доктор говорил торопливо, раздевая взглядом. Миледи ежилась, но терпела, внутренне разогреваясь и освобождаясь от привычных душевных теснот. Ее желали, и ей было радостно от одной этой мысли. – Грудь у вас явно не второго размера и бюст – пышки. Если вы разденетесь, то у вас окажется овальный припухлый животик и крепко удавленный пупочек. Иль не так?.. Снимите-ка платье, я вас осмотрю».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.