Текст книги "Брат мой названый"
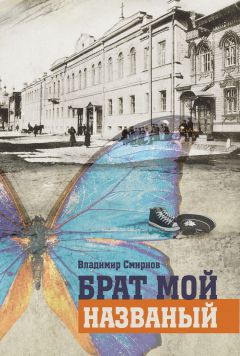
Автор книги: Владимир Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Глава 21
Я читаю письмо с азартом, будто ищу какую-то единственную строку, где спрятан ключ ко всему происшедшему. Потом перечитываю более внимательно. Захожу к хозяйке, спрашиваю, не передал ли Стёпка чего на словах. Да почти ничего, только что Никита, мол, домой уехал. Я спросила, кто это такой, а Стёпка замялся как-то, но сказал, что ты знаешь. Знаешь так знаешь, чего мне допытываться?
Анна сидит рядом, говорит, что Стёпка вообще приехал странный, будто у него какие-то перемены впереди намечаются и он их не то что боится, но… Или уехать куда собирается? Не век же в деревне жить. В городе-то интереснее. В общем, что-то такое… Ну как её подруга летом перед свадьбой такая же непонятная была. Какая свадьба, скажешь тоже, перебивает Анастасия Михайловна, ему шестнадцать-то хоть есть ли. Разговор быстро сворачивается, и я удаляюсь в лавку.
И в этот день, и позже я не раз перечитываю письмо и продолжаю его осмысливать. Почти не обращаю внимания на первый сексуальный опыт Ники. Что особенного, раньше или позже все мы через это проходим. Написал стеснительно, то есть как целомудренный домашний мальчик из интеллигентской семьи конца девятнадцатого века, каким мы его в нашем двадцать первом представляем по русской литературе, хотя бы по Бунину. Однако это для меня не главное.
Ясно, что здесь Ники уже нет. В противном случае он просто должен был вернуться в деревню и после истории с гимназией непременно нашёл бы меня. Варианты египетского раба и звёздного воина отметаю сразу в силу абсолютной непроверяемости. Видимо, его расчёты в какой-то мере справедливы, если временное окно открылось, хотя пока неизвестно куда. Значит, их можно считать инструкцией для меня. Всё просчитать и летом в нужный день ввечеру просто спуститься на берег. Одежда цела, содержимое сумки не изменилось. Домой я вернусь двадцать первого августа утром, а на камни пойду… Так, когда же я сюда попал…
И вдруг меня в пот бросает! Последний раз такое было на каком-то курсовом экзамене, когда я, взяв билет, понял, что ничегошеньки не знаю. Не по всему, конечно, курсу, а именно по этому билету. И это не было стандартной ситуацией, когда сядешь готовиться и такая мысль понемногу отступает, вроде бы само собой в памяти всплывает нужное, минут через сорок вполне спокойно идёшь отвечать и всё идёт вполне прилично. Вопросы того билета я действительно не знал – то ли они как-то мимо меня прошли, то ли ещё что. В итоге я откровенно плавал, что-то по ходу ответа в голове связывалось, что-то отвечал на интуиции. Выплыл, откровенно говоря, с немалым трудом.
Я понимаю, что не знаю, какого именно числа здесь появился. Просто не знаю. Даже день недели. Ника случайно утром увидел численник, потом днём обратил внимание на месяц. А у меня случая такого не было, а сверить дату просто в голову не пришло. Бродил по набережной, по Мытному, разговаривал с Никой, Лукерьей Матвеевной, Александром Павловичем, ещё с кем-нибудь. И в последующие дни календарём совершенно не интересовался, ни к чему это было. Помню только, что примерно через неделю начались каникулы, и мы с Никой отправились в деревню. Это уже начало июня. Стало быть, сюда я попал в конце мая. А поточнее?
Впрочем, паниковать рано. Когда гимназистов шестого класса распустили на каникулы, узнать можно в гимназии. Не бог весть какая тайна, директор должен сказать. Зачем мне это надо – что-нибудь придумаю. Но вот сколько дней отсчитать от последнего учебного дня назад – это уже вопрос. Навскидку – неделю, максимум полторы. Но мне-то точный день нужен! Можно, конечно, несколько ночей на авось провести на набережной. А может, эти самые непонятные силы ещё и мозги сканируют, чего-то там проверяют? Так что прийти нужно один раз и непременно в нужный день. Значит, нужно искать выход, точнее дату. Мой день Икс, как пошутил Ника. Попытаться вспомнить всё, что в те дни делал. Может, у Лукерьи Матвеевны этот день как-то в памяти отложился. Допустим, какой-нибудь важный церковный праздник был или ещё что. Ничего не потеряно.
Однако сейчас конец декабря, и у меня в запасе на всё про всё целых пять месяцев. До половины мая я вполне себе могу жить обычной жизнью мологского приказчика. Заниматься гимнастикой, ходить на любительские спектакли в тот же Манеж, читать свежие журналы… Скоро Рождество, посмотрим, как здесь его празднуют. Хозяева, как я уже понял, собираются в Богоявленский собор. Знаю такой, мимо каждый день хожу – город-то маленький. Внушительный храм, даже торжественный какой-то и по будням. Этакий провинциальный вариант московского Спасителя. Опять же, как сказал Мокей, на подосеновские деньги построен.
У нас Рождество как-то натужно выглядело. На всех телеканалах праздничные службы. Один раз посмотрел как на экзотику, а в следующие годы – зачем? Чай не кино. Кому надо – в храм идут. Телевизор разве что для старух немощных или неходячих инвалидов – это понятно. На улицах тоже ничего не чувствуется, хотя вроде и организуют что-то. Видимо, в душе праздник должен быть. А иначе что толку. Внедряй не внедряй – смысла не будет. Или мне это только казалось?
Дня через два Анастасия Михайловна как бы невзначай интересуется, почему я не хожу в церковь. Она, конечно, не следит, не её это дело, но всё-таки ни разу меня там не видела. Сейчас, правда, многие перестают ходить, особенно молодые, так что не я один такой. Но сходить бы, добавляет, надо. Хотя бы на рождественскую службу.
Я окончательно понимаю, что моё здешнее отношение к церкви весьма отличается от прежнего. Не то чтобы я раньше в храмах не бывал. Три лавры из четырёх так или иначе знакомы. О Казанском и Исаакиевском в Питере и не говорю. Бывал, конечно, не как паломник. Кое-где и служб ещё не было, поскольку музеи. Интерес, однако ж, как мне казалось, был далеко не только экскурсионный. Какой – понять трудно. Хотя дальние и ближние пещеры на Печерске прошёл действительно более как турист, но вот у надгробной плиты Суворова и особенно в Троицком храме у раки Сергия охватывало странное чувство. Не по себе – не то какое-то слово. Может, в Сергии дело? Место намоленное? Но как это на меня, от храма далёкого, может подействовать? Или оно само выбирает, где, когда и на кого действовать? А оно – это что? Впрочем, приходилось бывать и в обычных храмах в рядовые дни – впечатление, как в клуб зашел. А в мае, когда сюда попал, мимо нашего Спасо-Преображенского ходил каждый день – но чтоб зайти хотя бы из любопытства, интерьеры старые посмотреть… Так я и новые в двадцать первом веке не видел. Может, действительно: не чувствуешь в храме благодати – это Бог говорит, что нечего тебе здесь делать. Но в Троице-то – было!
Впрочем, я соглашаюсь, что надо бы сходить, и уже было собрался, но непонятным образом буквально накануне простужаюсь и весь конец декабря почти до Нового года лежу в постели. Судьба?
Неожиданно заглядывает Мокей и приносит прошлогодний пятый номер «Северного вестника» с явным желанием узнать моё мнение и о журнале вообще, и об авторах. Название это я вроде бы слышал, но кто там да что, понятия не имею. В содержании бросается в глаза фамилия Бальмонта, потом Волынского, и становится ясно, чья это вотчина. У Бальмонта очень испанские и экзотические «На картине Греко вытянулись тени…» и «В окрестностях Мадрида». Что ж, говорю, ему хорошо по Европам разъезжать. Хотя, конечно, красиво пишет, чувства свои умело передаёт.
– Да я не об этом, пишет действительно хорошо.
– А о чём же?
– Понимаешь, другие как-то всё больше о народе нашем, о России пишут. Нашу жизнь понять пытаются. Себе её объяснить, потом и нам всем рассказать. А у этих всех, не только у Бальмонта, России и русского духа вроде бы и нет.
Стало быть, сейчас продолжится уже наскучивший спор западников и славянофилов. Здесь он ещё, может, и интересен, но в целом давно понятно, что правы и те и другие. Или ни те ни другие? Спорить большого желания нет, но всё-таки…
– И что же, почему все должны в России замыкаться? Мир намного шире и интереснее, смею тебя заверить. Человек приехал в Мадрид, пришёл в музей Прадо, увидел картины Эль Греко и пытается их понять. Ты видел Эль Греко?
– Нет, конечно, я не то что в Испании, дальше Питера нигде не был. Даже фамилию такую впервые слышу.
– А это не фамилия, прозвище. В Испании я, положим, тоже не был, но у нас в Эрмитаже есть две картины, можно увидеть.
– В Эрмитаже? А это где?
Опять не то что-то говорю. Это для меня Эрмитаж. Для всех царский дворец, служебное здание. Но в какой-то части вроде бы давно уже открыт музей для публики.
– А это рядом с Зимним дворцом.
– С царским?
– Да.
– И что, туда всех пускают?
– Только билет купить надо. Ну и прийти желательно не абы как одетым.
– Понял. Если летом в Питер поеду, обязательно зайду. А ты этого Эль Греко видел?
Видел ли я Эль Греко? «Апостолов»-то, конечно, не раз и в самом Эрмитаже, и репродукций их не счесть, так что в памяти засели они довольно крепко. Конечно, не как шишкинские мишки, но всё-таки. Да и по другим мировым музеям сколько альбомов издано, опять же и мышкой кликнуть несложно. Но это я и через сто лет. И хвастаться, что всё это видел, хотя и не в подлинниках, просто нечестно, если не сказать бессовестно. Очередной павлиний хвост. Так что скажу как есть.
– Только в Эрмитаже. Там картина «Апостолы Пётр и Павел», очень известная. Вот читай. Бальмонт называет Эль Греко сумрачным художником. Если даже только по эрмитажной картине судить, я согласен. Видимо, и в Прадо стиль тот же. Понимаешь, чтобы до конца понять это стихотворение, надо, наверное, как Бальмонт встать перед той же картиной. Просто прочитать мало, в суть не проникнем.
– Ну да, а потом он во Францию поедет, тоже что-нибудь напишет. А потом в Англию… Я же не могу по всему миру вслед за ним. И ещё другие поэты есть.
– Есть и другие. Мир, как ты понимаешь, велик.
– И что делать?
– Как что? Читать больше, искать хотя бы репродукции в журналах, их иногда печатают.
– Но мы и так читаем…
– Значит, больше надо. И в музеях бывать. Вон в Москве огромная галерея русского искусства Павла Михайловича Третьякова. Купец богатый, денег потратил немерено, и всё Москве подарил, для публики открыто. И другие музеи в Москве есть. Вот ты в Петербурге когда последний раз был?
– Этим летом. Целую неделю у родственников жил.
– А где побывал? В Эрмитаже, как я понимаю, ты не был, поскольку о нём и не знаешь. А этой весной ещё и Русский музей императора Александра Третьего открылся, где всё русское искусство собрали, царь Михайловский дворец под него отдал, и вход для всех открыт. Туда тоже сходить надо было. Да не бегом по залам отметиться, что был, а перед тем хоть у Брокгауза о художниках прочитать, чтоб с умной головой идти. И так перед каждым музеем, чтобы не просто, глаза вылупив, по залам ходить.
Ловлю себя на мысли – не слишком ли атакую? Но, может, так и надо – вывести его из провинциально-болотной дремоты, чтобы не по воле мологских волн плыл, а активно головой работал. Ему же в двадцатом веке жить!
– А сам-то ты в этом новом Русском музее уже побывал? – Мокей робко пытается сопротивляться.
– А то как же?
Я намеренно отвечаю чуть ли не жаргонно и притом не вполне определённо, чтобы тему эту дальше не развивать. Что я там был и не раз – это сущая правда. Выкраивал время почти в каждый приезд, хоть час-другой для двух-трёх залов. Но когда именно я там был! Когда проходил мимо чуть ли не в закутке стоявшей уменьшенной опекушинской скульптуры, даже в таком виде внушающей уважение, которая через несколько лет метеором ненадолго промелькнёт на нашей Красной площади и уйдёт в легенду? Так что и сам не понимаю – соврал я Мокею или правду сказал.
Мы ещё сколько-то времени говорим о том о сём. Во время разговора заглядывает Анастасия Михайловна, заставляет меня выпить очередное лекарство. Потом, наверное с её подачи, Анна приносит нам чай. В азарте разговора я на это особого внимания не обращаю, но когда она возвращается за чашками, мне кажется, что на Мокея смотрит чуть более пристально. Или действительно кажется?
Дни идут своей чередой, в голове появляется знакомое, какое-то дембельское чувство. Январь понемногу сменяется февралём. После того разговора с Мокеем чуть ли не все книгочеи, похоже, делают из меня подобие Брокгауза вкупе с Ефроном, особенно по ещё не вышедшим томам. В том смысле, что спрашивают и обсуждают всё подряд. Несколько времени мне это было даже интересно, но скоро я понимаю, что тихо превращаюсь в какого-то местного всезнающего гуру. И ладно бы профессионально всем этим занимался, что, правда, совершенно нереально даже здесь – так, куча отрывочных знаний, не более того. Понахватался верхушек – в той ещё жизни тебе кроссворды только разгадывать, а тут учить лезешь. Так не сам же лезу, получается так, невиноватый я, они сами…
Вот и оправдываться начал, стало быть неправ. Или это в стиле Ники – ещё один сигнал к возвращению?
Глава 22
Странный месяц февраль. Глухая зима. Прошлогоднее лето прочно забыто, а о новом представление сугубо теоретическое, хотя на ближнем горизонте март. Жизнь в полумраке. Когда ещё в детстве узнал, что всего-то век назад электричества не было, страшно удивился. Летом ладно, а зимой-то они как жили? И был у меня одновечерний в школьные времена опыт, когда из-за какой-то аварии сидели без света. Свечка в доме нашлась и торжественно была зажжена. Кое-как осветила она тетрадь и учебник, так что уроки пришлось делать. Потом её перенесли на кухню, поскольку собрались ужинать. Но всё это один вечер с грехом пополам, ничего серьёзного.
А тут целая зима при свечах да керосиновых лампах. В комнате ещё туда-сюда, а вот в Манеже… Оказалось, однако, что привыкнуть можно. Несколько ламп ближе к стенам, люстра под потолком, в зале даже не полумрак, а скорее три четверти, но вроде как ничего. А может, глаза наши в сумраке изначально лучше видят? Но мы придумали электрическое освещение, избаловали их, а теперь жалуемся, что полмира с детства в очках ходит. А чего глазам напрягаться при таком комфортном освещении?
Эти и им подобные мысли регулярно посещают меня, будто соблазняют остаться в этом полупатриархальном мире, посидеть на соседних кинокреслах с подлокотником посередине. Но, с первого дня чужой, я не мог стать здесь своим, не стал и не стану, даже если очень захочу. Разве что судьба… Ника для себя всё это объяснил в письме, и что я могу добавить?
Однако мысли мыслями, а дни похожи один на другой. Монотонность скрашивает Манеж, да раз в неделю заглядываю в общественную читальню. В литературные споры там особо не встреваю, поскольку хватает разговоров и в компании гимнастов-книгочеев. Быстро приобретаю репутацию читателя замкнутого, себе на уме, что меня вполне устраивает.
В начале марта в читальне объявляют литературный конкурс. Желающие участвовать должны прочитать одно собственное стихотворение. Естественно, на доверии. В том смысле, что именно собственноручно сочинённое, не украденное у какого-нибудь более чем малоизвестного автора с другого конца света. В этом мире, как я давно уже заметил, вообще очень многое на доверии и обманывать даже не то что неприлично, просто не принято. Во всяком случае, в Мологе. Или только у меня такое честное окружение?
Вполне понятно, что участвовать в конкурсе я изначально не собираюсь, даже в мыслях нет. Не то чтобы не с чем выступить – как все нормальные люди я что-то там иногда рифмовал. Но именно там. Прочитать же здесь, пусть даже вневременное по содержанию, не значит ли оставить какой-то след неведомо как пролетевшей бабочки?
Но, с другой стороны, будет ли этот след хоть мало-мальски заметен или, не дай бог, зафиксирован? Одно дело отметиться на столичном вечере и прочитать стихи (заслуженно или нет – вопрос другой) после, положим, Брюсова, где в зале публика соответствующая, критики, издатели, какие-нибудь будущие мемуаристы. Другое – выдать дюжину строк в провинциальной читальне и не оставить никаких следов за её пределами. Сомнения, однако, остаются, и почти до самого конкурса я, хотя всё-таки записываюсь для выступления, не уверен, буду ли читать.
Список чтецов вывешивают за неделю; из моих книгочеев никто не рискнул, хотя знаю, что кое-кто пытается плести. На ближайшем занятии мне учиняют допрос с пристрастием и требованием прочитать им что-нибудь прямо здесь и немедленно. Отбился с трудом, мол, не Пушкин, и вообще… На конкурс приходят все с настроем вытолкнуть меня, если вдруг передумаю. Но дня за два накануне я и сам решаюсь окончательно. От кого, в конце концов, прячусь?
Готовлюсь по памяти. Распечаток в сумке не оказалось, ноутбук мёртв. Что-нибудь написать целенаправленно у меня никогда не получалось, а вымучивать специально для конкурса рифмованное подобие нет никакого желания. Кое-что вспоминаю, откидываю совершенно здесь невозможные, где упоминаются джинсы, самолёты, дожёванная телефонная трубка и прочее в том же роде. Отметаю верлибры как слишком авангардные, и не только по мологским меркам. Туда же и постмодерн. Ещё несколько бракую по причине излишней философичности. Не то чтобы всё это не поймут, но получится как-то выпендрёжно. Павлиний хвост.
Выбирать по сути оказалось особо не из чего, но наконец определяюсь. Кажется даже, выбор мой соответствует и моему нынешнему состоянию, и даже настроению. Или я там тоже был таким? Вневременное состояние? Читать, естественно, собираюсь без бумажки, поскольку грамотно все эти яти и ижицы мне просто не расставить, а репутация человека безграмотного меня абсолютно не устраивает.
Собралось человек около тридцати, даже тесновато. Выступать записались больше половины. Организаторы, чтобы никому не было обидно, кидают жребий. Мне выпал номер двенадцатый. И хорошо – в середине.
Стулья полукругом в два ряда, читают с места. Что мне нравится – слушают с интересом, хотя стихи у всех обычные, любительские. Конечно, искренние. Никаких потуг и непонятных претензий. Можно было задавать вопросы – и задают, более по содержанию, хотя иногда и чисто технические. И блох иногда вылавливают – как же без этого? Спрашивают о литературных вкусах. Я только слушаю – мне интересны и сами стихи, и вопросы, и ответы. В общем, приятное провинциальное клубное мероприятие.
Странно, но я даже немного волнуюсь. И с чего? Читать на публику мне приходилось. Раза два даже в Карабихе, куда друзья зазвали, правда, в самом конце списка, когда публика уже особо не слушает, но в начале-то выступали поэты весьма и весьма известные не только в провинции. Объявляли, выходил на сцену, читал. Конечно, волновался и там, но, пока шёл к микрофону, успокаивался и выступал уже вполне прилично. Здесь же и народу куда как меньше, и публика вроде бы попроще, а на тебе! Ладно другие заметно волнуются, но читают, и чем я хуже…
Объявляют меня. Волнение куда-то уходит, и будто со стороны…
Слышу музыку заманчиву,
да не в силах песню спеть.
За окном седая ласточка
снова хочет улететь.
В небесах звезда романсова,
что не может не гореть.
Показалось, будто радостна,
колокольчику – звенеть.
Скоро, скоро ветер утренний
да прощанье на мосту,
где, душевной схвачен мукою,
позабыв про суету,
тишиною плачет русскою
и к душе моей приник
занесённый тихой музыкой
замерзающий ямщик…
Стихотворение короткое, длинные у меня плохо получаются. Выступал, наверное, минуту, если не меньше. Года три назад именно его читал в той же Карабихе, потом ещё где-то по случаю, но сейчас получилось совершенно по-другому. Хотя там имение пропитано девятнадцатым веком, а здесь век этот самый настоящий. Микрофона нет? Так комната небольшая, он и не нужен. Может, настроение?..
Кто-то спрашивает, почему так пессимистично. Ведь жизнь идёт вперёд, скоро двадцатый век, открываются новые горизонты. Конечно, в пресыщенных столицах подобным многие грешат, в себе ищут непонятно что – надо ли их копировать? Да и романсы – это что-то салонное, безжизненное, чуть ли не архаическое. Зачем о них писать?
Каких поэтов читаю? Пушкина, Лермонтова, Кольцова… Ну, этих все читают, а современных? Аккуратно, чтобы случайно не вспомнить Анненского, которого здесь ещё не знают, хотя и написано уже многое, а тем более Блока и прочих из его поколения, назвал Бунина, Брюсова, Лохвицкую, Трефолева – намеренно разнопёрый список.
Кто-то спрашивает о Брюсове. Оказывается, эту фамилию впервые слышат. Может, ещё не печатается или до Мологи не дошло? Отвечаю обтекаемо, что в какой-то питерской газете попалось несколько стихотворений, понравились, надо будет книжку поискать.
Книгочеи реагируют на седую ласточку и занесённого тихой музыкой – это как? Ну да, понимаю вопрос, так вроде бы ещё не пишут. Однако уверенно заявляю, что в Питере и не такое слышал. Благо недавно ездил, так на каких-то чтениях случайно побывал. Но главное, спрашиваю, смысл понятен? Без апломба так, спокойно. Смысл оказывается понятным, объяснения принимаются. Рифмы какие-то не такие, то ли есть, то ли нет? Ну, так точные у всех одни и те же, хочется попробовать что-нибудь поновее. А в целом все доброжелательно сходятся, что довольно красиво написано, но такие стихи лет в шестьдесят сочинять, не раньше. И на том спасибо.
В конце ставят самовар, и разговор продолжается. Хотя встреча была названа конкурсом, мест решают не присуждать никаких. Да и какой смысл всех по ранжиру выстраивать?
Домой возвращаемся чуть ли не к полуночи. Когда остаёмся с Мокеем вдвоём, он неожиданно спрашивает меня об Анне. Я сначала не понимаю даже, в чём дело. Он уточняет, имею ли я на неё какие-нибудь виды.
– А почему тебя это волнует?
– А потому что ты живёшь с ней в одном доме.
– В одном доме с ней, но не с ней же, – отвечаю я примитивным каламбуром, на который в двадцать первом веке никто и внимания бы не обратил.
Мокей, однако, останавливается и молча поворачивается ко мне. Лица его в темноте не вижу, но выражение и так ясно.
– Ты что?
– А ничего. Ты понял что сказал?
Звучит резко и даже вызывающе. Ещё несколько слов, и в романе девятнадцатого века запахнет дуэлью. Вот оно что, банальная ревность… Может, действительно махнуть рукой на свой понемногу забываемый двадцать первый, остаться здесь? Вернуться к тому декабрьскому разговору с Аксёном, объясниться сегодня же, руки попросить? А что, прямо сейчас беру инициативу, что называется, в свои руки, разбираюсь с Мокеем – какое мне дело до него? Микроразборка, весьма отдалённо напоминающая дуэль. Ни шпаг, ни пистолетов, не говоря уже о секундантах. Чай не дворяне, хотя моё имя звучит вполне дуэльно. Пара-тройка приёмов самбо – и дело с концом, тем более вокруг темно, и мой визави, явно взволнованный, ничего такого от меня не ждёт. Да и необязательно самбо – просто пойти сейчас домой и… Но Мокей… Как ни крути, имя совершенно не дуэльное. Для ночной стычки из-за девки ещё куда ни шло.
Всё это быстро проскакивает в моей голове, и я моме-нтально понимаю, что это очередная модель совершенно непонятных и абсолютно не моих поступков. Стычка из-за девки? Это – о ней? Я как-то сразу осознаю, что после такой мысли теряю Анну – абсолютно и навсегда. И даже если павлиньи перья уцелеют, ни объяснения, ни предложения точно не будет. Сам для себя теряю. Лишний я здесь, лишний!
Поэтому совершенно естественно и спокойно отыгрываю назад:
– Извини, кажется, я сказал глупость. Само как-то вырвалось.
– Ладно, прощаю, – Мокей успокаивается. – Понимаешь, на Анну я ещё позапрошлым летом внимание обратил, как сюда приехал. Но кто я такой? И весь год так, видел иногда, здоровались. А летом ты появился, и мне стало как-то не по себе. Под Рождество ты заболел, я тогда зашёл тебя проведать…
– И глаз на Анну запал окончательно?
– Считай что так.
– Ну а я тогда при чём?
– Но ты же в их семье живёшь, может, свататься собираешься. Да и люди говорят…
Мокей явно взволнован. Видимо, он действительно хочет разобраться в нашем треугольнике, который вполне логично выстроился в его голове, хотя и без явного моего участия.
– А ты людей меньше слушай. Что Анна мне нравится, скрывать не буду. А свататься… Я уже говорил Аксёну Васильичу, что свататься не могу, причина есть, и причина серьёзная.
– Что, больной что ли?
– Чего-о? Я что, в Манеже на больного похож?
– Да кто тебя знает…
– Не волнуйся, здоров во всех отношениях.
– Так в чём же дело? Тайно постриг принял? Непохоже, я тебя в храме ни разу не видел. Или ты им близкий родственник?
Последняя фраза похожа на спасательный круг. Однако подхватывать его не собираюсь:
– Я так понимаю, ты хочешь свататься. А сама Анна что думает?
– Она согласна. Но есть ты…
– Это она говорит?
– Нет, это я говорю.
Последний всплеск эмоций. Пора расставлять все точки над i.
– А ты не говори, а сватайся. Согласятся Анну за тебя отдать – буду очень рад за вас обоих. А потом, ты поймёшь когда, Аксён Васильич всё объяснит.
– Сам не расскажешь?
– Нет, но ты всё поймёшь.
Мы облегчённо расходимся. Вот и ещё один звонок к возвращению.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































