Текст книги "Брат мой названый"
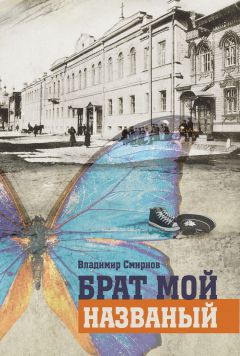
Автор книги: Владимир Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава 29
Интересная штука – майская ночь на Волге. С вечера по-поздневесеннему вроде бы тепло, потом понемногу свежеет, к рассвету бывает и зябко. Вода в мае ещё не очень нагрелась, отдавать ей ночью нечего. Потому на утренней рыбалке свитер да тёплая куртка или демократичная фуфайка – самое то. Но странное дело – на мне только обыкновенная тонкая рубашка, а не холодно. Немного прохладно – это да.
Дурдин уже почти замолк, мыслей у него осталось на один глоток, не более. Что ж, собеседник на эту ночь, которая изначально предполагалась более чем длинной, оказывается вполне достойным. В какой-то момент мы даже пытаемся перекинуть мостик от литературы конца девятнадцатого века к литературе начала века двадцать первого. Может, действительно литературой заняться? И книгочеи намекали… И закопаться не в привычный серебряный модерн, а в конец девятнадцатого века, излёт реализма. Кто кроме меня может на всё это посмотреть глазами современника? Да плюс книжный опыт всего двадцатого века и какой-никакой жизненный… Наши писатели всегда кого-нибудь жалели. Маленького человека, униженных и оскорблённых, русского мужика… А кого им в нашем времени жалеть – новую версию Башмачкина, офисный планктон? Самый незащищённый слой общества, маленькие человеки, они же самоуниженные? У нынешнего русского мужика, каковой всегда был, есть и будет, хотя бы руки из нужного места растут. Захочет – работу найдёт. В самом крайнем случае грядку вскопает, и не одну – сытым будет. А у иного вдобавок и кандидатский-докторский диплом в столе найдётся, что в сочетании с нормальными мозгами и руками совсем замечательно. А планктон, даже если у него и дипломишко какой сыщется, всё равно планктоном и жить будет. Такой уж он есть.
Последняя короткая фраза совпала с последней такой же короткой репликой Дурдина. В сумку его, наверху для него урна найдётся. Или как сувенир оставить, если…
Появляется цепочка слов
Девятнадцатый век
нерастаявший снег
как невыпавший дождь
и сразу останавливается. Не гений, чтобы писать враз по вдохновению. Да и у гениев это редко получалось. Потом вернусь… Если… В девятнадцатом веке так не писали. А я так вообще за весь год ни строчки. Или уже?
Встаю, руки-ноги разминаю. В мае в это время уже должно быть довольно светло. А тут будто и не май с вечера. Только где-то через час ложится густой туман, у природы начинается предрассветная полудремота. Сегодня буду умнее и по камням не пойду. Ещё полчаса, и глаза хоть что-то увидят.
Слева в тумане проявляется непонятный пунктир, ведущий куда-то вперёд. Память услужливо подсказывает, что это могут быть огни на мосту. Вскоре я в этом убеждаюсь. Затем в паре сотен метров всплывает ровная серо-мокрая полоса. Асфальт? Можно идти?
По камням всё же надо поаккуратнее. Иду медленно, полоса приближается, и я понимаю, что это не обман зрения. Наконец, ноги, а вслед за ними и голова окончательно осознают, что глаза их не обманули.
Вроде бы я должен сейчас плясать неизвестно какой восторженный танец, бурно радоваться и прочее в том же роде. А вместо этого в голове очередное раздвоение. Город, к которому я уже привык, уступил место другому, немного подзабытому. О Мологе, из которой приехал всего-то несколько дней назад, и говорить нечего. Аксён, Флегонт, Игнат, Стёпка, Анна, Мокей, книгочеи, Александр Павлович – вас всех давно уже нет? Ника маленький, которого я какой-то месяц назад боязливо брал на руки – даже ты давно уже всю свою жизнь прожил… Какую?.. А мне ещё только предстоит сказать твоему отцу о появлении тебя на свет.
Так бывает. Долго и упорно к чему-то стремишься, бог знает что преодолевая и превозмогая. Но вот достиг. И наступает самая настоящая апатия, когда и радость не в радость. Длится это неделю-две. Только после них по-настоящему оцениваешь сделанное.
Сейчас – другое. Я понимаю, что долго буду привыкать к своим потерям…
Но здесь должен быть Ника. Он вполне может помнить, когда мы встретились на набережной. И событие само по себе для него тогдашнего нерядовое, и в гимназии перед каникулами в тот день могло быть что-то запоминающееся. Если так, то будет ждать во дворе или караулить у окна. Сейчас, правда, ещё рано, наверняка спит. Но днём…
Почти уверенно иду по нижней набережной и упираюсь в гранитный балкон. Вот она, биржа, на месте! Робко кладу руку на камень. Настоящий!
Поднимаюсь вверх по знакомой лестнице, затем через площадь, по которой много ходил последние дни, но уже не наискосок мимо прилавков и возов, а обходя цветочную рыбу и памятник (где, под вождя загримированный, встал на граните государь…), по аллее выхожу на Крестовую. Глаза скользят по вывескам, троллейбусным столбам, тротуарной плитке и всему остальному, появившемуся за последнюю ночь. Далее можно бы и пешком, всего-то полчаса по рассветному городу, но всё-таки чувствуется усталость. Да и голова естественным образом сомнамбулическая. Потому без всяких эмоций, с видом человека, не спавшего ночь (а какой ещё у меня ранним утром вид может быть?), напротив гостиницы Зимина, из которой вышел накануне вечером, от какого-то салона сотовой связи машу таксисту и называю адрес. Полквартала по Крестовой, поворачиваем на Стоялую, едем мимо новой каланчи (какой новой – ей уже сто лет! Хотя в каком-то смысле я её впервые вижу) по Театральной площади, вправо между театром и банком на Театральную уже улицу… Господи, какая Театральная, какой театр, какой банк? Глаза-то открой! Ну да, успеваю заметить – слева сквер с каруселями, справа развалины… Соображаю, что именно здесь прошлой зимой шёл с вокзала на Казанский, когда перед питерской командировкой хотел повидать Нику (интересно, почему он везёт меня именно этой дорогой?). Не сразу понимаю, почему не по Карякинской – вспоминаю, что здесь она университетским корпусом лет тридцать как перегорожена! Так что богадельня (военкомат, конечно) проходит перед глазами только боковым фасадом. Сворачиваем на Бабарыкинскую, справа остаётся Комаровское училище, далее подряд три светофора, все удачно на зелёный, влево, потом вправо во двор, и вот уже расплачиваюсь у подъезда полуголым Аполлоном, который таки дождался своего часа.
Двор пуст. Это к лучшему. Может, меня здесь весь год с собаками ищут, безутешные родственники рыдают от Ближнего Востока до Дальнего Запада. И на тебе – выхожу из такси как ни в чём не бывало. На брелоке ключ от домофона, захожу в подъезд, совершенно естественно поднимаюсь на лифте. Открываю дверь в коридор, потом в квартиру, прохожу на кухню, включаю свет. Самые обыкновенные действия самого обыкновенного человека.
Спотыкаюсь о сумку. Ну да, ещё тем утром, чтобы не забыть. Или не разбирать, а всё сразу? В пакеты да в мусоропровод. И без неё голова пухнет. Но сначала выспаться…
Вместо того чтобы пойти в комнату и лечь, почему-то расстёгиваю молнию и вываливаю содержимое сумки на пол. Открываю шкаф и протягиваю руку к полке за рулоном мусорных пакетов. В куче газет сразу бросаются в глаза несколько тонких тетрадей. Или всё же посмотреть? Просто так. Чему там интересному быть? Какой почерк, много ошибок или мало, двойки или пятёрки – кому это сейчас интересно? Разве что писавшему как повод для сентиментальных воспоминаний. Ежели, конечно, жив.
Тетради старые и сильно пожелтевшие. Со школьных времён таких не видел. Беру, читаю на обложке «Под знаменем Ленина – Сталина вперёд…» Ни фамилии, ни класса, ни школы. Перечитываю лозунг. И куда вперёд, и где это знамя? На последней обложке вечная таблица умножения, какой-то Лесбумпром и тысяча девятьсот сороковой год. Видимо, тогда тетрадь на свет появилась. Остальные такие же. Тетради пронумерованы, всего их пять. Открываю первую. На внутренней обложке короткая надпись карандашом. Почерк кажется странно знакомым. Читаю. Перечитываю. Ещё раз перечитываю. Рулон падает на пол и катится куда-то в сторону. Всё то же.
Миша, не знаю, попадут ли эти тетради когда-нибудь к тебе. Оставлю их на чердаке твоего будущего дома, куда попрошусь посмотреть резьбу. Похоже, мои расчёты оказались слишком простыми, чтобы быть верными. Весь год старался вести что-то вроде дневника и всегда носил тетради с собой.
Ника
7 августа 1941 г.
Раскрываю наобум. Почерк действительно его. Как в прошлогоднем письме. Странные фиолетовые чернила. Я такие только в старых школьных тетрадках видел да на отцовских благодарностях за пятёрки в начальной школе, которым полвека, если не больше.
В голове полный раздрай. Думал, всё закончилось. Вроде бы да. Я вернулся, Ника должен быть здесь уже год. Кому – должен? А здесь – это в каком году? Но тетради сорокового года, исписанные его почерком, да ещё с пугающей датой последней записи? Всё понятно – он там был. Всё понятно? Что – всё? Как это – был? Он что, по времени путешествует туда-сюда? Такси с голубой каёмочкой? Может, действительно пришелец? И тогда где он сейчас?
А я где? Впрочем, где – почти понятно. Квартира моя, это точно. Двадцать седьмое августа – вполне может быть, светает против июня куда как позже. Пётр и Павел час убавил – это в июле. Илья-пророк второй уволок – это второе августа. А тут явно и ещё кто-то от дня немало отщипнул. Год – не раньше убытия, поскольку сумка посередине кухни. А точнее?
Перевожу взгляд на первую страницу.
Глава 30
20 октября 1940 года
Начинаю писать и сам не знаю зачем и для кого. Если это прочтут здесь – мало что поймут. На всякий случай постараюсь быть поаккуратнее в мыслях. Об этих временах разное приходилось читать. Попробую политературнее, с диалогами: столько всего было за два с половиной месяца – хоть писателем становись. А что дальше ещё будет?
Начну с первого дня. Утром мне показалось, что я почти дома. Большой сосны нет. Всё правильно, сейчас пойду в Кобостово на поезд. Это потом я понял, что весь был в эмоциях и не обратил внимания на толстый пень. Пень, а не кочку. А будь я понаблюдательнее, ещё много чего мог бы заметить. Да откуда мне всякие лесные тонкости знать?
С удовольствием потянулся, сделал разминку и пошёл в деревню. Сразу бросились в глаза столбы с проводами. Уже хорошо. С независимым видом свернул вправо и через час…
На краю деревни никого. Спят? Навстречу явно бомжеватого вида старый дед. Покачивается. Пьян, ежу понятно. И какое мне до него дело?
Смотрит на меня слишком внимательно. Что во мне такого увидел? Прохожу мимо. Уже сзади слышу заплетающееся:
– Стой, паря, погоди!
Чего ему от меня надо? Поезд скоро, я домой хочу. Может, послать подальше да побыстрее уйти? Всё равно не догонит.
– Погоди. Не бойся, ничего тебе не сделаю.
Чего мне его бояться? Если что, увернусь да убегу. Всегда успею. Но на всякий случай отвечаю спокойно и вроде бы даже вежливо:
– А я и не боюсь.
– Чего ж меня бояться, не кусаюсь.
Дед вроде спокойный, неопасный. Сейчас начнёт какой-нибудь пьяный бред. Нечасто, но приходилось слышать. Был у Лукерьи Матвеевны такой сосед. Как выпьет – сразу поговорить. И почему-то всегда меня в слушатели выбирал. Ладно, попробую побыстрее отвязаться. Дед тем временем продолжал:
– Кого-то ты мне напоминаешь. Вроде даже знакомы были. Давно когда-то.
– Как давно? Вам лет-то уже много, а мне всего пятнадцать. Путаете Вы меня с кем-нибудь.
– Может, и путаю. Но когда мне как тебе было, сдаётся мне, что тогда.
– Но меня тогда и на свете не было!
– Может, и не было. Кто тебя знает? Но приезжал тогда к Стёпке, дружку моему, два лета подряд один такой, вроде тебя одетый. Постой, как же его звали? Никита? Точно, да. Никита.
Я остановился. Так что, с этим дедом мы позавчера на Волге наперегонки плавали? Но тогда ему должно быть лет сто двадцать, а то и больше! Так долго не живут, да и не такой уж он дряхлый.
Тем временем дед продолжал:
– Говорили, что это его двоюродный брательник какой-то. Да какое мне дело? Брательник, не брательник… Помню, он плавать нас научил как-то по-особенному.
Тут и мне в нём показалось что-то знакомым, хотя что именно – даже сказать не могу. Перебрал в голове всех деревенских. Пашка? Чушь какая-то, быть такого не может! Надо было, выйдя из леса и не заходя в деревню, прямо на станцию да и забыть всё это. Или, раз уж встретились, разобраться, кто да что?..
– Так я на кого-то похож? Да? А может, Вам это кажется?
– Может, и кажется. Или допился ты, Пал Иваныч, что уже мерещиться стало?
Павел Иванович? Точно Пашка. Что-то есть такое, а что – не пойму. Сколько же ему лет?
– Павел Иваныч, а давно это было?
– Да почитай лет сорок с чем-то назад.
Как сорок? Значит, ему явно не сто двадцать, должно быть около шестидесяти. Так что, сейчас тысяча девятьсот сороковой или типа того?
Я почувствовал себя примерно так же, как в день знакомства со Стёпкой. Только тогда всё шло как-то постепенно, а тут сразу обухом по голове. Или я что-то путаю? А если Павла Иваныча этого попробовать разговорить? Может, ему эту историю прадед какой рассказывал, и у него всё в голове перепуталось? Сам говорит – допился. Ну, потеряю час-другой. Так дневные поезда есть. До вечера в любом случае успею. Пришлось показать заинтересованность.
– Павел Иваныч, а Стёпка – это кто? И Никита тоже…
Тут уж он на меня посмотрел:
– А тебе что, интересно?
– Конечно, всё-таки человек, на меня похожий. Правда, жил давно, интереснее бы встретиться вот как с Вами, просто так. Представляете, друг перед другом, как перед зеркалом. Но всё равно интересно.
– Знаешь, на дороге рассказывать долго. Да и выпить мне что-то хочется. Уж извини, что я такой.
Он повернулся и пошёл в сторону дома. Того самого, где когда-то жил Пашка пятнадцатилетний. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним.
Вошли в дом. Мебель почти вся старая, но лампочка под потолком висит да икон в углу не видно.
Павел Иваныч подошёл к столу, налил себе в стакан из какой-то бутыли, выпил и посмотрел на меня.
– Тебе не налью, молод ещё.
Я промолчал. Хотя будь я взрослым, может, и выпил бы. Слышал, что стресс так можно снять. А со мной начиналось что-то вроде того.
Мы сели. Пашка (или Павел Иваныч?) смотрел будто сквозь меня. Потом заговорил, обращаясь непонятно к кому.
– Стёпка от нас через пять домов жил. Одногодок мой, всегда вместе. Нам лет пятнадцать было, когда Никита появился. Поначалу на вид странным каким-то показался, одежда непонятная. Но из себя ничего такого не корчил, быстро своим стал. Плавать нас как-то по-особенному научил. Потом зиму он в городе проучился. На следующее лето вернулся, побыл сколько-то и уехал, а больше никогда сюда не приезжал. Вот на него ты и похож.
Пашка достал жестяную баночку, оторвал кусок газеты, насыпал табаку и свернул самокрутку – я это у деревенских видел. Пришлось потерпеть запах – куда денешься.
– Так вот, Стёпка. Он нам наговорил чего-то, что Никита домой уехал, а потом они далеко куда-то собираются. Так что вряд ли он сюда хоть когда вернётся. Ну, уехал и уехал, нам-то что? А потом к зиме вдруг узнаём – Стёпка женится! Ладно бы мужик! А на вид так младше нас всех. Мы сначала даже рассмеялись. И на ком – на Стешке, она же старше его. Так не положено, мужик старше быть должен. Да и какой он мужик – в пятнадцать-то лет! Одно название. Сосунок! А потом видим – Стешка-то с пузом ходит! И поняли сразу – Стёпкиных рук дело. Ну, не рук, конечно…
Пашка засмеялся, потом продолжил:
– Нас никого на свадьбу не позвали – малы ещё, говорят. Вот те на – жених, значит, не мал! Стёпка сразу к Стешке перебрался, а весной она и родила. Никитой, как пацана того, помнится, назвали.
Я глаза вытаращил. Если весной, то… Опять же и Никита…. При чём здесь Стёпка? Так это что, ребёнок – мой? У меня – сын? Я – отец? Как это? У меня аж дух перехватило. Миша только недавно на свой счёт в этом смысле пошутил – и на тебе! Ладно Пашка в окно смотрел и моего лица не видел. Но сразу понял – так с тех пор сорок лет прошло! У пятнадцатилетнего отца сорокалетний сын? Моему отцу сейчас сорок. Стало быть, у меня и внук может быть. Такой как я сейчас. Сказка про Хоттабыча, где мальчик с бородой! Так его сначала побрили, а потом старик вспомнил и расколдовал. Всё просто обошлось. А со мной какой Хоттабыч играет?
Встретить пожилого Стёпку ещё куда ни шло, к старому Пашке я за этот час вроде бы уже привык. Но увидеть перед собой собственного сына, которого явно неспроста так назвали, который тебе в отцы годится, и ровесника внука – это вообще непонятно что делать. Сказать кому – за идиота сочтут. Дедушка пятнадцатилетний! Стёпка, может, и поверит. А остальные…
Между тем Пашка продолжал:
– А через год Стёпка со Стешкой да с Никитой в Мологу перебрались. Работу он там нашёл на каком-то заводишке да ещё и учиться пошёл. Приезжали иногда с ребятами, они вроде погодки были. Потом всё реже и реже. А как мальчишки выросли, так они и вовсе из Мологи куда-то уехали. Или кто их вовремя надоумил? Нет теперь Мологи. Порушили, разломали всё, а народ выселили. Плотину строят, скоро затопят, только название останется. Так вот.
В голове сразу два слова – Молога и плотина. Значит, действительно… Сразу как-то понял, что домой сегодня не попаду. И завтра тоже. Мысль перескочила – ни Стёпки, ни Стешки, ни их сына (почему их? – моего!) здесь нет. В Мологе если бы – ещё туда-сюда… Но, может, кто-нибудь знает, куда они уехали? Слушаю дальше.
– А я здесь изо всех один остался. Женился, девки пошли, тоже погодки. Потом революция, царя скинули. Нам-то всё одинаково было, кто наверху правит. Наше дело простое – весной сей-сажай, осенью убирай. Потом, мне уж за сорок было, сын родился. Девки выросли, замуж повыходили, разъехались кто куда. А три года назад жена умерла, и остались мы вдвоём. Думал, будет мне опорой какой-никакой в старости, так прошлым летом уехал куда-то, ничего не сказал – и до сих пор нет. Где он, что – не знаю. Вот так один и живу.
Всё это Пашка говорил будто сам себе или в никуда, а потом и вовсе задремал. Я же сидел и совершенно не понимал, что делать дальше. Посмотрел по сторонам, увидел на стене численник, подошёл. Восьмое августа тысяча девятьсот сорокового года. Если, конечно, Пашка листки отрывать не забывает. А если и забывает, так календарь-то не семьдесят лет висит! День как рассчитывал, только год далеко. Значит, что-то всё же было верно. Но плотина – это же перед самой… войной! Да и год! Что же я сразу не въехал? Кричать везде надо! И тут же вспомнил, что и без меня много кто посерьёзнее предупреждал, да всех паникёрами назвали. И как я всё это им здесь объясню? Только рот открою, наверняка сразу арестуют, и уж точно навсегда здесь останусь.
Сейчас, когда пишу, вдруг пришла в голову мысль – а окажись на моём месте Миша, он как? Историю знает куда лучше меня – университет закончил. Значит, знает и всё то, что в ближайшие годы предстоит. Выложил бы эти знания для всех или как робот из старого фильма с включённым инстинктом самосохранения сидел себе тихо да дни считал? Но, с другой стороны, а куда со всем этим пойти? Туда, где могут решать, а главное – понять, просто не пробиться. Даже он, наверное, не смог бы. А куда можно попасть, в какую-нибудь деревенскую милицию, так там от моих слов в ужас придут. Это в кино можно было заявить типа мы из будущего и это самое будущее рассказать какому-нибудь герою из прошлого, и то это самое будущее в фильме не показали. Наверное, так и не придумали, как это снять, чтобы хоть немного правдоподобно получилось. Так что…
Сегодня я никто и без документов. Ещё год, может, обойдётся как-нибудь. Но вот года через два, а учитывая мой далеко не детский по здешним меркам рост, даже и раньше, рослый красавец (с ударением, понятно, на последнем слоге) на улице сразу подозрение вызовет. Чего ж не на фронте? Да и по законам военного времени… Прошлый раз повезло с документами, и время другое, и с пацана какой спрос, а сейчас что?
Открылась дверь, на пороге появилась какая-то тётка:
– Пашка, спишь что ли? Опять пьян? А работать кто будет? Смотри, попадёшь куда следует за саботаж.
Заметила меня:
– А ты кто такой будешь? На Мишку вроде не похож. Или приятель его какой? Из города что ли? Буди его да скажи, что бригадир приходила, пусть на работу идёт, а то худо ему будет. На обратном пути ещё раз зайду, пусть собирается.
Она ушла. Я попытался Пашку разбудить, да какое там…
Однако мне-то что делать? На новую игру под старым ником непохоже. Ни на какую игру. Жизнь – но такого со мной ещё не было. Прошлый раз Стёпку как-то сразу встретил, и всё завертелось. А тут ничего. Даже если я Пашке всё расскажу, и он поверит. Жить у него? И что дальше? И о каком Мишке тётка говорила? Это Пашкин сын? Михаил Павлович – звучит красиво.
Бригадирша пришла скоро:
– Не разбудил? Я так и думала. Пропадёт он совсем. Как Мишка сбежал, так он и запил.
И тут у меня неожиданно вырвалось:
– Так, может, я за него сегодня пойду?
– Иди, если хочешь. Навоз на ферме убирать. Только переоденься, слишком ты чистенький для такой работы.
– Подождите, я сейчас.
Она вышла, я быстро нашёл какие-то старые сапоги, штаны и фуфайку, переоделся и выскочил во двор. Мы пошли к ферме.
Как всё меняется! Скажи мне вчера вечером, что наутро я пойду в полудраном прикиде навоз убирать – ни за что бы не поверил. А теперь вон иду и пытаюсь ни о чём не думать.
Бригадирша представила меня дояркам как Пашкиного племянника, дали мне лопату и вилы, и весь день у меня была довольно интенсивная тренировка в духе ОФП. Работал с азартом, за что удостоился всяческих похвал. Главное было отвлечься. Доярки постоянно подшучивали надо мной. Похоже, они видели во мне вполне взрослого парня, единственного в тот день мужика на ферме, и демонстративно не особо стеснялись. Да и я себя чувствовал совсем не таким желторотиком времён поездки в мышиный музей. По обычному календарю и то прошло больше года, а по моему – сто десять лет назад да ещё сорок вперёд – полтора века!
Но лопата, вилы и навоз только способствовали анализу ситуации (выражение откуда-то из позапрошлой жизни, если прошлой считать гимназию, явно не моё). Если бы расчёты были совершенно неверны, утром я должен был проснуться в том же девяносто девятом году. Но сорок один год день в день всё-таки прошёл. Или Миша прав, я за два года вырос – не только в смысле роста-веса, но и в голове что-то прибавилось. И встреча со Стешкой в сарае меня здорово изменила. А в том временном туннеле какой-нибудь несусветно точный сканер стоит, на всё происшедшее во мне и со мной чётко отреагировал, потому и энергии хватило только на эти самые сорок один год. Если так, то шансы попасть домой минимальны.
Но это всего лишь мои умозаключения, и что на самом деле происходит, я вряд ли когда-нибудь узнаю. В любом случае пока придётся просто жить.
Всё это иногда разбавлялось болтовнёй и шутками доярок. Я внимательно вслушивался в надежде что-то узнать о своих прежних знакомых, но так ничего и не услышал.
Обедали там же. Со мной поделились, при этом всё выспрашивали кто я да что я. Отвечал односложно, боялся сказать что-нибудь не то. Впрочем, разговоры шли вполне бытовые. Разве что иногда меня доярки в краску вгоняли, и видно было, что намеренно и с удовольствием. Но и в самом простом разговоре со взрослыми я часто краснею – что есть, то есть.
Так прошло недели две. Пашка привык, что я живу у него и целый день на ферме. Вечерами слышу его пьяные стенания, жалобы на жизнь. Называет меня Никитой, хотя я официально, так сказать, не представился. Или догадывается, что я – это я?
В деревне многое стало другим. Появились новые дома, старые постарели. Провели электричество. Увидел странный трактор – колёса не на шинах, а с какими-то треугольными шипами. Машин нет, возят, как и раньше, на телегах. Что меня особенно поразило – у храма почти никого. Ещё недавно видел там всех деревенских да ещё окрестных, а сейчас тишина.
Я, конечно, знаю о гонениях на церковь после революции, но увидеть вот так сразу как-то неожиданно. Встретил местного батюшку – старенький, не отец Александр, другой. Хотел было зайти в храм, да он отсоветовал. Будут, сказал, с тобой разбираться, с молодым, ничего хорошего не жди.
Тут он на меня как-то по-особому посмотрел, будто вглядывался. Не понимаю, говорит, кто ты такой да откуда появился. Показалось сначала, что поглазеть хотел на пережитки прошлого (это он почти с усмешкой сказал), да вроде непохоже. И что он во мне такого увидел? Однако посоветовал, чтобы крестик нательный всякие посторонние не видели.
Да чего ж, отвечаю, его показывать – на то он и нательный. А мало ли где рубаху снимешь? Старики да старухи ещё ходят сюда – им бояться нечего. Пока, говорит, жив, службы будут. Вроде обещали не закрывать. Что дальше – о том только Бог ведает. А ты помни: Бог не в храме – в душе.
Пошёл на Волгу, туда, где вроде бы недавно с ребятами купались. Берег изменился мало. Плавал один, с нынешними деревенскими все эти дни почти не пересекаюсь – они какие-то замкнутые (боятся?). В прошлом веке были более открыты – хоть в городе, хоть в деревне.
С Волги отправился домой (Пашкин дом уже моим стал?), и так на душе нехорошо стало. Если бы жил эти сорок лет со всеми вместе – может, и понял бы что да почему. А тут только разобрался, как жить в конце девятнадцатого века – пожалуйте в середину двадцатого! Прими как должное.
Но главное – всё это время я совершенно один. Как не хватает Стёпки, того, прежнего, или Миши! Общение – Пашка, бригадирша, доярки – но всё это взрослые, и никаких мало-мальски товарищеских, а тем более дружеских отношений с ними быть просто не может. С Пашкой разговариваем мало, с бригадиршей только по делу, с доярками иногда пытаюсь отшучиваться с переменным успехом. Взрослые тётки, и как с ними себя вести – не знаю. Им нравится называть меня нецелованным, за обедом сидеть поближе и всё такое прочее – на лице что ли написано? Вот бы им о Стешке да о сарае рассказать – так ведь на смех поднимут!
Ну вот, уже и плакаться начал. Дневнику – бумага всё стерпит. А там, глядишь, очередной посланец из будущего появится, блудного сына утешит. Но почему блудного? Я-то не по своей воле!
Сходил в Полужьево, посмотрел будущий Мишин дом. Сейчас, в сороковом, хорошо выглядит, резьба понравилась. Зашёл на знакомую опушку, набрал грибов, поужинали. Пашка вроде поменьше стал пить. Моё влияние?
На ферме оказалось хорошо. Хотя бы сытый. Да и единственный парень среди доярок, а две даже в бабки годятся. Стешку и Стёпку они должны были знать, потому что всю жизнь в Сельцове живут. Интересно, если я спрошу сейчас о них напрямую – что эти бабки обо мне подумают? Потому как-то за обедом поинтересовался вообще о прежней жизни, при царе.
Наговорили много чего. Жили не то чтобы лучше или хуже – по-другому. Вспомнили молодость, дошли и до Стешки со Стёпкой – оказалось, об их свадьбе много чего в тот год говорили, но в целом то же, что и Пашка мне рассказал. А где они сейчас – не знает никто. Уже лет двадцать пять, как родители умерли, сюда не приезжали. Страна-то большая да и много всего за эти годы было… О Стешке женщины рассказывали только хорошее – так что, Стёпка, выходит, о ней всё врал? Зачем? И почему ни с того ни с сего женился? Да ещё в пятнадцать-то лет? Будто его заставил кто. Но про сарай-то он знал! Что Стешка похвастала – судя по этим рассказам, вряд ли. Может, сам случайно мимо проходил да чего увидел? И о ребёнке будущем на Рождество к своей свадьбе просто не мог не знать. Потому и назвали?..
В какой-то момент мне показалось, что тот Стёпка – действительно мой брат. И не какой-нибудь там придуманный двоюродный, а самый что ни на есть родной. Доведись сейчас встретиться – было бы о чём поговорить, поняли бы друг друга, хоть я ему уже во внуки гожусь. Вот только увидеться нам, похоже, вряд ли придётся…
Накануне первого же выходного народ со станции потянулся. Оказывается, почти в каждой здешней семье кто-нибудь в городе работает. Дети их уже городские. Кто от завода комнату получил, те только раз в неделю приезжают. Утренний поезд называют рабочим, поскольку с ближних станций на нём каждый день в город едут, а вечерним, в шестом часу, домой возвращаются. Так вот почему в наше время такое расписание, хоть и на работу из деревень давно никто не ездит.
Вечером на площади перед закрытой церковью устроили танцы под баян, здесь это почему-то беседой называется. Доярки помоложе и меня зазвали. Присмотрелся, что танцуют, вспомнил гимназический бал на Рождество, изобразил что-то подобное. Получилось не хуже других. Никто особо мной не интересовался, потому легко в тот же день со многими перезнакомился. Пацаны учатся, как они сказали, в ФЗУ, и приезжают только на выходной. Это вроде нашего ПТУ. Называется это ещё фабзавуч, а они, соответственно, фабзайцы (весело, правда?). Учатся на токарей и сверловщиков. Что это такое – я представлял в самом общем виде, особенно первое, какая-то металлообработка, потому без всякой задней мысли спросил, в чём разница. Надо мной посмеялись, чем окончательно приняли меня в свой круг, а потом популярно эту разницу объяснили. Мне же кроме работы с навозом похвастаться было нечем. Не компьютерными же презентациями! Да и те за год подзабыл.
Через неделю вечером, я уже спать собирался, Пашка совершенно ни с того ни с сего как-то особенно на меня посмотрел. Сначала я ничего не заметил, потом стал делать вид, что не замечаю, но он продолжал смотреть. Первым не выдержал я:
– Что случилось, Павел Иваныч?
– Да ничего, Никита, не случилось. Просто понять не могу. Я стал тебя Никитой называть, потому что ты мне того парня напомнил, ты откликаешься, а ведь я твоего имени и не спросил.
– Очень просто, меня тоже Никитой зовут.
– Это ладно, бывает. Но утром, пока ты ещё неодетый, в плавках ходишь, как тот Никита. И рисунок на них точь-в-точь такой. А плавок таких и посейчас ни у кого нет, и само слово это мы тогда от того Никиты узнали. Нам всем матери сшили похожие, а потом они истрепались, да и мы выросли, и всё забылось, даже слово это не сразу вспомнил.
Я промолчал.
– И ещё. Тот Никита непонятно откуда взялся. Думалось мне ещё тогда, никакой он Стёпке не брательник. И ты тоже чуть ли не из лесу вышел. А ведь мал ещё, стало быть родители должны быть, дом, где живёшь. А сирота – так детский дом какой-нибудь. А тут пришёл и остался, будто своего нет.
– Так мне уйти? – спросил я немного вызывающе.
– Зачем, не мешаешь ты мне. Просто понять хочу. Если ты – это он, то почему не вырос, не постарел, как все мы. Может, ты внук его какой, тогда так и скажи.
Я отвёл глаза.
– Молчишь? Значит, точно это ты и есть. Понять я всё это не могу, просто не знаю как это всё так. Да и тебе, похоже, сказать нечего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































