Текст книги "Брат мой названый"
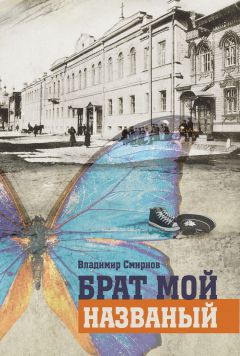
Автор книги: Владимир Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Глава 35
Далее несколько пустых страниц. В каком-то оцепенении закрываю тетрадь. Если бы что-то подобное довелось писать мне, говорил бы, наверное, больше о городе, о людях и нравах. Глядел на всё как бы со стороны – где удивляясь наивности поколения (предков легко судить!), где с иронией, а где и с неким цинизмом. Ника же быстро свернул с описательства, чуть ли не душу стал раскрывать. Если судить по приписке, передо мной?
И как же он в этот год и особенно за последние три месяца изменился! Тогда на набережной – сплошное детство. И внешне, и по разговору. Гимназистик-щенок весь в эмоциях. А в этих тетрадях… Особенно в последней – сколько ему лет? Даже встретиться с таким нынешним боязно, в глаза ему посмотреть… Повзрослел? – не то слово, слишком простое. А на фронт стремиться, как Ника, окажись я рядом с ним, слабо или нет? Есть документы, нет их – вопрос другой. А вот так – чуть ли не очертя голову?.. И никакой военной романтики, он же прекрасно знает, что именно там сейчас происходит. Или время его так перевернуло?
За окном утро. В голове всё перепуталось – две деревни, два города, два времени. Или уже три? Ни планов, ни мыслей. Впрочем, одна появляется – надо ехать на дачу. Прямо сейчас, первым же утренним поездом. Просто отдохнуть безо всякого срока. Привести всё происшедшее хоть в какую-то систему. А там, может, и Молога, и мологжане, и всё остальное вплоть до Бендта понемногу уйдёт в дальние подвалы памяти да там и останется. А всплывёт иногда – так было ли? И что – было? Неосознанная и в итоге неудачная попытка уйти туда? Или здесь что-то мне недоступное? Доберусь ли когда-нибудь до сути всего происшедшего? Может, и к лучшему – эти самые подвалы памяти… Но – Никины тетради, явно отвлёкшие меня от Мологи? Они-то – есть. А сам он после седьмого августа сорок первого – где?..
Тетради беру с собой. Надо внимательно их перечитать, посмотреть какие-нибудь зацепки. Потом найти следы Мишки Рябова в архивах училища и завода. И Мишку настоящего поискать, Михаила Павловича. Фамилию такую я в Сельцове не слышал, однорукого тоже никого там нет. Так сколько лет прошло… Он мог всю жизнь в деревне кое-как с одной рукой прожить. Кое-как – это понятно, на земле работать и двух рук не хватает. Проще всё это водкой глушить, не он первый…
Но почему я так плохо подумал, совершенно его не зная? Может, наоборот: трудно стало, так с силами собрался да в город уехал? Сначала каким-нибудь сторожем, с четырьмя-то классами… И в вечернюю школу, это ещё лет шесть-семь. Если хорошо пошло, так в двадцать три учиться дальше не поздно, после войны много было студентов нестуденческого по нашим меркам возраста. Бабушкин двоюродный брат ушёл на фронт со второго курса, после войны доучивался. И потом, Ника же сказал этому Рябову – жить. Руки нет, а голова на что? У нас после войны были только техникумы, ближайшие вузы в Ярославле. Если по распределению, куда угодно мог попасть. Страна большая…
Однако это можно оставить на потом. Дом его старый для начала найти надо, если уцелел, сегодня вечером и займусь. И кто там живёт? У него могут быть сыновья, дочери, под другими уже фамилиями, внуки взрослые. Видимо, ещё архивные дела местного колхоза потребуются. А если уехал, то будет куда сложнее. Рябов этот, правда, вряд ли что знает, но всё-таки.
А ещё Сашка – но даже его фамилии в тетрадях нет. Только что со Слипа да два старших брата. Да, дядя Коля его отец. Стало быть, Александр Николаевич. Брат – Эрнест Николаевич. Если с войны вернулся и поступил в медицинский… И Серёга с Казанского, но для него Ника, похоже, был просто Мишкой. Как и для остальных его одногруппников.
Имена самые обыкновенные, наверняка придётся тёзок проверять. Сразу вспоминаю, что в истории нашей семьи Сашка из того поколения встречается. Одноклассник старшей внучки прадеда, о котором мне рассказала её сестра. Жили они неподалёку друг от друга, на Мологской. Улица, правда, уже Чкалова называлась. Была у них взаимная симпатия, при бомбёжке старались бежать в одно укрытие. Однажды в конце сорок второго он не успел, а вечером её мать, та самая старшая дочь Василия Гавриловича, дежурившая в тот день в Пироговской больнице, которая тогда, к слову, находилась в здании новой биржи, сказала, что Сашку привезли тяжело раненного и спасти не удалось…
Правда, нужный мне Сашка со Слипа, но там дом его матери. А Ника написал, что Сашка жил в городе, в общежитии… И всё-таки, пожалуй, не тот. Этому Сашке (даже фамилию его знаю – Родионов) в сорок втором было лет шестнадцать, потому что одноклассник. А Мишке Рябову шестнадцать исполнилось осенью сорокового, значит и Сашка слипский должен быть года на два старше…
Мысль как-то сама собой возвращается в прежнее русло. В училищных приказах списки групп с адресами должны быть, тогда с фамилиями разберусь. Однако и Сашке, и Серёге в лучшем случае далеко за восемьдесят. Да и год их в войну призывался… Об Эрнесте и говорить нечего. Но они могли детям-внукам что-нибудь рассказать, особенно Сашка, или дневник вести. Мало ли что? Написать родителям – что они знают о послевоенных поисках бабушки. Может, и в военных архивах что найдётся…
По дороге захожу в соседнюю лавку (или уже магазин, даже супермаркет – пора привыкать), чисто механически кладу в корзину что под руку попадётся, в последний момент пару упаковок заморозки для шашлыка. По дороге оттают, замариновать недолго. Пока буду готовить, хоть как-то отвлекусь. Хотя шашлык наедине с собой?..
Минаш всё ещё на ремонте. Кассы на улице. Билет не глядя кладу в карман и сажусь в поезд. Публика вокруг самая что ни на есть дачная. Всё меньше в руках книг, всё больше в ушах наушников. У всех остальных перед глазами пёстро-газетное чтиво.
Всплывают две строчки из неизвестного стихотворения. Похожи на обломки серебряных времён. «Свеча горела…» тут явно не при чём. «Там шесть приборов стоят на столе, и один только пуст прибор…», «Ты одного забыл – седьмого…» – тоже. Старик эти два по определению не мог написать, первое даже по времени. «Стол накрыт на шестерых…» – предвоенное, но писал опять таки не старик. И потом, может, здесь совсем другое, менора… Хотя я во всём этом мало что смыслю. Если она, то именно в июле сорок первого так написать можно было. Но кто? Надо искать…
Ловлю себя на том, что за сутки так и не вышел в сеть, что мобильник остался дома незаряженным, что до сих пор не знаю, в каком я сейчас году. И день, кстати, рабочий или выходной? Если выходной, то автобусом или маршруткой быстрее и почти до дома. Но у неё могло расписание измениться… Поезд для меня сейчас в этом смысле надёжнее. В последнюю очередь вспоминаю, что и телевизор можно было включить. То ли действительно отвык от всего этого, то ли тетради… Да, и Уткина, которого я сейчас не сообразил взять с собой, а тогда просто поставил на полку, даже не посмотрев (вот уж действительно ленив и нелюбопытен), пролистать надо. Может, надпись дарственная есть или просто какая записка найдётся?
Или единственное письмо Ники в Свердловск – оно должно было уцелеть. Хоть по-детективному – в переплёте того же Уткина от деда спрятанное, чтобы всё это окончательно в прошлом осталось. Свердловск – но там искать негде и нечего. В сорок втором Юля поступила в мед и три года по утрам училась, а вечерами в госпитале. Бабушка Белла умерла в сорок четвёртом, её сын, брат прабабушки Полины, не вернулся с фронта, а баба Юля после третьего курса, как война кончилась, перевелась в Ярославль. Но она уже потом могла что-нибудь написать… И старый плюшевый альбом, там есть несколько довоенных фото – может, тех первомайских сорок первого? Никогда особо не всматривался…
Рядом компания с одним плеером на всех. Не выношу, когда кормят чужой музыкой, придётся потерпеть. На платформе к ним подсаживается бурно встречаемый приятель, которому с трудом находится место рядом со мной. Поначалу весь этот шум меня откровенно раздражает, но вдруг из потока его слов вылавливаю Шумары. Из следующей фразы понимаю, что он там был чуть ли не вчера-позавчера. На его коленях нетбук. Фотки? Тот же рефлекс заставляет скосить глаза. На берегу острова груда кирпичей, рядом уставшие сопротивляться и рухнувшие уже окончательно остатки колокольни. Последние звуки реквиема по всему ушедшему? Или ещё сколько-то времени будет звучать эхо, пока скованная много лет назад раствором на яичных желтках глыба кирпича окончательно не рассыплется? А потом и кирпич…
За эту последнюю новость из прошлого уже готов простить им и плеер, и любую музыку, но вдруг и как-то неожиданно начинается Yesterday – как много в этом слове… Или действительно сегодня мой день? Погружаюсь и смотрю перед собой. Наконец, замечаю. Напротив сидит молодая и вполне себе симпатичная особа самого обыкновенного вида – майка, бейсболка, джинсы, сумка на плече. Правда, без наушников. Особа едет одна и потому явно скучает.
Поезд подходит к Кобостову. Встаю. Она тоже. Спускается следом за мной, так что учтиво подаю руку. Джентльмен-с! Рука благосклонно принимается вместе с лёгким кивком.
Пройдя перрон, спускаюсь вниз и сворачиваю, как обычно, влево. Особе, оказывается, тоже влево. Она что-то говорит, и я не сразу понимаю, что обращается ко мне.
– Извините, сударыня, задумался. Обычно езжу один – привычка.
Сударыня отвечает просто:
– Извинение принимаю, сударь.
На обращение отреагировала адекватно, уже хорошо. Может, год у неё спросить? Глупо, однако, примитивный вариант знакомства типа как пройти в библиотеку. И в вагоне на газетах мог бы посмотреть, и на билете год был, да билет сразу выкинул. Или мне действительно не до этого сейчас?
Сударыня между тем продолжает:
– Кстати, Вы не поможете мне найти Сельцово?
– А это со мной рядом. Как я понимаю, Вы здесь впервые?
– Впервые.
– А кого в Сельцове искать будете?
– И сама не знаю.
– То есть как – не знаю? – последние дни меня уже ничто не удивляет, но эта короткая реплика особы кажется всё-таки странной. – Едете впервые в совершенно незнакомое место. Похоже, только название деревни и знаете. Стало быть, ни к кому конкретно. И зачем тогда, позвольте спросить. Ежели, конечно, не государственная тайна.
– Конечно, не тайна. Хочу найти следы одной семьи.
– Все сейчас корни ищут. То ли мода пошла, то ли действительно люди умнеют.
– А Вы как старик резонёрствуете. Небось, сами тоже по архивам да по деревням…
Как старик? Последний год меня вполне мог сделать таковым. Кто в мире может похвастать, что жил в девятнадцатом веке? Не родился на его излёте, хотя и таким немногим уже двенадцатый десяток пошёл, а именно жил? Но хвост павлин распускать пока не будет:
– Надо бы, да всё не до этого как-то. Впрочем, прадедов знаю. Не бог весть как глубоко, но всё-таки. Кстати, мы фактически познакомились, а так и не представились. Михаил.
– Анна.
Ну конечно, Анна. Кто же ещё? Анна третья после Мологи и питерского поезда. Или меня и здесь кто-то продолжает проверять? А может, третий шанс даёт? Последний?
От садов к садам, от деревни к деревне народ постепенно рассасывается. После Беглецова кроме нас идут поодаль ещё несколько человек.
Неожиданно замечаю идущую нам навстречу Марью Андреевну, соседку из дома напротив. Видимо, собралась в город.
Она здоровается с нами обоими, что меня весьма удивляет. Впрочем, то, что мы с Анной идём вместе, ещё больше удивляет её.
– Вы знакомы? Не знала.
– Мы знакомы уже полчаса. А я не знал, что вы знакомы.
– Ну как же! Аня – подруга нашей Светы, они работают вместе. Света не раз звала её к нам на дачу, да всё как-то не складывалось. Теперь, смотрю, сама собралась.
– Марья Андреевна, я и не думала, что у вас здесь дача. Я в Сельцово иду. Дело там есть. Вроде бы мой прадед в Сельцове родился. Бабушка, жива была, упоминала это название. Вот решила посмотреть, может что…
– Посмотришь – и к нам иди. Миша покажет.
Марья Андреевна попрощалась и отправилась на станцию.
– Стало быть, прадед.
– Стало быть.
– А что ещё Вам бабушка рассказывала?
– Да мало что. А ещё меньше помню. Её не стало, когда я только в школу пошла.
– А как Вашу бабушку звали?
– Анна. И меня в её честь…
Ещё одна Анна, как сговорились все.
– И что кроме имени Вы о ней знаете?
– Да почти ничего. Анна Никитична родилась в двадцать восьмом году под Москвой. Её отец, мой прадед, тогда работал врачом в Крюкове.
По всем законам восприятия сразу реагирую на последнее слово. Вот и ещё знакомое название. Лежит дома пачка фотографий, сделанных в этом самом Крюкове. Снимал отец, когда ему было лет десять или около того, на даче у старшей дочери уже моего прадеда, опять же Василия Гавриловича. Среди них единственное фото, где все вместе четверо его уже более чем взрослых детей. Снимок пятьдесят девятого года, на обороте надпись – «ул. Школьная». А я, попав года два назад в командировку в соседние Химки, решил ни с того ни с сего проехать пару остановок на электричке, увидеть, что это за Крюково такое, да улицу найти. Быстро понял, что дачного Крюкова нет. Всё давно снесено. Город, обычный город. Повернулся и уехал…
– А потом прадед работал в Сибири.
– Сослан был?
– После аспирантуры направили. Всю войну в госпитале, хотя на фронт хотел, он же хирургом был. А когда решили вернуться, ни в Москве, ни в Подмосковье жить было негде, сюда пришлось. Бабушка и сказала, что к дому поближе.
Но вдогонку доходит – бабушка Анна да ещё Никитична! И в таком сочетании уже вторая. Мою прабабушку тоже так звали. Правда, эта Анна Никитична моей в дочери годится. И то хорошо. Но – Никитична…
Ладно, немного помолчать надо, прийти в себя. В девятнадцатом веке бабочку раздавить боялся, так она, что, сюда прилетела?
– А он точно в Сельцове родился?
– Бабушка так говорила, а документов у нас не осталось. Надо будет в архивах поискать, там же церковь была, значит, крестили его в Сельцове. Женился он вроде бы лет в тридцать, бабушка ещё говорила, что отец рано, а сын поздно…
– А скоро и Анна Никитична родилась?
– Вроде бы да… А Вы откуда знаете?
– Да просто так спросил. Что я могу о Никите Степановиче знать?
– Степановиче? Да, его так звали. Но я не говорила… Или… Вы мысли читаете?
Не говорила – это точно. Вопрос задал, что называется, на автопилоте. Поправь она меня каким-нибудь Ивановичем – и всё в порядке. Мало ли Никит на свете? Родился в том же Сельцове годом раньше или годом позже. Можно идти дальше и мило болтать. А уж на месте пусть сама разбирается, что там и где через сто лет сохранилось.
Крыша начинает тихо вибрировать – не к старту ли готовится? Знать бы ещё куда… Еду в деревню – вполне рядовое событие, не заслуживающее никакого внимания. Разговорился с совершенно случайной попутчицей, которая к тому же едет сюда вообще впервые. Что она знакома с Марьей Андреевной – тоже ничего особенного, бывает. Но остальное… Да, отец рано, а сын поздно… Интересно, Анна третья, а прабабушка твоя вдобавок для полного счастья не Мокеевна случайно?
– Знаете, Аня, в Сельцове Вам нечего делать, там с тех пор столько воды утекло. Даже дома, где прадед Ваш родился, не осталось.
– Вы и это знаете? А ещё что?
Что ещё знаю? Да ой как много чего и когда-нибудь расскажу, не волнуйся. И про Мокеевну спрошу обязательно, куда денусь. Но не сейчас. Вот только в голове надо уложить поаккуратнее. Всё путается как-то…
Молчание моё явно затягивается, и Аня перехватывает инициативу:
– Но мы с Вами не родственники?
– Почему Вы так решили?
– А что ещё я могу подумать? Случайно именно у Вас спрашиваю дорогу со станции, куда впервые приехала. Вы, как я понимаю, дачник и, скорее всего, не местный. Купили дом и живёте летом.
– Купили родители, сейчас они к сестре уехали, я только наезжаю иногда по настроению.
– Это ничего не меняет. Что дача Марьи Андреевны здесь – это действительно чистая случайность, не стоящая особого внимания. Мелкое приятное совпадение. А по дороге выясняется, что Вы знаете, как прадеда моего звали. И что дома его в деревне уже нет. Я и решила, что Вы ему кем-то приходитесь. Может, какой-нибудь правнук Михаила Степановича?
– М-михаила Степпановича?..
– Ну да. Это его младший брат, у них разницы всего два года было. У меня только одна фотография есть с ним, где они все вчетвером с родителями ещё в детстве.

Аня останавливается, достаёт из сумки конверт, вынимает из него твёрдую картонку и подаёт мне. Удивлять меня уже нечем, всё как должно быть. Фотоателье, естественно, Пийра. Чьё же ещё? В моё время не то что Пийра – вообще в Мологе ни одного ателье не помню. Да и на паспарту знакомый адрес – Крестовая угол Угличской. Интересно, они к нам сюда всей семьёй приезжали? А может, жили здесь? Вполне могли. Я же говорил Стёпке… Снято, похоже, году в двенадцатом-тринадцатом. Сидят совершенно узнаваемые Стёпка и Стеша моих примерно лет, позади стоят два паренька в знакомых мундирах, слева повыше Ника и смотрит на меня почти в упор.
– Мальчишки похожи на родителей… – ничего умнее этой общей фразы мне в голову не приходит.
– А на кого же ещё им быть похожими? Но о Михаиле Степановиче и его потомках я вообще ничего не знаю, потому и подумала…
Этого младшего брата я принимаю как должное. Стёпка же обещал… И даже его имя. Аня между тем продолжает:
– Разве что осталось сказать, что Вы с ним были знакомы. Жили рядом? В снежки в детстве играли? Работали вместе? Правда, в этом случае Вам должно быть очень много лет – или Вы так хорошо сохранились? А может, он Вас младенцем на руках держал – не Вы же его? Хотя и в этом случае лет Вам должно быть минимум вдвое больше. Ладно, шучу.
Последние два слова несколько гасят нараставший до того сарказм, оставляя только лёгкую иронию. Понимаю. Шутите, сударыня? Ну и шуточки у Вас! Но и мы не лыком шиты:
– Кто кого держал на руках? Конечно же, я его. Разве не похоже? Так вот, заверяю Вас, что мы таки не родственники. А что, это было бы очень плохо?
– Понятия не имею, но случайностей и без этого предостаточно. Может, мне на станцию вернуться?
– Зачем? Вы можете пойти к Свете, она, как я понимаю, Вас давно ждёт. Между прочим, мы почти пришли. Сейчас свернём влево, а там всего ничего.
Это самое всего ничего идём молча. Похоже, оба осмысливаем последний час. Шашлык сегодня явно будет на троих. Свету приглашу по-соседски, Аня, естественно, с ней. Да ещё разговоры…
Света легка на помине. Стоит вполоборота у своей калитки с каким-то довольно длинным юнцом в стандартных джинсах-футболке-бейсболке, кроссовки почему-то через плечо на шнурках висят, и что-то ему объясняет. Юнец кивает головой, похоже, извиняется, что отвлёк. Аня быстро и тихо идёт вперёд, видимо, хочет подойти незамеченной. Это ей удаётся.
Юнец, опустив голову, поворачивает на выход. Это… это… Господи… Уже в полном тумане слышу знакомый, какой-то растерянный голос:
– П-понимаешь, час назад решил отдохнуть немного, до вечера ещё долго. Спустился к воде, захотелось через Волгу и обратно, вроде бы тот берег близко. Плыву, а он как отдаляется. Волга будто шире становится. Ладно, назад повернул. Ничего не чувствовал, вода как вода. Выхожу на берег, а там какие-то ребята с мобильниками…
Полежаево – Рыбинск
2010-13
Стихи из блокнота
«Телефонная трубка дожёвана…»
Телефонная трубка дожёвана —
значит, нечего больше сказать.
На пороге уселись вороны —
им теперь благодать.
Мир как в сказке – притихли певчие,
слышно кваканье за углом.
Горизонты незримой вечности
не штурмуются напролом.
У неправды глаза незрячие,
мысли судорогой свело…
Но душа – вперехлёст, заманчиво —
намекает: пора на крыло!
«Нас разбудит утренний жираф…»
Нас разбудит утренний жираф
и покажет свой весёлый нрав.
Разогнал бы ты, жираф, тоску,
показал бы ты, жираф, Москву.
Ты б для нас построил идеал,
ты б открыл для нас старинный зал,
чтоб сияло множество зеркал.
Он вздохнул, похоже, наяву,
из-за шторы глянул на Неву,
говоря о том, что я неправ,
и о том, что нет на нас управ…
«Появится неумолимо слово…»
Появится неумолимо слово,
ему поверит снег.
И в зеркале асфальта на Крестовой
очнётся двадцать первый век.
Пройдёт он от темницы до светлицы,
улыбкой встретит утренняя хмарь
безумные души его границы,
где посветить откажется фонарь.
Век усмехнётся, глядя на вершину,
и ужаснётся, оглянувшись вниз.
Пожмёт плечом – наполовину.
Земля простит ему каприз.
«Во безумии своём…»
Во безумии своём
спрячься, как в пещере страха.
Поцарапанный копьём,
порвана рубаха.
Распластались по земле
мысли человечьи —
след от камня по воде,
а ответить нечем.
Чья-то проповедь – в душе
след не оставляет.
Бьётся совесть в шалаше —
не святая.
Вдруг снежинка залетит
и осветит.
Совесть спрячется в горсти,
пронесётся ветер.
И опять, опять, опять
мысли старые роятся…
Пожелтевшая тетрадь
с песнями паяца.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































