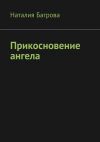Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Накануне королева Бланка пришла в покои, где мирно посапывала в колыбели её новорожденная внучка, и долго стояла там, поджав губы. А потом проговорила, словно бы про себя:
– Что ж. По крайней мере, она способна родить. Это уже кое-что.
Глава восьмая
Понтуаз, 1244 год
В начале зимы года тысяча двести сорок четвёртого от Рождества Христова, незадолго до дня святой Луции, Господь Всемогущий вознамерился призвать к себе Луи Капета, короля земли франков.
Случилось это внезапно, и тем менее было ожидаемо всеми, что за вот уже без малого двадцать лет своего царствования король Людовик никаких поражений не знал, а бедствия принимал столь смиренно и кротко, что бедствия склонялись пред ним и отступали сами, сражённые подобною стойкостью и непреклонным мужеством, нисколько не замутнённым гордыней. Враг Франции, внешний и внутренний, был смят и повержен: ни мятежные бароны, ни альбигойские еретики, ни зарвавшиеся англичане больше не тревожили Францию и не смущали её покой – всех сумел усмирить, приструнить и умиротворить, в конечном итоге, Луи Капет. В той же мере, как и врагов своих, приструнил он также друзей: прелатов, любивших церковь излишне рьяно, а Господа – чуточку меньше, чем следует; рыцарей, не разумевших разницы между словами «война» и «разбой»; судей, по слабости человеческой судивших то слишком, то недостаточно строго; и прочих, и прочих, от кого спасу простому французскому люду не было куда как больше, чем от англичан и еретиков. Луи Капет сеял и жал рожь, чеканил и взвешивал монету, строил храмы, раздавал милостыню, нес мир и спокойствие, а когда мог – то и благополучие. Любили его за это подданные, любили друзья, даже враги его любили, потому что почётно было одержать над ним верх и не стыдно, не страшно было ему проигрывать. Его любила мать, никогда не упускавшая случая поддержать дрогнувший локоть сына. Его любили братья, хоть и не были похожи на него ничем, кроме имени. Его любила жена, после долгих лет бесплодия родившая ему, одного за другим, трёх здоровых детей: первой дочь, а затем и двух сыновей, подарив наконец короне французской наследника, а с ним и спокойствие за будущее династии. В году тысяча двести сорок четвёртом, после осады Монтегюра, окончательно был усмирён бунтующий Лангедок, а с ним и весь Юг. И всё было славно, и добро, и Господом благословенно в королевстве Луи Капета.
А сам Луи Капет взял да и слёг десятого декабря в Понтуазе, и как слёг, так больше и не поднялся.
Лучшие лекари, созванные немедля к его постели, лишь разводили руками. Свалила с ног короля лихорадка, мучившая его и раньше, особенно часто – во время войны с Англией; да и многие его рыцари и придворные тогда переболели ею. Прежние её приступы никогда не были к Людовику столь жестоки; на сей раз Господу было угодно иное.
Королева Бланка во время болезни Людовика была в Париже. Насущные и непрерывные дела требовали участия королевской особы, и она, привыкшая править рука об руку с сыном, без раздумий и колебаний приняла на себя всё бремя забот. Надо ли говорить, что решений её никто не оспаривал, ибо не было ни малейших сомнений, кого бы король назначил регентом на время своей болезни, если бы мог. Он впал в беспамятство с первых же дней недуга, но поначалу ещё изредка выходил из забытья и всё искал кого-то глазами. Королева Маргарита, приехавшая к нему в Понтуаз вместе с детьми, день и ночь проводила подле его постели, и, едва король начинал шевелиться и стонать, садилась к нему и брала в свои руки его пожелтевшую истончившуюся ладонь, а он лишь сжимал её и стонал в полусне: «Матушка?» Господу ведомо, что думала королева Маргарита в такие минуты; но Господь о том никому не расскажет. Один лишь раз король пришёл в чувство настолько, чтобы узнать свою жену. Он спросил, где его мать, на что Маргарита ответила, что осталась в Париже править. «Хорошо; благослови её, Пресвятая Дева», – проговорил Людовик и снова впал в забытье.
То был последний раз, когда он говорил со своей женой – когда он вообще говорил. В ту ночь лихорадка стала ещё суровей, и у Людовика отнялся дар речи.
Маргарита в конце концов по настоянию врачей ушла от его постели и, по сути, слегла сама – многодневное бдение и тревога истощили её душу и тело, и, уходя из спальни Людовика, поддерживаемая под руки своими дамами, она была почти так же худа и желта лицом, как и оставленный ею супруг. Немногочисленные придворные и домочадцы, приехавшие навестить больного государя, шептались по углам, качали головами и надеялись втайне, что королеву утешат дети. Она души в них не чаяла, хотя и горевала втайне, что муж её не проявляет к их чадам – даже мальчикам – такой пылкой и нежной любви, как она сама. Везя детей в Понтуаз, Маргарита надеялась, что Людовик, придя в себя, захочет их видеть – хотя бы маленького Луи, своего наследника, родившегося через год после Изабеллы. Но Людовик не спросил её о детях, только о своей матери. Таков был французский король.
Оставленный Маргаритой пост у одра короля приняли его придворные. Лекари старались держаться подальше – никому не хотелось оказаться под боком в тот несчастливый миг, когда Людовик испустит дух. Обязанности их были тяжелы и однообразны. Король не приходил в себя, постоянно бредил, но, так как не мог говорить, из губ его вырывались лишь ужасные, едва ли человеческие стоны, хрип и рычанье, до смерти пугавшие некоторых особо впечатлительных дам. Поэтому дам вскоре сменили мужчины да пара служанок, коим вменялось в обязанность стаскивать с монаршего ложа запачканное бельё – дело, что и говорить, благородных рыцарей недостойное.
Эти-то две служанки, войдя в королевскую спальню одним морозным декабрьским утром, и увидели, что Господь призвал короля к себе.
Так решила, во всяком случае, та из них, что шагнула в опочивальню первой. Звали её Аннет, и была она ревностной католичкой, а потому сперва перекрестилась, и лишь потом охнула и выронила свежую простыню, которую держала в руках.
– Господи, помилуй! – сказала Аннет, поднимая простыню с пола, и перекрестилась опять. – Отмаялся наш бедный государь. Прими его душу, Господи, хороший был человек.
Другая служанка, именем Жоржина, поглядела на монарший одр сперва в страхе, а потом – более внимательно.
– Никак помер? – сказала она без особой уверенности и, робко шагнув к королевской постели ближе, тем самым сполна проявила свои сомнения в этом прискорбном факте. – Да нет… погляди-ка, Аннет, – одеяло-то на нём шевелится, стало быть, дышит.
– Как шевелится? – спросила Аннет, и обе женщины, не сговариваясь, подошли к кровати и встали по обе стороны от неё, всё ещё теребя простыни в своих пухлых красных руках.
Людовик лежал на постели, вытянув руки поверх одеяла, закрыв глаза и обмякнув чертами. Волосы его, некогда золотые, а ныне грязно-коричневые от пота, липли ко лбу его и бровям. Высохшие, восковой бледности руки были поразительно неподвижными и даже как будто не гнулись – так показалось обеим женщинам, хотя ни одна ни другая не рискнула бы сейчас же проверить. Молодое лицо его – ибо королю не исполнилось и тридцати – не было спокойно, не было умиротворено так, так надлежит отошедшему от мирских забот. Жоржина тут же указала на это Аннет, на что та ответила:
– Оно и понятно, без исповеди ведь отошёл, без последнего причастия. А какой благочестивый при жизни был! Экая беда.
– Вот и говорю тебе – такой, как он, не умрёт прежде соборования. Вот хоть бы его крапивой по пяткам хлестали да со свету тянули на ременной петле – а не пойдёт!
– Эк ты, – смущённая подобным риторическим выпадом, недовольно сказала Аннет. – Пойдёт или не пойдёт – это ему видней, а не нам. Вон погляди лучше, муха над ним кружит. Где видано, чтоб над живыми мухи кружили? Только над покойниками, это всем известно, – и опять перекрестилась, теперь уж окончательно утвердясь в своём первоначальном заключении.
Однако Жоржина не сдавалась.
– Кружит-то кружит, – возразила она, – но не садится. Был бы совсем покойник – так села бы.
Обе женщины уставились на муху, и в самом деле наворачивавшую круги над распростертым телом короля. Минута прошла в напряжённом молчании. Однако муха, похоже, и сама была в некотором замешательстве, и, не желая становиться судьёй суетных человеческих дел, в конце концов улетела в угол комнаты, где и нашла свою судьбу в случайно попавшейся ей на пути паутине.
Лишившись столь ценной свидетельницы, Аннет решила, что безапелляционная лобовая атака поможет победить в диспуте.
– Всё-таки отошёл, – заявила она тоном, не допускающим возражений, и, развернув простыню, которую принесла с собой, собралась укрыть ею короля с головой.
Но Жоржина предугадала маневр и ринулась наперерез.
– Ты что?! А ну как живой, а ты его как покойника – какого было б тебе на его-то месте?
– Да умер же он! Не дышит совсем!
– А я говорю, живой! И муха вот улетела!
– Ай, ай, ладно, ладно, пусти! Уберу простыню, пусти, кому сказано!
– Что пусти? Я тебя не держу…
Сказав это, Жоржина застыла, а с нею и Аннет, уронившая уже простыню на постель. Медленно-медленно опустили они глаза, обе разом, – и увидели, что король Франции Людовик поднял голову от мокрой подушки, вскинул руку и, отведя от лица своего руку Аннет, смотрит прямо перед собой пылающим и слепым взглядом.
Аннет разжала пальцы и уронила простыню, а потом перекрестилась свободной рукой.
– Да, – сказал он голосом, сиплым и страшным от долгого молчания. – Да. Знаю. Я помню.
Он замолчал и ещё мгновенье смотрел перед собой тем же ужасным и непонятным взглядом, а потом вдруг разжал руку и поглядел кругом себя враз помутневшими глазами.
– Что… кто… где я? – прохрипел он, и Жоржина, которой победа в споре придала смелости, отозвалась:
– В Понтуазе, сир. Вы больны очень, уж так сильно больны, мы подумали даже, вам совсем конец настал.
– В Понтуазе, – повторил Людовик и облизнул губы запекшимся языком. – Дайте мне крест.
– Таки собрался отходить, – прошептала Аннет, а Жоржина только глазами захлопала.
– Вам бы лучше… святого отца бы позвать? Мы позовём…
– Крест, – повторил Людовик, приподнимаясь на постели. – Есть у вас крест? Дайте мне крест!
Кто слышал когда-нибудь, как кричат люди на полном исходе сил и на краю могилы, – тот знает, до чего это страшный крик: тёмный, идущий уже словно бы из-под земли. Таков был этот крик короля Людовика – и не таков: не из-под земли он шёл, а словно бы издалека, будто дух его был за много лье от угасавшего тела и изо всех сил пытался теперь докричаться туда, где могли ещё его услышать. И так странно, так страшно и удивительно было слышать этот крик, что Жоржина, королевская бельёвщица, знавшая «Pater noster», но никогда в своей жизни не думавшая о Боге, а тем паче о дьяволе, запустила вдруг руку себе за пазуху и молча, бездумно вытянула простой деревянный крест, который носила на просмолённом шнурке. Крест был большой и грубый, он сохранил ещё тепло её дородной крестьянской плоти, когда она вложила его в холодную руку французского короля. И Людовик, едва ощутив под пальцами шершавое дерево, стиснул его так, что едва не сломал, а потом поднёс к лицу и с силой прижал к губам, словно никогда в жизни не делали ему важней и дороже подарка.
– Благодарю, – шевельнувшись, сказали бескровные губы. – Благодарю тебя. Благодарю.
– Да оно право не стоит, сир, – сконфуженно сказала Жоржина, заливаясь краской от удовольствия, а Аннет, очнувшись наконец, поглядела на неё с завистью – надо же, как повезло! Теперь-то и в Париж позовут, небось, коль выдюжит король…
– Благодарю, – сказал Людовик, обнимая нательный крест бельёвщицы всей ладонью, кладя на сердце и откидываясь на подушку. Так он лежал с минуту, а потом снова открыл глаза и, слабо улыбнувшись склонившимся над ним женщинам, попросил их позвать к нему Гийома Овернского, епископа Парижа, неотлучно находящегося в Понтуазе в связи с опасениями лекарей.
Когда епископ Парижа явился, король исповедоваться не стал, а вместо этого объявил, что принял крест, иными словами – дал обет, если будет Господня воля остаться ему в живых, следующей же весной отправиться в крестовый поход за отвоевание Иерусалима.
Бланка Кастильская, узнав об этом, лишилась чувств.
* * *
Третьего дня после Рождества в Понтуазском дворце, в жарко натопленном зале собрались епископ Парижа, король Людовик и обе французские королевы – мать и жена. Последняя здесь находилась не столько по своей воле, сколько по настоянию короля. В былые времена это вызвало бы неизбежное неудовольствие старшей из королев, и, осмелившись присутствовать при важной беседе матери с сыном, Маргарита тысячу раз была бы испепелена, заморожена и вновь испепелена взором королевы-матери. Но не сегодня, не в этот вечер, непроглядно тёмный даже для зимы; пламя факелов, прореживающее стылую тьму, рвано плескалось во мраке, тревожное, гневное, так и норовящее погаснуть. Пламя это словно являло напоказ те чувства, что из последних сил сдерживали собравшиеся, а в особенности – Бланка Кастильская. Она была в тревоге, в гневе, и чуяла собиравшуюся над её головою тьму, и так всё это было в ней сильно, что вытеснило даже её извечную неприязнь к невестке.
Не до вражды с Маргаритой было королеве Бланке, когда любимый и драгоценный сын её заявил, что выступает в крестовый поход.
– Сир, – сказал епископ Парижа торжественно, печально и сурово, так, как только и надлежит укорять королей, – пред лицом вашей матери и любящей вашей супруги прошу вас в последний раз: одумайтесь.
Он хорош был собой, этот епископ Парижа: высокий, статный, красивый мужчина с гладким и умным лбом, ещё не старый, всегда сдержанный в еде и удовольствиях, благодаря чему избегнувший обрюзглости, которой почти неизбежно поддаются все высокопоставленные прелаты. Людовик его любил – так, как любил всех, у кого благочестивые речи не расходились с делами, – и уважал, пожалуй, больше, чем любое другое церковное лицо, кроме разве что архиепископа Реймского да ещё Папы. Можно было бы даже сказать, что епископ имеет на короля некоторое влияние – настолько, насколько вообще мог влиять на него кто-либо, кроме его матери. Сидя в кресле, немного в стороне от кружка, образованного остальными участниками беседы, Маргарита искоса поглядывала на епископа, рассматривая его сухие тонкие губы, резкую линию изящно очерченных скул, мутное мерцание епископского перстня на тонком и сильном пальце, и думала – неужто он, этот властный, строгий, мудрый и проницательный муж, вправду верит, что сможет переубедить Людовика?
И неужто, думала Маргарита, отводя глаза, вправду верит в это королева Бланка…
Да – королева Бланка и вправду верила, потому что, когда епископ умолк, а Луи не ответил, сказала резко и едва не сварливо:
– Людовик, вы слыхали, что вам говорит его преосвященство? Что вы молчите? Отвечайте же!
Луи покачал головой. Он стоял, сцепив руки в замок за спиной; выглядел он ещё бледным и исхудавшим после болезни, но глаза у него блестели так ярко, как никогда прежде. На нём была простая домашняя котта с нашитым на груди белым тряпичным крестом, и самый вид этого креста, казалось, был для Бланки невыносим. Людовик встал с постели позавчера и уверял, что абсолютно здоров, и сам вышел приветствовать свою матушку, нынче днём приехавшую в Понтуаз – не столько обнять выздоровевшего сына, сколько обрушить на него свой материнский гнев. Сперва она, впрочем, и впрямь обняла его, и обнимала долго на глазах у всего понтуазского двора. Маргарита на всю свою жизнь запомнила, каким было в те минуты её лицо. Лицо это говорило: «Разве для того Богу было угодно вернуть тебя к живым, чтобы ты тотчас же сам бросался на верную и ненужную смерть?»
Верная и ненужная смерть – так она называла его обет.
– Но это же нелепо, – почти простонала Бланка, когда Людовик так и не ответил на её возглас ничем, кроме лёгкого движения головы. – Крестовый поход! Как вам только в голову такое взбрело? О, я знаю как – это всё Жоффруа де Болье и его доминиканцы, он вас с тринадцати лет потчует этой ерундой! Но вы же мудры, Луи, вы знаете не хуже всех нас, что это пустая затея, и…
– Отчего же пустая, матушка? – спросил Людовик голосом звонким и звучным. – Разве прадед мой Людовик и мой славный дед Филипп Август не ходили воевать на святой земле? Разве отец мой не выступал крестовым походом против альбигойских еретиков? Отчего же мне не быть как они?
– Вы ещё вспомните вашего кузена Ричарда Львиное Сердце! – воскликнула Бланка, в негодовании принимаясь мерить комнату широкими мужскими шагами. Маргарита невольно отвела взгляд – она знала, что при иных обстоятельствах Бланка никогда не позволила бы себе такой несдержанности в присутствии епископа или самой Маргариты, и смотреть на проявление столь безудержного смятения свекрови ей было неловко. – И Фридриха Барбароссу – да вспоминайте-ка всех безумцев, кидавшихся на сарацин за последние двести лет. А кому из них сопутствовала удача? Разве что император Фридрих, этот отступник, отлучённый от святой Церкви, позором купивший мир с сарацинами, – и вот кому вы собираете подражать? О, Луи…
– Ваша матушка говорит дельно, – изрёк Гийом Овернский, хмурясь и вертя большими пальцами, что также выдавало в нём чрезвычайное волнение. – Миновало время великих походов и завоеваний, сир, – для нас миновало. Ныне иной враг наступает на нас, враг не вовне, но внутри. Ересь множится и несётся по христианской земле, словно мор. Слово Божие ныне надобно нам несть, а не меч…
– Так и понесу, – оживился Людовик, быстро разворачиваясь к епископу. – Понесу им Божье слово, сарацинам, и хорезмийцам, и египтянам, и… что вы так на меня смотрите, матушка? – резко сказал он, оборвав сам себя.
Бланка и в самом деле смотрела на него, как на помешанного.
– Я слушаю вас, что вы говорите, Луи, и мне страшно. Хорезмийцы? Египтяне? Вы послушайте сами себя! Вы разве о египтянах должны заботиться, вы, французский король, когда тысячи франков зависят от вашей милости, вашей бодрости, вашего благополучия в конце концов…
– Я не только король франков, матушка, я король христиан. Кроме того, я уже принёс обет, и его преосвященство принял его у меня третьего дня – вы же знаете. Пути назад нет.
Бланка всплеснула руками. Епископ продолжал хмуриться, а Маргарита всё так же не могла заставить себя подолгу смотреть ни на одного из них. Это была тяжёлая сцена, но тяжелей всех – она понимала это лучше, чем кто бы то ни было – тяжелей всех было Людовику, который не получил благословения от тех, кому верил и кем дорожил больше всего: от церкви и от своей матери.
И что рядом с этим было неодобрение Маргариты? Ничто. Потому она и молчала, и в безмолвии разделяла боль Людовика так же, как и боль Бланки Кастильской.
Повисло молчание, тяжёлое и неуютное. Бланка с епископом обменялись взглядами, и Маргарита поняла, что они долго и подробно обсудили эту беседу, прежде чем прийти к Людовику. И – что разговор дошёл до того предела, до которого они оба не хотели доводить, но коль скоро уж так случилось, то решено было идти до конца.
– Что же, сир, – медленно проговорил епископ, сплетая пальцы. – Если вы не желаете слушать доводов вашей уважаемой матери, устами коей, могу вас уверить, вещает разум, – если так, вы не оставляете мне выбора. Посему объявляю, что обет, который я принял у вас третьего дня, не имеет силы, ибо вы тогда были больны и в бреду. И сим я освобождаю вас от него.
Маргарита ахнула.
Людовик вздрогнул так, словно его ударили по лицу. Кровь разом отхлынула от его щёк, и мгновение он смотрел на епископа так, будто не верил своим ушам. Но потом он перевёл взгляд на мать, и по тому, как суров был её взгляд и как крепко поджаты губы, понял, что не ошибся. Это был сговор, сговор с целью остановить его. Он стал жертвой интриг своей собственной матери.
– Как вы можете? – дрожаще спросила Маргарита, и Бланка взглянула на неё с таким удивлением, будто вовсе забыла о её присутствии – а может, так оно и было. – Как можете вы, вы же его мать…
– Именно, – будто хлыстом огрела её Бланка. – Именно мать, и когда ваши собственные дети вырастут, вы, быть может, поймёте.
Маргарита хотела ответить ей, хотела сказать – она сама не знала ещё, что именно, потому что не привыкла и не умела открыто выражать своё негодование. Но Людовик определил её.
– В бреду? – повторил он тихо клокочущим голосом. – Говорите, я был в бреду, когда принял обет… что ж. Положим, так было.
– Вот видите, – довольно кивнул епископ, кидая успокаивающий взгляд на Бланку. – Стало быть, на том и покончим…
Он осёкся и чуть не задохнулся, потому что Людовик вдруг схватил нашитый на свою котту крест и рванул его изо всех сил.
Треск рвущихся ниток был оглушителен, и от него вздрогнула даже Бланка. Епископ разинул рот, поражённый таким кощунством со стороны того, от кого кощунства никто бы не мог ожидать. Людовик смял тряпичный крест, вскинул кулак к лицу, и на миг Маргарите почудилось, что сейчас он ударит епископа. Но король лишь шагнул к нему и силой всунул белую тряпку в его разжавшуюся руку.
– Берите, – процедил он. – Берите же, ну! Решили забрать у меня мой обет – так забирайте!
Епископ молча подчинился. Румянец медленно наползал на его гладко выбритые щёки, и Маргарите хотелось верить, что это румянец стыда.
– А теперь, – сказал Людовик, – дайте мне его снова. Я уже не в бреду, как вы видите, не валяюсь в горячке, я стою перед вами здоровый душой и телом – я никогда в жизни не был ещё так здоров. Дайте мне крест. Дайте и не смейте мне говорить, что я взял его, будучи не в себе.
Епископ взглянул на Бланку. Бланка ответила ему взглядом, обещавшим все муки ада, если только он посмеет подчиниться требованию её сына. Ибо Людовик не просил, не испрашивал – он требовал, он приказывал. В лице его Маргарита вновь видела то самое неукротимое упрямство, которое вынуждало её и бояться своего мужа, и не понимать его, и бесконечно его любить.
– Луи, вы не посмеете, – сказала Бланка Кастильская. – Вы… вы не можете… вы не посмеете меня оставить. Если вы уйдёте от меня сейчас, мы никогда больше с вами не увидимся.
Она это сказала как будто не в себе: у неё побелели губы, и казалось, что если сейчас она сделает шаг, то упадёт замертво. Бланка и сама это знала – если б не это, она, может быть, кинулась бы к своему сыну и ударила бы его, или обняла бы, или упала бы к его ногам. Людовик посмотрел на неё взглядом, которого ни одно живое существо на свете не сумело бы постичь, и молча протянул епископу Парижскому руку ладонью вверх.
Епископ бросил на Бланку взгляд, полный замешательства и вины, неловко пожал плечами и пробормотал, что теперь уж что, теперь-то уж никаких оснований отказывать… И со вздохом вложил сорванный крест Людовику в протянутую ладонь, а когда король опустился на колени, перекрестил его и благословил на крестовый поход.
Людовик поднялся с колен, бережно прижимая к груди столь нелегко доставшийся ему крест, и ушёл, не оглядываясь, – один, окружённый смыслами и тенями, невидимыми и неведомыми никому, надёжной стеной отделявшими его ото всех, кто его любил.
Прошло полтора года, прежде чем Людовик смог выполнить свой обет.
Бланка Кастильская и епископ Парижа не лгали ему, не искажали действительность, не кривили душой. Времена нынче стали не те, что были когда-то, и весть о новом крестовом походе, вскоре облетевшая всё королевство, а с ним и Европу, вызвала больше недоумения, чем восторга. Давние и немногочисленные удачи христианских воинов в земле сарацин успели забыться, а недавняя победа императора Фридриха, купленная золотом и лестью в большей степени, чем мечом, поубавила пыл у многих – а иным, напротив, открыла глаза на то, что с неверными можно не только сражаться, но и говорить, не только лишь уничтожать их, но и принимать как равных. Мысль эта не была ещё сильна в головах, но понемногу зрела, и новой войны никто не хотел. Даже Папа Иннокентий IV, которому самим саном его было, казалось бы, вверено поддерживать и даже подбивать будущих крестоносцев на новый подход, отнёсся к затее Людовика довольно прохладно. Именно в то время Папа был крайне увлечён своей личной войной с отступником Фридрихом Гогенштауфеном, потворствующим мусульманству, и спустил на это благое дело все средства, которые сперва обещал Людовику на крестовый поход. Так вот и вышло, что потребовался ещё целый год, повышение податей и настойчивое взимание побора с церквей и монастырей, прежде чем король смог приступить к воплощению своего замысла.
И даже тогда, провожая его из Парижа, люди глядели вслед ему с затаенным недоумением и плохо скрываемым недовольством. Разумеется, все они были христианами и ничего не имели бы против отвоевания Гроба Господня и воцарения их короля в земле сарацин, если бы только для этого королю не приходилось бы покидать их самих на Бог весть сколь долгий срок.
Потому без радости провожал парижский люд своего короля к Средиземному морю – без радости, без восторженных напутствий, без шумного клича и горько-счастливых слёз. Та ли это толпа, что двадцать лет тому назад привела юного, худенького, прямо сидевшего в седле Людовика из Монлери в Париж? Среди людей, провожавших королевский кортеж за море, были и те, кто криками приветствовали своего сюзерена в тот давний день. Сейчас они молчали, и морщили лбы, и хмурили брови.
Король уходил.
Кортеж Людовика не отличался ни пышностью, ни роскошеством, с каким выступали обычно в крестовый поход христианские монархи. Отчасти оттого, что, потратив собранные с большим трудом средства на подготовку войск, Людовик не мог ни денье спустить на внешний лоск и пускание пыли в глаза – буде даже нашёл бы он это денье, по какой-то случайности не использованное на иные дела. Об этом знали его приближённые и советники, но народ, конечно, не знал и видел в скромном, почти мрачном отбытии короля свидетельство одного лишь благочестия, что слегка умалило недовольство толпы. Сам Людовик вышел из Лувра пешком, босой, в тёмно-синей котте под кольчугой и в сером плаще с капюшоном, отброшенным на спину – не то воин, не то пилигрим, неотличимый от сотен воинов и пилигримов, вышедших вместе с ним и присоединившихся к нему по дороге. Босой он прошёл девять лье до аббатства Сен-Антуан-де-Шан, кивая по пути тем, кто кланялся ему, и прощаясь с ними так, будто были они ему дорогими и любимыми друзьями. За ним следом шёл весь его двор – от бледной, неподвижной лицом, суровой королевы-матери до дворовых мальчишек и поварят. В аббатстве король отстоял покаянную литургию, попросил монахов молиться за него и удачу его похода, с поклоном принял личное пожертвование из рук аббата и, поцеловав на прощанье простой каменный крест, воздвигнутый на подъезде к монастырю, обулся, сел в седло и дальше отправился верхом. Впереди его ждал Корбей, где он официально издал указ, оставляющий Бланку правительницей на время его отсутствия, и там он простился с матерью; дальше в Санс, где король присутствовал на генеральном капитуле францисканского ордена и где к нему присоединились несколько сотен нищенствующих братьев; оттуда в Лион, где Людовик увиделся с Папой и долго говорил с ним, чуть не в слезах уговаривая примириться с Фридрихом, чья поддержка в этом походе пришлась бы Людовику очень кстати… Но Папа был неумолим, и, пробыв в Лионе два дня и дав отдохнуть коням, Людовик двинулся в Эг-Морт – новый порт, возведённый им нарочно для этого похода.
Здесь, в Эг-Морте, он остановился и принялся ждать, пока окончательно соберутся его войска и те, кто решился разделить с ним обет.
Маргарита была среди них.
Она и сама не знала, как поступила бы, если б могла выбирать. Конечно, она была благочестива настолько, насколько может и должна быть благочестива жена короля. Но вера её не была неистовой, рьяной, даже горячей не была – Маргарита верила так же, как любила, ждала и терпела: тихо, спокойно, без страсти, без ропота, но с глубокой уверенностью, что всё так, как только и должно быть. Материнство одновременно и смягчило её, и сделало серьёзней, чем прежде; никогда бы она не хотела, чтобы любой их троих её детей стал нищенствующим монахом, и никого из них не хотела бы видеть в крестовом походе, и никогда не решилась бы уйти в крестовый поход сама, расставшись с ними.
Однако она пошла, ибо так было угодно её супругу. Он не спросил её, пойдёт ли она с ним, просто позвал её однажды к себе и сказал, чтоб начинала сборы, да не брала ничего сверх самого необходимого, потому что кораблей у них и так меньше, чем требуется, чтоб перевезти всех людей и припасы. Маргарита лишь склонила голову, услышав об этом.
Немного меньше смирения проявила её сестра Беатриса, ставшая к тому времени женой Карла, младшего и самого беспокойного брата Людовика. Граф Раймунд Прованский выдал свою третью дочь за Карла, пытаясь загладить неприятное впечатление от брака Алиеноры с королём английским – ибо Людовик, а вернее, королева Бланка, никак не могли простить графу Прованскому такого дерзкого и возмутительного поступка. Но не прошло и полугода после свадьбы, когда молодоженам пришлось покинуть Лувр и Париж, и Беатриса, до восемнадцати лет жившая в отцовском доме без малейших забот, беспрестанно жаловалась, капризничала и разражалась слезами, обвиняя Людовика в жестокосердии и неприязни лично к ней. Конечно, делала она это, когда Людовик её не слышал – в глаза его упрекать она никогда бы не посмела, так как боялась его ещё больше, чем Бланки, с которой даже почти поладила. Так что мишенью жалоб Беатрисы стала Маргарита. Она терпела их несколько дней, но затем пресекла, велев Беатрисе прекратить нытьё и заняться сборами в дорогу. Беатриса надулась и с тех пор всю дорогу до Эг-Морта почти не разговаривала с Маргаритой. Они никогда не были особенно близки.
Кроме Карла с Беатрисой, в поход с Людовиком шли также его брат Альфонс, тоже недавно женившийся, и успевший овдоветь Робер. Людовик выражал надежду, что выполнение священного долга поможет Роберу скорее утешиться и забыть о своей утрате, но Маргарите казалось, что на самом-то деле Роберу нечего забывать и утешаться нечем – его супруга оставила мир меньше чем через год после свадьбы, разродившись двумя крепенькими близнецами, и Робер выступал в поход, уже имея наследников, но не имея жены, – о чём ещё мечтать неспокойной душе и буйной голове в преддверии великих подвигов? Из всех домочадцев Людовика именно Робер был в самом весёлом расположении духа и неумолчно болтал о том, как славно они будут сечь сарацин, отчего Беатриса кривилась, заламывала бровки и картинно прикрывала руками глаза.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.