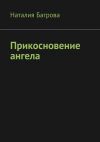Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Только тогда он понял, что это кричал король.
Он кричал, а теперь лишь хрипел, вцепившись руками в свои волосы на висках, всклокоченные, уже пропитавшиеся обильно хлынувшим потом – и не от жары был тот пот, ибо в комнате не было невыносимо жарко. Смертельная бледность растеклась по лицу короля и сползала на шею, синевой покрывая губы, и Адемар де Сен-Жар испугался, не собирается ли король Франции отдать Богу душу прямо сейчас, прямо здесь, при Адемаре, когда рядом нет больше никого. Но что случилось? Что произошло? Ведь не послание же брата Альфонса вырвало из короля этот страшный крик? Адемар не успел даже дочитать это послание, так откуда…
Топот ног за дверью прервал путавшиеся мысли Сен-Жара. В комнату ворвались те, кто только что её покинул: впереди прочих бежал человек одного возраста с Адемаром, невысокий, чернявый, с носом урожденного шампанца и глазами волчицы, услышавшей крики своих волчат. Этого человека Адемар узнал: то был Жан Жуанвиль, которого Робер Артуа частенько осыпал за глаза насмешками и бранью в застольном веселье. Увидав короля, Жуанвиль застыл как вкопанный, и все остальные (среди них был и третий брат короля, Карл Анжуйский – его Адемар тоже узнал) встали вместе с ним.
Король поднялся с кресла, шатаясь, как пьяный. И протянул руки вперёд, отчаянным, почти картинным жестом, исполненным такого великого горя, что оно казалось едва не наигранным.
– Жуанвиль! – закричал король тонким, пронзительным голосом, ломая руки, как женщина. – Я потерял! Я потерял её, я потерял мою матушку!
И он заплакал, громким, детским, истерическим плачем, который было дико видеть у могучего и бесстрашного воина, сильного правителя и короля, которого пока ещё тихо, вполголоса, но уже довольно часто звали Святым. Адемар де Сен-Жар глядел на мужчину, кричавшего и причитавшего, как слезливая баба, и хлопал ртом и глазами, таращась на него изо всех сил.
Слегонца… они говорят – слегонца не в себе? Да ничегошеньки не слегонца!
Король продолжал рыдать, а дюжина рыцарей, среди которых был его брат, его друзья, его подданные и совершенно чужой ему человек, стояли и смотрели на это, чувствуя страх, стыд и неловкость, превышающие сострадание, которое, бесспорно, также должно было тронуть их сердца. Карл Анжуйский, бросив взгляд на Адемара, осторожно подступил ближе и протянул руку. Адемар отдал ему письмо, и Карл, быстро пробежав послание глазами, побледнел почти так же сильно, как Людовик. Однако рыдать и ломать рук он не стал, а лишь смял пергамент в кулаке. И тогда Адемар понял, что король Людовик угадал – что король Людовик знал, быть может, прежде, чем Адемар вошёл во дворец, прежде, чем он сошёл с корабля, или даже прежде, чем сел на него на Кипре.
Адемар де Сен-Жар привёз в Акру известие о смерти Бланки Кастильской, умершей во Франции почти полгода назад.
– Сир, – Жан Жуанвиль подошёл к столу и остановился перед королем, который согнулся над своей Библией и сотрясался от рыданий, низко склонив голову и обхватив её обеими руками. – Сир! Взгляните на меня. Молю вас.
Людовик поднял на него мутные от слёз глаза. Жуанвиль твердо глядел ему в лицо.
– Сенешаль, я потерял мою матушку, – повторил король, как будто в бреду, и Жуанвиль ответил:
– Знаю. Но не это удивляет меня, ибо она была уже не молода, и ей, как всем нам, суждено было умереть. Но меня удивляете вы – вы, мудрый человек, выказываете столь великую скорбь, доставляя радость вашим врагам и печаля ваших друзей. Не таким вас любила видеть королева Бланка.
Слова эти свершили чудо. Если и был тут святой, способный творить дива, то, по убеждению Адемара Сен-Жара, это был именно Жан Жуанвиль, тот самый Жан Жуанвиль, которого так недолюбливал господин Робер. Ибо тихая и суровая эта отповедь подействовала на короля как ушат холодной воды. Рыдания его мгновенно прекратились. Он выпрямился, отняв руки от головы. Лицо его стало спокойно, лишь удивление сонного человека, разбуженного вдруг и понявшего, что он в незнакомом месте, отразилось на этом лице. Слёзы его высохли, и лишь грязные разводы от них остались на его впалых щеках. Он взглянул на своих приближённых, молча стоящих подле него. Затем посмотрел на письмо одного своего брата, которое держал в опущенной руке другой. И провёл ладонью по лицу, словно сгоняя затянувшийся сон.
– Адемар де Сен-Жар, – сказал король, не поворачивая головы, и голос его звучал глухо, как из могилы. – Скорбную весть принесли вы нам. Но и в скорби есть величие. Я знал то, что вы сказали мне, сердцем моим, вот уже несколько месяцев; благодарю, что вы сообщили это и моему разуму. Как могу вознаградить вас за службу?
Адемар, уже решивший, что этот безумный король немедля велит обезглавить его как гонца, принесшего дурную весть, растерялся от такой доброты. Но через миг, к счастию своему, вспомнил, что была одна вещь, о которой он если и мог просить кого-либо в христианском мире, то одного только короля Франции.
– Сир! Ваш брат граф Артуа, господин Робер, взял с меня клятву оставаться в Палестине… Христом Богом вас заклинаю, снимите вы уже с меня эту клятву! Я и так и этак старался, сколько лет уже, а сил моих больше нет! Домой хочу! – взвыл Адемар и повалился перед королём ниц.
Людовик посмотрел на него. Все присутствующие продолжали молчать, и, не получив больше ни одного слова от Адемара, умоляюще стискивавшего руки перед грудью, король обвёл медленным взглядом своих придворных, задержался на брате, чуть дольше – на Жуанвиле, который отвёл глаза. И этот его жест как будто устыдил самого короля. Он вздохнул и опустил руку Адемару на темя. Ладонь его была холодной.
– Адемар де Сен-Жар, – сказал король Людовик. – Освобождаю тебя от данной тобою клятвы. Ты можешь считаться свободным. И все, – он поднял глаза и, повысив голос, обращался теперь к всякому, кто мог его слышать, – все, кто принесли клятву мне и моим вассалам оставаться в святой земле до победы или до смерти, – все отныне свободны, слышите? Передайте каждому. Мать моя мертва, – добавил он, словно отвечая на всеобщее немое изумление. – Франция осталась без регента. Пора мне вспомнить о том долге, которым не сам я пожелал себя облечь, но который возложил на меня Господь. Мы возвращаемся во Францию, господа. Возвращаемся все.
И все разошлись выполнять приказ короля.
Адемар, воспользовавшись правами гонца, остался в королевском дворце отдохнуть, выспаться и наесться, прежде чем пуститься – к великой своей радости – в обратный путь. Будь он немного смекалистей, ему, бесспорно, не удалось бы скоро уснуть в эту ночь: он бы ворочался, вспоминая страшный крик короля, и терзался бы вопросом, отчего Альфонс Пуату отправил именно его, неуклюжего деревенщину Адемара Сен-Жара, донести своему брату весть, которая, как Альфонс Пуату не мог не понимать, раздавила бы короля. И будь Адемар хоть немногим более проницателен, он, может быть, догадался бы, что граф Пуату нарочно послал к Людовику с этой вестью чужого человека, предвидя скорбь короля и надеясь, что присутствие постороннего хоть немного сдержит эту скорбь, хоть немного сгладит. Ибо негоже королю и святому показывать всю глубину своей человеческой слабости. И будь Адемар хоть немного более чуток, он понял бы, как мало было в этом святом короле от святого и короля и как много – от человека.
Собственно, помимо своего невольного участия в этом чудовищном для Людовика дне, Адемар де Сен-Жар ничем больше в истории не отличился. Однако прежде чем оставить его и забыть о нём, следует упомянуть ещё об одной сцене, которой он стал невольным свидетелем, проходя тем же вечером через внутренний двор королевского дворца в Акре. Впрочем, эту сцену Адемар наблюдал вполглаза, размышляя, как бы поскорей добраться до замковой кухни и выпросить там ещё бутылочку пива. Поэтому он едва заметил уже знакомого ему чернявого – Жуанвиля и женщину, которую Адемар если и видел прежде, то не узнал. Женщина стояла с низко опущенной головой и была в трауре. Прядь волос цвета скошенной ржи выбилась из-под покрывала и безжизненно падала вдоль заплаканного лица.
Жуанвиль, стоя с ней рядом, выглядел потрясённым и как будто бы и хотел, и не решался участливо тронуть её за рукав. Должно быть, женщина эта была чужою женой, и не возлюбленной, но другом ему.
– Отчего? – услышал Адемар его тихий голос. – Отчего вы по ней так плачете? Вы же её ненавидели… и она вас так долго мучила, а теперь вы наконец-то свободны.
Женщина в ответ на это лишь улыбнулась одними губами – глаза продолжали плакать – и ответила так же тихо, не поднимая головы:
– Я не по ней плачу, Жан. Я плачу по королю, который так тяжело скорбит.
И тогда Адемар де Сен-Жар понял, что та, о ком говорят эти двое, была Бланка Кастильская. А женщина в трауре была Маргарита, жена Людовика Святого и отныне единственная королева Франции.
Вот, в сущности, и всё, что можно поведать об Адемаре де Сен-Жаре.
* * *
Море, по которому шесть лет назад крестоносцы выступили в Египет, по которому шли они, как по захваченному плацдарму, на этот раз встретило их волнением и недовольством, бурлящим под пенившимися волнами. Море негодовало, как смели они уйти, отступиться, нарушить свои обеты. Ни на одном судне не было больше радостного, лихорадочного оживления, напряжённого предвкушения скорой битвы, готовности слиться с лавиной священного гнева, что вот-вот низринется на головы неверных. Всё это осталось в далёком прошлом. Усталость, недовольство и тоска снедали всех, ибо мало кто снискал в этом походе славу, наживу или успокоение души. И даже радость от возвращения домой не могла смягчить этой тоски.
Море как будто знает, что испытывает человек, отдавая себя во власть воде. Море – как зеркало, отражающее человека, даже если тот в него не решится вглядываться.
На десятый день пути Карл сидел на палубе, играя в триктрак с Готье де Немуром. Он изо всех сил старался не поддаваться всеобщему унынию – ведь они возвращались домой, а там так много предстояло сделать. Карл будил в себе радостное предвкушение, но его не было. Поэтому он глушил дурное настроение вином и игрой – так, как делал всегда. Это неплохо ему удавалось, и к шестой партии, выиграв у де Немура его роскошного арабского скакуна вместе с седлом византийской работы, он уже порядком повеселел. Ветер был попутный, хотя и довольно резкий: он загнал под палубы дам, и оставшиеся мужчины могли вовсю предаваться своим мужским развлечениям в той скудости, которую им придаёт ограниченное пространство корабля в открытом море.
Людовик появился на палубе внезапно. Он редко выходил в последние дни из своих покоев – у него вновь обострилась болезнь, от которой так страдало его войско во время злосчастного похода. Карл в глубине души этому даже радовался: сейчас он вполне мог обойтись без нравоучений своего старшего братца. То, что они наконец плыли во Францию, вызвало в Карле больше озлобления, чем радости. Сколько раз за эти шесть лет он просился у Людовика домой! Но нет, Луи отпустил Альфонса, ссылаясь якобы на то, что тот стал слаб здоровьем и климат Акры ослабляет его ещё больше. Собственного здоровья Луи по-прежнему не щадил, так же, как и чувств своего младшего брата. «Я потерял одного из своих братьев и лишился поддержки другого; останьтесь со мной хоть вы», – говорил он Карлу. Это был приказ, а не просьба. И Карл оставался, теша себя тем, что он нужен Людовику, хотя умом понимал, что капризного эгоизма в просьбе Луи было больше, чем братской любви. Теперь, когда они возвращались во Францию из-за смерти Бланки Кастильской, Карлу стало очевидно, что, не случись с их матушкой это горе, они ещё могли бы просидеть в Акре лет десять, а то и двадцать. Это приводило Карла в бешенство, начисто уничтожившее сострадание к брату, сделавшее Карла глухим и слепым к мыслям и переживаниям Людовика.
Потому-то Карл даже не заметил, как король вышел на палубу и тихо встал у него за спиной, наблюдая за ним и Готье де Немуром. Оба они, и Карл, и Готье, были так увлечены игрой (де Немур пытался отыграть назад своего коня, а Карл был полон решимости этого не допустить), что не заметили короля, и один Бог знает, сколько он там простоял, глядя и слушая, как они бросают кости, азартно вскрикивают и сыплют то восторженной, то досадливой бранью, без которой не обходится ни одна игра.
А потом, внезапно, без малейшего предупреждения и без единого слова, король шагнул вперёд. Сир Готье поднял глаза и, увидев его первым, принялся поспешно вставать. Карл хотел обернуться тоже, но не успел.
Людовик шагнул между ними, схватил доску для игры обеими руками, оторвал её от палубы и, вместе с игральными костями и рассыпанными по столику монетами, швырнул за борт.
От грохота и плеска, которым это сопровождалось, отовсюду сбежались люди. Моряки, ползавшие по снастям, бросили свои занятия и свесились вниз, как обезьяны, вытягивая шеи и пытаясь разглядеть причину переполоха. Кто-то крикнул: «Человек за бортом!» – кто-то в удивлении спрашивал, что случилось. Карл поднялся со своего места и, с побледневшим от гнева лицом, с подрагивающими губами смотрел на своего брата. А Людовик смотрел на него.
Он никогда ещё не был так страшен.
– Сколько вам повторять, – проговорил король низким, хриплым, свистящим голосом, от которого вздрогнул и попятился Готье де Немур. – Играть в азартные игры – дурно. Дурно, Шарло. И нашли же для этого время.
– А чем ещё прикажете заниматься? – Карл знал, что совершает ошибку, но всё равно повысил голос: он было глубоко оскорблен этим публичным унижением и тем, что на них пялились простые матросы. Луи и прежде вёл себя возмутительно, но это уже переходило всякие границы даже для него. – Что, не вышло уморить нас в этой вашей треклятой Акре, так хотите, чтоб мы по дороге домой посдыхали тут от безделья? Может…
– Молчать! – закричал Людовик и ударил кулаком по планширу, через который только что швырнул игральный стол. Удар был так силён, что планшир дрогнул. – Молчать, Карл Анжуйский! Не сметь спорить со мной!
На эту вспышку ушли его последние силы. Он пошатнулся, и Карл машинально поддержал его – просто оттого, что стоял сейчас к королю ближе всех. Людовик не отбросил его руку от себя – он разом ослаб, его голова склонилась на грудь, он часто и хрипло дышал. Пряча глаза от столпившихся вокруг людей, Карл с помощью Готье де Немура помог королю вернуться в свои покои. Людовика бил сильный озноб, он горел в лихорадке и, кажется, бредил. Лекарь прогнал Карла и де Немура и выставил за дверь прибежавшего на шум Жуанвиля. Карл был этому рад: он не хотел оставаться в каюте и слушать надрывное, сиплое дыхание Людовика, слишком похожее на дыхание Робера перед тем, как тот испустил дух у Карла на руках.
К ночи того же дня поднялся шторм. Чудовищные порывы ветра рвали в клочья паруса так, что их едва успевали менять, крушил мачты и захлёстывал палубу гигантскими волнами, смывавшими за борт всё, что попадалось на их пути. Двух или трёх матросов унесло в море, и их невозможно было не то что вытащить, но даже разглядеть в ревущей чёрной тьме. Некоторые каюты дали течь, и самая сильная была в покоях короля, но он, уже придя в себя после дневного припадка, наотрез отказался покидать её. С ним остались Жуанвиль и коннетабль Жиль де Брен, и они по очереди вычерпывали воду, стоя на полу на коленях. Своим людям Людовик передал, чтобы молились. Эта крайняя мера на все случаи жизни и все несчастья и сейчас была, как и прежде, безотказна и хороша – так отчего же нет? Молитва остаётся даже тогда, когда смысл теряет всё остальное.
Карл помогал матросам бороться со штормом, так долго, как мог, но в конце концов разыгравшаяся стихия и его загнала под палубу. И там, в тесном переходе, он едва не столкнулся с Маргаритой, пытавшейся пробраться к люку наверх.
– Вы с ума сошли? – закричал Карл, хватая её за руки и вжимая в покатую стену, мокрую от воды, непрерывно капавшей сквозь задраенный люк. – Зачем вы ушли из своей каюты? Там течь?
– Мне надо к Людовику, – проговорила Маргарита, вскинув на Карла испуганные глаза, но не пытаясь высвободиться из его рук. Он никогда ещё не был к ней так близко, не держал её за руку с тех самых пор, как она прибыла во дворец и играла с ним, восьмилетним, в прятки в огромных, тёмных, холодных покоях Лувра. Воспоминание было головокружительным и чуть не оглушило его, несмотря на безумие, творящееся над ними и вокруг них.
Карл встряхнул Маргариту ещё раз.
– С ним всё в порядке. Возвращайтесь к себе!
– Мне надо к нему! Я должна сказать ему про обет…
– Какой ещё обет, к чертям собачьим? Вас смоет первой же волной!
– Он должен принести обет, – с яростным упрямством повторила Маргарита, рванувшись у Карла в руках. Её лицо было тёмным в полумраке, лишь изредка его освещал отблеск молнии, сверкавшей над их головами. – Обет паломничества в святые места, в Сен-Николя-де-Пор, если Господь уймёт этот шторм…
– Вам бы всё обеты да обеты, хлебом не корми! – в бешенстве закричал Карл. – Господи, да как же можно быть такой дурой! Вы ещё хуже, чем Беатриса, та хоть на месте сидит! Сами и принесите этот ваш чёртов обет, на черта вам сдался Людовик?!
– Он меня не отпустит одну. Вы же знаете… какой он своенравный. Он ни за что меня не отпустит, если я дам обет без его ведома. Вы же его знаете, Шарло!
«О да, я его знаю», – подумал Карл, глядя в её огромное лицо, ничего для него не значившее. Он вжимал её в мокрую от солёной воды стену, и её юбка липла к его ногам, но он этого не чувствовал, потому что и сам вымок до нитки. Как она сказала сейчас про Людовика… «своенравный»? Глупая, глупая женщина, сумасшедшая женщина, такая же безрассудная, как её муж. Карл выпустил плечи Маргариты, взял её холодное лицо в ладони и вжался в её такие же холодные, солёные губы своими губами. Она вздрогнула всем телом под его горячей грудью, вдавившей её в раскачивающуюся стену. Мир шатался, ревел, рушился вокруг них. Карл не знал, зачем это сделал.
Когда он отпустил её, она так и осталась стоять у стены. Карл отступил от Маргариты и, потянувшись, толкнул ладонью люк.
– Я пойду вперёд, – сказал он. – Вы за мной. Я подам вам руку.
Она взглянула ему в глаза, почти такая же красивая в этот миг, как восемнадцать лет назад, когда он впервые увидел её в Сансе, невестой своего старшего брата.
Шторм бушевал всю ночь. К утру море успокоилось, и белые перистые облака, затянувшие предрассветное небо от края до края, были похожи одновременно и на ножи, и на склонившиеся к земле травы, что накануне сенокоса волнами гонит по полю ветер.
Часть четвертая
Король-монах
Глава тринадцатая
Лан, 1254 год
Памятной весной, когда король Людовик возвратился на родину, покинутую шесть лет тому назад, народ Франции ликовал. Оно и неудивительно, ведь народ без своего короля – это как семейство на десять ртов, лишившееся кормильца. Даже если ко ртам прилагаются руки, способные добывать хлеб, то всё равно должен стоять над ними кто-то, кто скажет, где и как этот хлеб добыть, тот, кто решит, кому сколько хлеба сегодня положено, и тот, кто помирит, когда чада его станут драться за лишние крохи. Королева Бланка по мере сил своих выполняла монарший долг, но влияние её теперь уже было не то, что во времена её первого регентства, и распространялось не далее королевского домена. Что же до Анжу, Невера, Шампани, Бургундии, Артуа, не говоря уж о далёких Тулузе, Беарне и Провансе, то там королевской власти было отныне столько же, сколько и короля. То бишь – не было вовсе.
Оттого и радовался простой люд, когда возлюбленный его Людовик наконец высадился в Салене и двинулся к Парижу. И как шесть лет назад народ провожал своего короля на крестовый поход, так теперь и встречал его, возвратившегося, пережившего множество бедствий и потрясений, но счастливо избегнувшего опасности и готового вновь расточать над истомившейся своею страной милосердие и справедливость. Люди толпами валили туда, где шло поредевшее, потрёпанное, но всё ещё большое и устрашающе сильное войско крестоносцев. Криками, песнями и слезами приветствовал простой люд это шествие и отчаянно вытягивал шеи, налегая на плечи впереди стоящих, чтоб хоть краешком глаза разглядеть короля, ехавшего, ввиду общеизвестной его скромности, вместе со своим войском, среди преданных вассалов и друзей, прошедших с ним тяжкий путь от начала и до конца.
Многие, возвращаясь домой, рассказывали домашним, что видели короля своими глазами – он проехал от них на расстоянии вытянутой руки. Для пущей убедительности одни описывали его сверкавшие на солнце золотые доспехи, другие – светлую и радостную улыбку, которой он одарял всякого, с кем встречался глазами, третьи – его величественного скакуна, белого, как свет Божий, четвёртые – роскошь его парчовой мантии, расшитой золотыми лилиями и струившейся по крупу коня его чуть не до самой земли. Слушавшие верили и плакали, как дети, дождавшиеся возвращения любимого отца. Рассказывавшие верили тоже, ибо нет такой легенды, которая не крепла бы и не обретала вид непреложной истины в устах тех, кому хочется, чтобы она была правдой.
В то самое время, когда повидавшие короля счастливцы делились своею радостью со всяким, кто желал их слушать, по дороге из Реймса в Лан ехали двое путников, вряд ли способных привлечь внимание скучающего зеваки. Один из них был невелик ростом и неширок в плечах, но умел держать узду крепкой и твёрдой рукой; был он черноволос, лицо его не было ни красивым, ни безобразным, и лишь умные, цепкие и внимательные глаза с тихой искоркой врождённого веселья оживляли это лицо и притягивали к нему взгляды. Эти глаза, да ямочки в уголках губ, выдавали в путнике весельчака и, может быть, даже язву, всегда готового посмеяться. Но также ясно было, что присутствие его спутника не позволяет не то что смеху, а даже слабой улыбке мелькнуть на его лице.
Спутником этого человека был мужчина лет на десять старше, ещё молодой, но уже усталый и сгорбленный, с потухшим, холодным взглядом. На нём не было золочёных доспехов – лишь старомодная кольчуга из мелких звеньев, надетая под котту. Не было на нём и парчовой мантии – только шерстяной плащ, тёмно-синий, как и большая часть его платья. Конь под путником был не белый, а гнедой, тихий и смирный, не рвавшийся в галоп, и покорно приноравливавшийся к задумчивому, неспешному шагу, задаваемому ему седоком. На лице у этого человека не было радости – лишь отпечаток тяжких и тёмных дум, мучивших его по ночам и не отпускавших при свете дня.
Этот мрачный путник называл своего товарища Жаном, а тот в ответ величал его монсеньором, но с лёгкой ноткой неудовольствия, видимо, досадуя оттого, что не может обращаться к этому человеку так, как привык.
Дорога на Лан в те дни была непривычно свободна и даже пустынна. Все, кто мог оставить ненадолго дом и дела, ушли на юг, поглядеть на короля. Тот следовал в Париж немного иным путём, а не так, как покинул город шесть лет назад, – юго-западнее, через Сен-Жиль, Иссуар, Сен-Пурсен и Бурж. Никому и в голову не пришло бы, что король может очутиться в Шампани, следуя через Суассон и Реймс к Лану, а оттуда – к самой границе с графством Геннегау. Это было севернее Парижа и даже не по пути – что было делать там королю? Даже и подумать смешно.
Из всех простолюдинов, радовавшихся возвращению короля, более всех в те дни ликовали портные, цветочники и держатели постоялых дворов. Ибо праздничные одежды и цветочные гирлянды стали теперь чуть не самым ходовым товаром у тех, кто отправлялся Людовику навстречу (а отправлялись, как уже было сказано, все, кто только мог), и всей этой толпе разодетых и расцвеченных зевак следовало где-нибудь разместиться. Таверны, трактиры и гостиницы были забиты до отказа, и доходило до того, что славным крестоносцам, возвращавшимся на родную землю, самим негде было голову преклонить, потому что всякое ложе, всякий тюфяк и всякое местечко в сарае было уже занято теми, кто шёл их встречать. Всё это порождало сумятицу, толчею и неразбериху, а порой и кровопролитные ссоры, которые наверняка не порадовали бы короля, узнай он, что из-за него поднялась такая кутерьма.
Однако под Ланом было не так. Под Ланом дороги, гостиницы и дома пустовали: все из Лана ушли на юг. Потому-то ланские трактирщики с ног сбивались, зазывая к себе редких постояльцев, и были как никогда внимательны и услужливы с каждым, а местные завсегдатаи, те, кто остались дома, радостно встречали незнакомцев и жадно слушали их рассказы о радостном празднестве, растянувшемся от южного берега Франции до самого Венсенна.
Так было и в трактире «Меч и молот», куда заглянули двое вышеописанных путников, двигавшихся к границе Геннегау. С виду это были ну в точности крестоносцы, шедшие домой, и к ним тотчас же пристали с расспросами. Однако тот, которого звали Жан, ответил, что вовсе они не крестоносцы, а всего лишь беарнские рыцари, несколько лет путешествовавшие по Испании и теперь следующие по делам в Брабант. Черноволосый, носатый Жан вполне походил на беарнца, чего, правда, нельзя было сказать о его белокуром спутнике; ну да мало ли с кем, случается, согрешат знойные прелестницы Беарна, чьи обездоленные сыновья потом странствуют по свету в поисках лучшей доли. К путникам тут же утратили интерес и с уважением, прячущим разочарование, усадили, по просьбе черноволосого Жана, за угловой стол, поближе к камину.
В трактире, как и всегда в те дни, было немноголюдно, да почти сплошь завсегдатаи из окрестных деревень – всего с полдюжины человек. Был также лесничий графа де Куси, владения которого начинались как раз за этой дорогой; но сидел он один, и с ним, хотя и поздоровались, однако же не разговаривали, несмотря на видимую нехватку собеседников. Вновь прибывшие беарнские рыцари к болтливости также не были расположены, и оттого центром всеобщего интереса стал единственный, помимо этих рыцарей, чужак. Он был кузнец из деревеньки Бон-Блесси, что немного южнее Лана, и прошёл, по его словам, с рассвета восемь лье. Кузнец этот был угрюмый бородатый детина с кустистыми бровями, одетый в мешковатое платье бедняка. Он сперва попросил у тавернщика только воды напиться – денег у него явно не было, – но тот, будучи человеком душевным и незлым и видя, что перед ним не просто бродяга, а честный ремесленник, которого с места согнала нужда, спросил, куда тот держит путь. Кузнец рассказал, и тогда трактирщик позвал его в обеденную залу, дал миску похлёбки с салом и усадил с завсегдатаями. Хороший хозяин и в трудные для своего дела времена найдёт чем развлечь и занять дорогих гостей.
– Слушайте, люди добрые, – сказал трактирщик, указывая на кузнеца, – слушайте, что делается.
Добрые люди, разумеется, заинтересовались.
– Из Бон-Блесси я, – поедая похлёбку, мрачно повторил кузнец. – Супружница моя, стало быть, четверых дочерей родила мне, а сына всё не давал да и не давал Господь. Ан вот дал. Пятого… нет, стало быть, уже теперь шестого дня, родила моя Мадлена сыночка. Да только захворала, и сын тяжело захворал. Знахарь наш сказал – родимчик, дескать, а стало быть, дитё-то или помрёт, или к доктору надо. А какие у нас доктора? Да и денег-то надоть на докторов, а где… Ан думаю, раз помрет, то помрёт, видать, Господня воля такая, что не иметь мне сына. Да хоть, думаю, покрестить надо мальца, пока душенька его ещё не отлетела. – На этом месте слушавшие рассказ мужики согласно закивали. Кузнец между тем продолжал: – Ну вот. Иду я, стало быть, к пастору нашему, говорю: отче, так мол и так, покрестите сына, пока не отлетел. А пастор мне и говорит: это оно можно, да только ты, Пьер-кузнец, сколько на этой земле живёшь, а ни разу не делал приходу вспоможение. Я говорю: что за вспоможение? Али лошадь у вас, отче, захромала? Так я могу… А он смеётся, гнида: была бы лошадь, захромала бы, враз бы к тебе пошёл, вот как ты ко мне сейчас. А нет лошадки, пала. А на чём святому отцу ездить теперь? Вспоможение, говорит, давай. Серебром.
Слушатели возмущённо загомонили. Трактирщик усиленно кивал, радуясь, что рассказ кузнеца пробудил в его гостях такой отклик. Очень уже не хватало в последнее время слухов и сплетен посвежее, того, о чём можно поговорить, собравшись в трактире за кружкой пива.
Один из беарнских рыцарей, также слушавших рассказ кузнеца, сделал движение, словно хотел встать из-за стола. Другой удержал его.
– Как серебром? – воскликнул один из тех, кто слушал Пьера из Бон-Блесси. – Да как же это, за крестины – и серебром? Или у вас десятину не берут?
– Да как не берут, всё берут. А вот так, говорит: серебро давай, а не то пусть твой пащенок помирает как есть – да в лимб. И никакого ему, говорит, Царствия Небесного тогда не видеть, так и знай. Да как же, я говорю, отче, у меня ведь и жена болеет, я последнее, что было, знахарю на настои для неё отнёс. Вы, говорю, сейчас сына покрестите, а после сочтёмся.
– А он что?
– А ничего. Когда, говорит, серебро – тогда, стало быть, и крестины. Ну вот, – добавил он после недолгой, густой от негодования тишины, – так что иду теперь, стало быть, по соседним деревням, ищу святого отца, чтоб согласился к нам прийти и дитё моё с миром на небо проводить. До рассвета встал и иду. Восемь лье прошёл.
– Да неужели за восемь лье не нашлось ни одного совестливого священника?
– Ан вот, не нашлось. Наша-то деревня на холме стоит, а по другую сторону холма – Бон-Бюссон. Я сразу туда, а тамошний пастор в Лан уехал, к епископу, прошение какое-то подавать. Я оттуда в Жиссак пошёл, а там пастор занят, похороны нынче у него, рыцарь какой-то из замка неподалёку от старости помер, отпевать надо. Я в Плесье, а там пастор говорит: ваше Бон-Блесси – не моя епархия, что я буду с вашим пастором ссориться, по что мне это… Я говорю: заплачу, святой отец, как есть заплачу. Ну, знаю, стало быть, что вру и что Господь проклянёт, а всё одно вру, потому как иначе невмоготу… Он так глянул на меня, подумал и говорит: деньги покажи. А денег-то у меня и нет. Я ему сказал, что дома осталось, да он не поверил.
– Так что ж ты теперь? – спросил трактирщик, когда кузнец умолк.
Тот ответил ему угрюмым взглядом.
– А что теперь… Там дальше по дороге чего?
Ему ответило несколько голосов, каждый называл свою деревню. Кузнец кивнул.
– Ну вот… стало быть, туда и пойду. Авось приведу кого-нить сегодня к дитятке своему… авось смилуется над его душою Господь.
Низкий, сдавленный звук, похожий на приглушённое рычание зверя, раздался из дальнего угла, где сидели беарнские рыцари. Все с удивлением взглянули туда. В полутени мало что можно было разобрать, но, похоже, один из них теперь чуть не силой удерживал другого. Лицо кузнеца сделалось испуганным: похоже, он решил, что прогневал своими жалобами благочестивого рыцаря, оскорблённого нареканием на требования духовника.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.