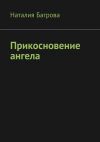Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Завершив свой монолог этим нетривиальным признанием в любви, сир де Куси захохотал раскатистым, заливистым и добродушным смехом, который охотно подхватили и его рыцари.
Людовик слушал всё это, не шевелясь и не прерывая, ни словом, ни вздохом, ни даже движением глаз или бровей не выдав своих чувств. И лишь Жуанвиль, проживший бок о бок с ним многие годы, мог по мельчайшим, почти незаметным глазу признакам уловить глубокое изумление, негодование и растерянность, которые король испытывал в эту минуту. «Господи», – подумал потрясённый Жуанвиль с жалостью. А ведь Людовик и в самом деле до этого дня не знал, зачем идут в поход девять десятых крестоносцев. И правда, откуда ему это было знать? Он не имел привычки вот так, неузнанным, бродить среди простых людей. Он часто ходил в казармы и беседовал с простыми солдатами, спрашивая, что им нужно, и помогая по мере сил, – но стоило ему появиться, как все замолкали, брань, сальные шутки и хохот утихали, и уж точно никто никогда не стал бы вести столь грубых и столь откровенных в своём цинизме разговоров в присутствии короля. Не потому, что боялся кары, – Людовик не стал бы карать за правду, какой бы неприглядной она ни была. Но они все жалели его, жалели своего доброго, пылкого, праведного короля, искренне верившего, что всякий, кто взял крест следом за ним, сделал это лишь потому, что и его сердце, подобно сердцу Людовика, неудержимо тянуло за море, что и ему град Господень Иерусалим являлся в видениях и снах. Людовик, пройдя через войну, через плен, крах и крушение всех надежд, верил до этого дня, что подвёл людей, которые шли с ним лишь потому, что, как и он, всем сердцем любили Бога.
Теперь, в ужасе осознал Жуанвиль, глядя на застывшее лицо своего короля, ноша его станет ещё более тяжела. Ему и так было трудно нести своё поражение, а теперь станет ещё труднее, когда он поймёт, как мало из его соратников на самом деле разделяли его мечту и разделяют теперь его скорбь.
Жуанвиль попытался помочь ему, насколько мог.
– Не все рассуждают так, как вы, мессир, – заметил он как можно более небрежным тоном, не желая, чтобы его слова приняли за попытку завязать ссору. – Некоторые рыцари, и их немало, шли в Иерусалим не за наживой, а за Гробом Господним.
– Пусть так, – легко согласился сир де Куси, насмешливо глянув на него. – Да только они со своей благородной целью в своём походе обрели меньше, чем нажил я, оставаясь дома. Так-то, мессиры! Да я не со зла, – добавил он, разглядев наконец тучу на лбу Людовика. – Вы, я так вижу, люди набожные. Вы не подумайте, я Господа чту, у меня и капеллан свой есть, да только он спит нынче, вина вчера перебрал и что-то поплохело ему. Мы службы правим. А что не бьём челом об доски по десять раз на дню, как наш король, – так не всем же такими быть!
– Почему? – спросил Людовик. Де Куси с удивлением посмотрел на него, и он повторил: – Почему не всем?
– Ну довольно! – вдруг, словно почуяв своим женским чутьём опасность, вмешалась прелестная мадам де Куси. – Ах, мужчины, всё бы им об одном толковать – им бы всё только война и Бог, а хуже того – война и Бог, слитые воедино! Я вас спросила, хорош ли собой наш король, а вы вон до чего договорились. Какая тоска! Мессиры, ну расскажите же что-нибудь презабавное, вы же столько перевидали там у сарацин. Правду говорят, что женщины их прячут лица за шерстяными платками, даже в самую жуткую жару? И что мужчины берут себе по пятнадцать жён, и всех с собою на ночь кладут в одну постель? Ну же, мессиры: долг хозяина – угощать вином и мясом, долг гостей – отплатить занятным рассказом.
– Единственное, что я могу вам рассказать занятного, мадам, – сказал Людовик, обращая на щебечущую птичку тяжёлый взор, – это поучительный пример из Библии, кою вы, как мне мнится, обходите вашим вниманием. Что угодно послушать вам: о том, как женщина должна чтить дом и гостя мужа своего, или о женских добродетелях, первой среди которых является послушание и скромность?
Мадам де Куси выпучила на него глаза, в миг перестав казаться Жуанвилю хорошенькой. Лицо её исказилось гневом – всего на мгновение, но этого хватило, чтобы её безвозвратно обезобразить. Жуанвиль бросил встревоженный взгляд на хозяина замка, но тот лишь хлопнул своими мясистыми ладонями по широко расставленным коленям и расхохотался.
– Так-то, дорогая супружница, получила? Вы не гневайтесь, мессир, не смотрите, что она из меня верёвки вьёт. Я, и верно, многое ей спускаю. Люблю чертовку! И не променял бы, вот вам крест, на пятнадцать сарацинских жён, закутанных в шерстяные покрывала.
– Добрый христианин даже самую дурную жену, данную ему Господом, не променяет и на тысячу чужих женщин, – отрывисто сказал Людовик, и де Куси захохотал ещё громче, качая головой и утирая катящиеся слёзы. Похоже, беседа с гостем доставляла ему истинное наслаждение.
– Да вы, я погляжу, даром что с юга, а окситанской заразе не поддались. Славно это, мессиры, скажу я вам! Очень славно!
– Ангерран, – вконец разгневанная (и, как всё больше убеждался Жуанвиль, гнев совершенно её не красил), мадам де Куси пнула мужа ножкой под столом. – Сколько раз говорить, чтоб не называл великое искусство трубадуров «окситанской заразой». По крайней мере при мне!
– Право слово, как хорошо, что ты мне напомнила. Эй, Арно! А ну выйди-ка и спой нам пару-тройку твоих виршей. А то как раз подадут жаркое.
Действительно, пришла пора смены блюд. Слуги унесли опустевшие миски (к которым Людовик не притронулся, и Жуанвиль, немного стыдясь перед ним своего голода, тоже), и заменили их новыми, полными мелко порубленного мяса, пряно пахнувшего луком, перцем и шафраном.
– Лёгкая прикуска перед олениной, господа. Не брезгуйте, – попросил сир де Куси, выуживая рукой из миски кусок пожирнее. – Славная крольчатина из моих собственных лесов. А про кроликов сира де Куси слава катится до самого Суассона, уж можете верить.
– Верим, – коротко сказал Людовик, по-прежнему не делая движения к столу. – Про ваших кроликов, сир де Куси, мы и вправду наслышаны.
Пока сменялись блюда, из-за дальнего края стола выбрался замковый менестрель. Был он высокий и тощий, как жердь, и ступал, выбрасывая ноги вперёд, словно настоящая цапля. Костюм его был одновременно щеголеват и вульгарен: длинные фальшивые рукава блио спускались почти до колен, а когда певец ёрзал на ларе, который по такому случаю притащили и поставили в центре зала, рукава эти волочились по не слишком чистому полу. Засаленную бархатную шапочку с обвислым пером менестрель кокетливо сдвинул набок. После чего забросил ногу на колено, упёр в неё лютню – и запел, вытягивая шею и кидая томные взгляды на мадам Ангелину.
Слепую страсть, что в сердце входит,
Не вырвет коготь, не отхватит бритва
Льстеца, который ложью губит душу;
Такого вздуть бы суковатой веткой,
Но, прячась даже от родного брата,
Я счастлив, в сад сбежав или под крышу.
Спешу я мыслью к ней под крышу.
Куда, мне на беду, никто не входит,
Где в каждом я найду врага – не брата;
Я трепещу, словно у горла бритва,
Дрожу, как школьник, ждущий порки веткой,
Так я боюсь, что отравлю ей душу.
Пускай она лишь плоть – не душу
Отдаст, меня пустив к себе под крышу![1]1
Стихи в переводе А. Г. Наймана.
[Закрыть]
– Что это такое? – в изумлении спросил Людовик, отвернувшись от певца и переведя взгляд с сира де Куси на его жену.
Мадам де Куси свела брови. Сир де Куси снова хлопнул по колену.
– Ну! А я говорил!
– Это великая песнь любви знаменитейшего трубадура Арнаута Даниэля, – надменно изрекла мадам де Куси. Похоже, кредит её благосклонности к заезжим рыцарям исчерпался до конца. – Наш верный Арно – его прямой потомок и духовный наследник…
– Ага. А заодно потомок и наследник святого Павла, – вставил сир де Куси, но супруга не удостоила его колкость вниманием.
– …посему развеивает нашу скуку виртуозным исполнением этих величественных секстин. Не правда ли, – горящие очи мадам де Куси обратились на Жуанвиля, в котором она женским чутьём распознала менее чёрствое, чем у его неотёсанного спутника, сердце, – не правда ли, это восхитительно?
– Что восхитительно? Я ни слова понять не могу, кроме того, что там было что-то непристойное, про «плоть отдать, не душу», – в недоумении сказал Людовик.
Менестрель между делом продолжал петь, нимало не смущаясь тем, что его не слушают: свита де Куси отдавала крольчатине явное предпочтение перед поэзией и оказывала ей заметно больше почестей и внимания. Сам де Куси смотрел на Людовика уже просто в каком-то восторге.
– И я о том же говорю! – завопил он. – Я тебе говорю, Ангелина, какой-то смысл в этой белиберде только ты одна да твой менестрелишка находите. А хотя он, право слово, больше бы нашёл, сумей он забраться тебе под юбку, как с самой осени мечтает. Да только хрен!
– Ах! Бесстыжий! И при гостях! – вскрикнула мадам де Куси и в гневе запустила в супруга кроличьим бёдрышком.
Сир де Куси хохотал, мадам де Куси возмущённо бранилась, свита де Куси хрустела костями, менестрель верещал, тренькая по струнам и пытаясь перекричать гам, поднятый развеселившимися господами, а в лесу, меньше чем в лье от этой залы, висели на суку три разлагающихся трупа. Жуанвиль не знал, как долго ему и королю придётся оставаться здесь и что задумал Людовик; он мог только ждать. И он ждал.
Прошло не более пяти минут. Потом Людовик сказал, по-прежнему сидя за столом, не двигаясь с места и не повышая голос.
– Довольно. Я король Людовик, и я пришёл вас судить, сир де Куси.
В первый миг, как и следовало ожидать, слова его не оказали никакого действия. Большинство собравшихся их вообще не услышали, кто-то засмеялся, кто-то отпустил шутку, и никто не принял заявление всерьёз.
– Эге, да он же вроде и не пил! – воскликнул один из рыцарей, а другой добавил:
– Да сразу видно было, что головой двинутый. Видать, в Палестине напекло!
Людовик встал на ноги и повторил, на этот раз громче:
– Я король Франции Людовик Девятый. Я пришёл судить сира де Куси.
Едва Людовик встал со скамьи, Жуанвиль поспешно поднялся за ним следом.
Шум, гомон и смех понемногу стихли. Менестрель поиграл ещё чуть-чуть, потом понял, что что-то стряслось, взял фальшивую ноту и смолк. Наступила тишина.
– Король Людовик, – фыркнула в этой тишине мадам де Куси, бросив презрительный взгляд на худощавого, высохшего, бедно одетого человека, который стоял напротив неё, пока сама она сидела на своём сундуке. – Да я скорей поверю, что наш Арно и впрямь потомок Арнаута Даниэля, чем в то, что вот этот – потомок Карла Великого!
Людовик молчал. Он дважды повторил свои слова, и теперь, когда их наверняка уже все услышали, не мог унизиться до уверений и доказательств. Он просто стоял и молча смотрел сверху вниз на сира де Куси.
Сир де Куси не засмеялся, в отличие от своей свиты, и не снасмешничал, в отличие от своей жены. Несколько бесконечно долгих минут он неотрывно смотрел на человека, которого принял гостем в свой дом, но который не съел ни крошки хлеба за его столом.
Сир де Куси не мог знать, но то был обычай, который король Людовик узнал от сарацин: не преломляй хлеба с человеком, которого не можешь с уверенностью назвать другом. Нарушение закона гостеприимства и вероломство гостя в чужом доме было одним из самых страшных грехов среди мусульман. И это был один из тех законов, которых, по мнению Людовика, недоставало в мире христиан, чтобы он стал раем на земле.
Медленно-медленно, будто столетний старец, сир де Куси оторвался от кресла и встал в полный рост. Он в самом деле оказался высок, но всё-таки ниже короля. Теперь, когда они стояли оба, это было очень заметно.
– Король Людовик, – так же медленно проговорил он, не сводя глаз с неподвижного лица своего гостя. – Сам святой король Людовик в моей скромной обители… вот как… и без свиты… с одним оруженосцем…
Он замолчал. Было ли это угрозой? Жуанвиль вдруг ощутил холодный пот, выступающий на лбу и на шее. Такие, как этот сир де Куси, не брезгуют ничем. Закон ушёл из Франции вместе с королём, а честь, пожалуй, ушла ещё раньше; вместе с законом ушёл страх, а вместе с честью – благородство. Сир де Куси, ничем не отличавшийся от тысяч подобных сиров по всей Франции, был простой разбойник, засевший в своём родовом гнезде, как в логове, не уважавший никаких святынь, не боявшийся никакого суда, даже – и особенно – суда Божьего. Мог ли он, этот рыцарь-разбойник, воспользоваться тем, что прямодушный до беспечности и благородный до глупости король Людовик явится к нему сам, да и не просто так – а арестовывать и, вы послушайте только, судить? Если он король – читалось во взгляде сира де Куси – то где его подданные? Если он полководец, то где его войско? С ним только и есть, что этот тщедушный оруженосец, которого щелчком перешибить – невелико дело. А там пожалуйте ночевать, ваше величество, да не в сарай, а в башню донжона, а завтра потолкуем, кто кого да за что арестовывать станет…
Был ли этот добродушный и беспринципный разбойник настолько самонадеян, чтобы захватить в плен короля Франции? Ещё шесть лет назад Жуанвиль ответил бы на этот вопрос: нет, никто не может быть настолько глуп. Но Франция без короля была совсем не то, что Франция при короле. Слишком долгая безнаказанность сделала робких смелыми, смелых – наглыми, а врождённых наглецов – отпетыми негодяями, не знающими никакого предела в своём бесчинстве.
И неведомо, чем бы всё это кончилось и насколько большим негодяем оказался бы сир де Куси, если бы в ту минуту в залу не вбежал мажордом, пронзительным криком возвещая беду.
– Господин мой, господин мой! Войско у ворот!
– Как? – гаркнул сир де Куси, круто разворачиваясь к нему и вмиг забыв о Людовике. – Блузье? Сейчас?!
– Не Блузье, мой господин. Король! Королевская орифламма, и знамён сколько глазу видать, помилуй нас Господь!
У сира де Куси отвисла челюсть. Если до этого мгновения он ещё и принимал своих гостей за самозванцев, то теперь последние сомнения отпали. Он кинулся к бойнице и припал к ней, выглядывая наружу. Жуанвиль оглянулся на него, и в самом деле смутно слыша снаружи какой-то шум, какой могло производить большое количество людей. А потом в недоумении взглянул на короля, и тот – редкая радость в последние месяцы – улыбнулся ему, чуть виновато пожав одним плечом. Ну конечно… Слава Богу, Людовик всё-таки был не настолько опрометчив, чтобы совсем одному соваться в логово беспутного сеньора, вполне способного, судя по его поступкам, на мятеж. Когда они были в аббатстве, король, вероятно, передал через монахов весточку своим войскам, часть из которых уже должна была прибыть в Венсенн. Разумеется, большая армия не успела бы подойти к замку Куси одновременно с Людовиком и Жуанвилем. Но большой армии и не требовалось, вполне достаточно было нескольких знаменосцев. Хотя – Жуанвиль в этом нисколько не сомневался – если бы понадобилось, король вполне готов был взять замок Куси штурмом и сровнять с землёй. Он любил правосудие и не любил неповиновения ему (правосудию, а не себе лично), столь же сильно, как не любил ересь.
– Сир Ангерран де Куси, – сказал король, – я арестую вас за убийство трёх фландрских юношей, тела которых до сих пор не преданы земле. Станете ли вы повиноваться? Отвечайте.
В нём ничего не изменилось – ни голос его, ни движения, ни осанка или лицо. Всё было таким же, каким и в тот миг, когда он вступил в эту залу. Сир де Куси отвернулся от окна и посмотрел на короля безумным взглядом, словно было ещё мгновение колебания, когда он размышлял, не стоит ли захватить короля и Жуанвиля заложниками и закрыть ворота. Но он быстро понял, чем ему грозит такой поступок. Он лишь отсрочит свою кару и сделает её ещё более страшной. А так… так ему грозит только суд за тех трёх щенков… а от суда можно откупиться. Да, от любого суда можно откупиться.
Все эти мысли выступили на взмокшем лбу сира де Куси столь явно, словно были выведены там чернилами. Он окинул свою примолкшую свиту выпученными глазами и рявкнул:
– Встать!
Все поднялись, как один человек. Встала даже мадам де Куси, не сводящая теперь с короля расширившихся, небесно-голубых прекрасных глаз.
– Это разумно, – спокойно сказал король. – Жуанвиль, арестуйте сира де Куси.
Жуанвиль выполнил приказ без промедления, обнажив меч и отобрав оружие у хозяина замка, ошеломлённого столь стремительным развитием событий. Король двинулся к выходу. Мадам де Куси упала на колени и молитвенно протянула к нему руки, но жест этот был столь картинным, что Людовик даже не взглянул на женщину. Он спустился из донжона вниз и вышел к своему войску, приветствовавшему его восторженным криком. Все, кто знали короля, страдали в разлуке с ним, даже если она была недолгой.
Жуанвиль предполагал, что король будет судить сира де Куси тут же, на месте. Однако Людовик, похоже, решил использовать эту историю в качестве показательного процесса. По его приказу сира де Куси под усиленной охраной препроводили в Париж, где заключили в башне Лувра до суда, назначенного через две недели. Людовик особенно тщательно позаботился о том, чтобы с арестантом обращались согласно его общественному положению и чтобы он не голодал и вообще не слишком страдал от тягот заключения в Лувре. Ибо, как сказал Людовик своим приближённым, удивлённым такой добротой, законный судья тем и отличается от убийцы, что первый всякого почитает невинным, пока судом не доказана будет его вина; а второй – убивает сразу.
То, что кто-то должен считаться невинным до суда, даже будучи отъявленным негодяем, было столь ново и столь непривычно, что вызвало множество нареканий со стороны определённых лиц, в частности, от прелатов святой матери Церкви, а в особенности – от отцов-инквизиторов.
И, как всегда, до того и после того, Людовик всё равно поступил так, как считал нужным и должным, не оглядываясь ни на чьи нарекания.
Ясным апрельским утром 1254 года сотни простых людей – парижан и жителей предместий, – собрались в Венсеннском лесу. Их пришло бы и больше, если бы толпу, сгущавшуюся с самого рассвета, вовремя не остановили и не рассеяли сержанты королевской охраны. Впрочем, сам король вряд ли знал, что его так охраняют, – а если бы знал, то непременно сделал бы выговор коннетаблю, ограничившему число присутствующих тремя сотнями. С точки зрения коннетабля, впрочем, и это было чересчур – слишком много людей слишком близко к королю, да и не обыщешь каждого, потому что собирались они не в закрытом пространстве, а под чистым небом, меж стройных осин и клёнов Венсенна. Однако тут коннетабль был бессилен: король желал, чтобы процесс над сиром Ангерраном де Куси проходил как можно более открыто. Сие означало, что каждый, кто захочет, может прийти и послушать, как король Людовик, возвратившийся на родную землю, вновь, как прежде, станет вершить суд.
В Венсеннском лесу есть дуб, стоящий особняком от прочих. В тысяча двести пятьдесят четвёртом году от Рождества Христова дуб этот не был ещё столь могуч и велик, как в последующие века, когда ему суждено было превратиться в место едва не сакральное, в объект паломничества и поклонения. Так же, как это бывает с людьми, дуб этот снискал себе славу в юности, но лишь состарившись смог во всей полноте пожать плоды этой славы.
Дуб этот прославился тем, что его очень любил король Людовик. Королю нравилось сидеть под этим дубом на голой земле, прикасаясь ладонями к прохладной траве, душистой от утренней росы, слушая шелест листвы над головой и дуновение мягкой прохлады, сохранявшейся под раскидистыми ветвями даже в самый знойный день. В этой любви к дереву, к земле, к месту, не освящённому никакими христианскими реликвиями, было что-то глубинное, мощное, что-то почти языческое; хотя Людовик, конечно, пришел бы в негодование, выскажи кто подобную мысль. Но правда в том, что истинному христианину надлежит отрешиться от всего, что есть на земле, и устремить взор свой к небу; Людовик же, несмотря на страстное желание поступать так, как надлежит христианину, всё равно упрямо цеплялся за землю. Жуанвиль находил в этом что-то в равной мере трогательное, забавное, многозначительное – и характеризующее его обожаемого короля лучше, чем любой панегирик, который слагали ему уже в те времена льстецы. Король любил сидеть на земле, упираясь спиной в ствол дикорастущего дуба. И здесь, на этом же месте, король до отбытия в Палестину предпочитал вершить суд. Он часто приходил сюда в окружении немногочисленной свиты, и люди знали, что можно просто прийти к нему в этот час со своей бедой, ведя за руку своего обидчика, – и король, не пожалев времени ни для крестьянина, ни для старьевщика, ни для женщины, выслушает и рассудит всех. Жуанвиль почти всегда был рядом с ним в такие дни, и он всегда замечал то внимание, с которым король выслушивал жалобы, ту задумчивость, с которой он выносил решения, ту улыбку, которая венчала дело и по которой было ясно, что король рассудил не лишь по закону, но и по собственной совести.
Он поступал так не только оттого, что считал это верным, но и оттого, что ему просто нравилось так поступать.
То апрельское утро, впрочем, несколько отличалось от прочих подобных дней – и не только непривычно большим скоплением народа. Дело де Куси за две недели, прошедшие после официального возвращения Людовика в Париж, приобрело большую огласку и было на устах у всех: о нём говорили в тавернах, на рынках, в церкви и на брачных ложах. Все знали подробности, и все гадали, как же король накажет зарвавшегося вассала. Принимали даже ставки (разумеется, тайно, полуподпольно, ибо король, не выносивший азартных игр любого толка, хотя и не запрещал их, но страшно бы разгневался, если б узнал, что сам невольно стал предметом подобных пари). Большинство сходилось на том, что на сира де Куси будет наложен огромный штраф, наверняка больший, чем взимается обычно в подобных случаях. Ставка за такой исход в задних комнатах таверн была три к одному.
Итак, к восьми часам утра (хотя суд был назначен на полдень) вокруг Венсеннского дуба было не протолкнуться от зевак. Многие волновались, так как от исхода дела зависел их выигрыш в пари. Но даже те, кто не преследовал шкурного интереса, были полны нетерпеливого ожидания. В десять часов стали прибывать бароны – не как судьи, но как простые зрители. Сир де Куси требовал сперва, чтобы его судили судом баронов Суассона, однако король отказал ему на каком-то туманном юридическом основании, которое мало кто понял и которое, однако, было совершенно неопровержимо. Жуанвиль, втайне подозревая, что Людовик немного схитрил, твердо знал, что король считал это ложью во спасение – ничто иное не заставило бы его лгать. Он хотел судить сира де Куси сам. А когда король Людовик чего-то хотел, помешать ему было не в человеческих силах – что лишний раз подтвердил его крестовый поход.
Вслед за баронами, в одиннадцать утра, привезли арестанта. Он был в кандалах, но потому лишь, что за день до суда разбуянился и, как говорили, напал на охрану – подобной дерзости даже всемилость короля Людовика стерпеть не могла. Сир де Куси был мрачен, сильно небрит и, громыхая своими цепями, с ненавистью зыркал на переговаривавшихся баронов. Чернь его взгляда, само собой, не удостоилась.
Наконец, ровно в полдень, прибыл король.
Он ехал верхом, в сопровождении только нескольких рыцарей, одетый почти так же просто, как в тот день, когда они с Жуанвилем въехали в предместья Лана. Только расшитая лилиями мантия (подбитая, однако, не горностаем, а белкой) выделялась в его платье, и смысл такого облачения был столь же ритуальным для Людовика, как и этот дуб. Король был спокоен и, кажется, даже весел – он улыбался, разговаривая с коннетаблем, что ехал с ним бок о бок, и по толпе, едва кончившей разражаться приветственными криками, тут же прошёл ропот: король весел, стало быть, будет снисходителен. Один Жуанвиль да, быть может, ещё пара-тройка присутствующих, знавших короля достаточно хорошо, сознавали, что на самом деле может значить эта улыбка.
Король спешился и сел под дубом – на сей раз, ввиду торжественности случая, не на голую землю, а в кресло, поставленное на небольшом возвышении. В обычный день король, буде ему угодно, может сидеть на голой земле вровень со своими вассалами, но королю-судье надлежит возвышаться над тем, кого он судит: этого даже Людовик не мог не понять.
Затем вперёд вышел епископ Шартрский. Людовик тут же встал с кресла и, опустившись на колени, сотворил крестное знамение. Все последовали его примеру – в том числе и сир де Куси, которого двое стражей опустили на колени силой. Епископ Шартрский прочёл подобающую случаю молитву. Король повторял за ним слово в слово, опустив голову к груди, потом трижды перекрестился и, сказав: «Господи, помоги!» – встал. Вслед за ним встали и остальные.
Суд начался.
В те времена ещё не столь широко использовали защитников; судья сам был и защитник, и обвинитель, сам допрашивал и сам выносил приговор. Король безропотно взял на себя эту ношу и, во всех известных ему подробностях, рассказал собравшейся толпе о преступлении, в котором обвинялся сир де Куси. Нужды в этом не было, ведь каждый из присутствующих знал суть дела, однако Людовик твёрдо решил придерживаться принятых правил. В конце своей речи он повернулся к сиру де Куси, которого его стражи по-прежнему удерживали стоящим на коленях, и спросил, не хочет ли тот сказать что-либо, прежде чем начнётся суд.
Сир де Куси сказал:
– Ещё бы, дьявол меня разрази! Хочу! Я требую судебного поединка – вот что!
Толпа загомонила так, что заглушила предупреждение короля, велевшего сиру де Куси не сквернословить.
Судебный поединок, иначе называемый ордалия, был священным правом каждого обвиняемого ещё со времён короля Хлодвига. Всякий, обвинённый в грабеже, убийстве или колдовстве, мог потребовать заступничества у самого Господа Бога. Обвиняемый или, если сам он не мог держать меча, назначенный ему представитель вступал в смертную схватку с представителем обвинения. Бог указывал, кто прав, обагряя его меч кровью виновного. Древнее, священное право, которое не любила церковь, ибо слишком часто заступниками обольстительных ведьм становились могучие рыцари, пленённые их чарами, – однако право это соблюдалось веками.
Король выждал, пока толпа угомонится, и сказал:
– В просьбе отказано.
Сир де Куси выпучил глаза. Толпа онемела на миг, а потом опять поднялся крик. Впрочем, он тут же смолк, когда Людовик поднял ладонь.
– И впредь, – сказал король, – в подобной просьбе будет отказано каждому, кто потребует суда Божьего за свои проступки. Господь станет судить грехи ваши, когда преставитесь пред очи Его. Но за свои преступления отвечать станете на земле, и негоже задавать Господу лишних хлопот. Нынче утром я подписал указ, запрещающий в моём королевстве ордалии. Судья, допустивший подобное, будет караться лишением должности и штрафом в сто двадцать су. Слишком часто, – добавил король в окружении потрясённо молчащей толпы, – хитрость и случай решают дело там, где должны главенствовать разум и право. Силе не до́лжно быть могущественней закона; закон отныне будет единственной силой. Сир Ангерран де Куси, если не имеете больше ничего сказать, то отвечайте: повинны ли вы в убийстве, о котором я только что рассказал?
Сир де Куси был так поражён внезапным поворотом дела, что только пучил глаза и хватал ртом воздух. По побагровевшему лицу его и шее обильно катился пот.
– Вот сам и решай, повинен я или нет! – рявкнул он, потеряв, похоже, все остатки почтения к королю, который был совсем не таким королём, каким ему, по мнению сира де Куси, надлежало быть.
Людовик ответил на дерзость кроткой улыбкой и сказал:
– Хорошо.
Были допрошены свидетели. В их числе оказались: аббат Фукье из Сен-Николя-о-Буа, приютивший погибших фландрских юношей; лесничий де Куси, тот самый, что сидел в таверне под Ланом в утро, когда её посетили король с Жуанвилем, – это он заметил браконьеров в лесу сеньора и донёс; также выступили четверо егерей, по приказу де Куси схватившие и казнившие юношей. Последние ужасно боялись и ещё сильнее робели, не столько страшась за собственную участь, сколько не в силах поверить, что такое мелкое, с их точки зрения, происшествие так далеко завело.
Когда один из них высказал эту мысль, король нахмурился.
– Вы, стало быть, почитаете это происшествие «мелким»? – спросил он.
Егерь, приятно поражённый тем, что сам король Франции говорит ему «вы», приободрился и ответил честно и почти не запинаясь:
– Да мельчей не бывает, ваше величество, право слово. Браконьеров у нас развелось немало в последние годы, всё, говорят, неурожай, вот и повадились за чужой дичинкой. Невелико диво, видали, знаем.
– И часто ловите вы браконьеров на землях вашего сеньора де Куси?
– А это уж когда как, ваше величество. Бывает, что по трое в год, а бывает, что и пять раз по трое.
– И как же вы поступаете с ними?
– Да как ведомо – к сиру, а там уж как сир повелит.
– И что же обычно велит сир?
– Да что ж? На сук, и дело с концом. Раз попался – то плати. Что же возиться-то?
Егерь искренне недоумевал, совершенно не представляя, за что судят его господина.
– Стало быть, – помолчав немного, сказал Людовик, – ты, егерь Жеан Понфлю из Лана, считаешь, что кто попался за преступленье – тот должен сполна за него понести ответ.
– А то!
– И я с тобою в этом согласен. Вот только скажи: а как ты, егерь Жеан Понфлю, отличишь преступленье от непреступленья?
Егерь озадаченно заморгал.
– Так ведь… сир сказал: вешать, значит, вешать.
– То есть закон – это то, что сказал твой сир?
– А то! Как есть.
– Добро, – кивнул король, и егерь встрепенулся, а с ним вместе и толпа, в то время как бароны переглянулись, а некоторые и поморщились. Просторечным словом, вырвавшимся как будто невольно, король притянул к себе ещё ближе одних и ещё немного оттолкнул других. – Раз так, то вообрази, Жеан Понфлю, что сир де Куси возжелает твою жену…
– На что она ему! – воскликнул егерь почти весело; он понял, что ему самому тут ничего не грозит, и от радости забылся настолько, что перебил короля. – Она у меня страшна как первородный грех. Да и мадам Ангелина всё одно краше всех баб да девок в Суассоне!
Вряд ли бы мадам Ангелина оценила столь некуртуазный комплимент. Сир де Куси тоже его не оценил и сказал со своего места егерю несколько слов, от которых тот враз сошёл с лица. Король этих слов, по счастью для сира де Куси, не расслышал.
– Всё равно, – сказал Людовик. – Вообрази, будто твоя жена возбудила у сира де Куси то низкое чувство, что зовётся в народе страстью. А может, он просто решил досадить тебе за то, что ты свидетельствуешь на суде против него.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.