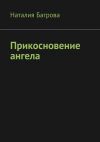Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Глава шестнадцатая
Шампань, 1270 год
Летним погожим днём на винодельне, что в угодьях сенешаля Шампани, четверо рослых, сильных, упругих девушек топтали в бадье виноград. Все они были ладные, красивые здоровой крестьянскою красотой, свежие и спелые, как те ягоды, что они мяли ногами. Девушки задирали юбки до самых колен своими красными, натруженными руками, одна из них пела, а трое других отплясывали в ягодной жиже, расползавшейся под их жёсткими пятками, загрубевшими от каждодневного ношения сабо, – так и мелькали крепкие ляжки, побуревшие от виноградного сока. Жан Жуанвиль стоял в тридцати шагах от них, прислонившись к дереву, и глядел.
А в тридцати шагах от Жана Жуанвиля стояла Мари Жуанвиль и глядела на своего мужа.
Должно ли жене благородного рыцаря ревновать своего супруга? О, этот вопрос Мари Жуанвиль тысячу раз задавала себе, Господу Богу и своему исповеднику. Ибо ревность была вторым именем и первой натурой Мари Жуанвиль. Ревность поселилась в её сердце ещё прежде, чем любовь: едва узнав своего будущего супруга, выбранного ей отцом, она взревновала его, и ревностью полюбила. «Дурно ли это?» – спрашивала она на исповеди перед венчанием, и святой отец, крестивший её когда-то, ответил: «Очень дурно, дитя моё. Ревность похвальна тогда лишь, когда она проявляет себя в служении. А если в зависти – то очень, очень дурна». Мари Жуанвиль постаралась запомнить это, и всякий раз, когда сердце её наполнялось знакомой, привычной, неудержимой яростью, она убегала к себе, запиралась, била себя по рукам и твердила: «Дурно, дурно! Ты злая, злая, Мари». Так она провела двадцать пять лет, уверенная в своей дурноте и злобе, и ни разу, ни полсловечком не обмолвилась об этом своему мужу.
Лето измучило землю зноем, урожай винограда в Жуанвиле не удался, и казалось, что работы для местных виноградарей будет мало. Однако сенешаль заявил, что дело можно и должно поправить, ежели взяться с умом. Больше месяца ездил он по всему графству, торгуясь со знатными сеньорами и с бедными фермерами за каждую гроздь. Ездил даже к графу Тибо Шампанскому, которого вроде не очень любил, и с которым долго не мог сторговаться; помогло только то, что супруга Тибо, Изабелла, дочь короля Людовика, хорошо относилась к Жуанвилю и, видимо, уговорила супруга пойти ему на уступку. Вернулся сенешаль довольный, сопровождаемый большим обозом отборного винограда. Но дорога отняла время, и виноград уже начинал бродить, оттого мять его надо было тотчас, не откладывая. Потому и позвали девок: все мужики, становившиеся на лето, как это называли в народе, «давильщиками», были при деле, а виноград ещё оставался. Что же – позвали девок. Мальчишки со всей округи бегали посмотреть, как они задирают юбки, – да только их прогоняли прочь, а тем паче если сам мессир сенешаль являлся поглядеть, как тут его виноград. А уж если и супруга сенешаля… какие уж тут тогда мальчишки – совсем срам.
Оттого Мари Жуанвиль смотрела на своего мужа – и ревновала. Ревновала ли к этим девушкам, в которых видела свежесть и задор, давно утерянные ею самой? О нет. Ревновала ли она когда-либо к бесстыжим, развратным красавицам-сарацинкам, о которых вдоволь наслушалась от заезжих менестрелей и рыцарей, просивших крова в замке Жуанвиль? Нет. Ревновала ли к дерзким, пресыщенным парижанкам, окружавшим её мужа изо дня в день, пока она, одна-одинёшенька, в окружении детей и собак, дожидалась его в Шампани? Нет, нет, нет. Мари Жуанвиль лишь два раза в жизни видела предмет своей ревности, то единственное существо, которое всю жизнь вызывало в ней вспышки зависти и почти что неудержимой злобы; лишь дважды, но этого ей хватило, чтобы отравить свою жизнь и каждый час, такой редкий час, проведённую ею с мужем наедине.
Существом, к которому ревновала Мари, был король Людовик.
Она никогда не говорила с ним, кроме того раза, когда Жуанвиль представлял её ко двору (чтобы на следующий же день отослать обратно, домой, в Шампань), и хотя многое о нём слышала, но знала, что он ещё лучше, чем о нём говорят. И чем он лучше был, тем сильней она его ненавидела. Она даже рада была, что Жуанвиль никогда не звал её за собой в Париж, никогда не предлагал поселиться с ним при дворе. Она боялась, что, оказавшись вблизи короля Людовика, не сможет больше держаться. Она видела это порою во сне, как подходит к нему, сидящему под этим своим знаменитым дубом, к такому доброму, наивно глядящему на неё прекрасными большими глазами снизу вверх, как нищий или дитя, встаёт над ним и кричит: «Отдайте моего мужа!»
Отдайте моего мужа…
Сперва она радовалась, что ей достался супруг, который так близок к королю. Дружба их не ослабевала с годами, и ещё больше окрепла после совместного крестового похода. Порой Жуанвиль сердился на своего короля, порой король сердился на Жуанвиля, но это были ссоры добрых друзей, и происходили они – Мари была уверена в этом – лишь от порывистости и неудержимой честности Жуанвиля. Она знала, какой он честный: в их первую брачную ночь он сказал ей: «Вы нехороши собой, Мари, но я этому очень рад, ведь я увалень и неумеха, и женщин совсем не знаю. Мы будем очень счастливы, вот увидите». Ему было семнадцать лет тогда, а Мари – пятнадцать, и она растерялась от его прямоты, в равной степени жестокой и доброй. И годы не переменили его: он по-прежнему был до крайности прямодушен, и, Мари знала, многими нелюбим за это – но только не королём Людовиком.
Жуанвиль сказал ей правду в ту первую ночь: он не знал до неё других женщин, и, Мари была уверена в этом, после неё тоже не знал. Он вправду был не очень умел в постели (с отчаяния и от злости она несколько раз согрешила в его отсутствие, так что могла сравнить), но это оттого, что плотские утехи мало волновали его. Притом он не был чрезмерно набожен – не более, чем любой другой царедворец Людовика; он не любил ни азартных игр, ни охоты, ни даже войны, и в крестовый поход когда-то пошёл без особого рвения, жалуясь Мари, что это предприятие его разорит – что, кстати, в конце концов и случилось. Он и виноделие не слишком любил – верней, был к нему безразличен, как и ко всему в этом мире – ко всему, кроме встреч и бесед со своим дорогим королём. Он питался своим королём, ел своего короля, пил своего короля, молился на своего короля и в голове не держал, что можно иметь в жизни какой-то иной смысл. Мари Жуанвиль не сразу сполна поняла всё это: потребовались годы, но когда осознание пришло наконец, оно было непоколебимым и неотвратимым, как приговор святой инквизиции.
Рассказывая о Париже, о Палестине, о королевском дворе, о битвах и молебнах, Жуанвиль никогда не говорил «я», только «мы с королём». Мы с королём пошли туда, мы с королём видели это, мы с королём, мы с королём.
Порой Мари хотелось спросить его: отчего? Что в нём такого, в этом святом короле? То, что он молится много? Но Жуанвиль сам не слишком аккуратно молился и ходил к обедне. Приезжая в Шампань, случалось, по неделе службы пропускал. Так что же тогда?
Мари Жуанвиль, искренне считавшая себя дурной и озлобленной женщиной, была достаточно добра и великодушна, чтобы никогда не задавать своему мужу этот вопрос. Не только по одной доброте, впрочем: в те редкие дни, когда он приезжал, она так радовалась ему и так упивалась его присутствием рядом, что ей было жалко времени, чтоб снова говорить о том, что и без того отнимало слишком много её душевных сил во всё время его отсутствия. Когда-то она ещё пыталась увлечь его рассказами о детях, об их успехах, но Жуанвиль слушал вполуха, рассеянно кивая и ловя любую возможность, чтоб снова вставить извечное «мы с королём». Порой Мари не знала, кого ненавидит больше: Людовика или самого Жуанвиля. Она прелюбодействовала только из одной этой ненависти и из мести им обоим, а после всякий раз горько раскаивалась и стыдилась, ведь ни перед Богом, ни перед людьми её муж ни в чём не был повинен. Если он и был так смертельно, так неистово предан своему королю, то в этом не вина его была и не умысел даже, а только его собственная беда.
Иногда он оставался дома долго, неделями, месяцами, и это обычно значило, что они с Людовиком в ссоре. В первые дни Мари радовалась, но очень быстро радость сменялась тоской и тревогой. Будучи в размолвке с королём, Жуанвиль никогда не бывал счастлив. Ни ласка жены и суета детей, ни летнее солнце и душистый сок винограда – ничто не могло вызвать на его лице улыбку, ничто не окрашивало румянцем его щёки. Он никогда не рассказывал Мари о том, отчего именно они ссорились, но она догадывалась, что, должно быть, король снова спросил что-то у Жуанвиля, а Жуанвиль, к своему несчастью, снова ответил честно. Людовик любил честность куда больше, чем обычно любят её монархи, но вообще очень мало людей любят честность, когда она абсолютна. Жуанвиль, на свою беду, не знал меры ни в откровенности, ни в дружбе – так же, как Людовик не знал меры в своём служении Богу. Порой Мари со свойственной всем несчастным женщинам проницательностью думала, что именно это отсутствие чувства меры столь сближает её мужа с королём Франции, хоть и проявляется совсем в разных вещах.
И вот теперь Жуанвиль жил в Шампани уже два года. Два года – безвыездно, отлучаясь только затем, чтобы объехать графство по своим обязанностям сенешаля. Никаких писем из Парижа он в это время не получал. Он приехал в Шампань, как только стало известно, что король объявляет новый крестовый поход.
Два года. Первые два года в жизни Мари, когда её муж принадлежал только ей. И никогда он не принадлежал ей меньше.
«Ах, и отчего он не глядит на этих девушек!» – подумала Мари вдруг едва ли не в гневе, оскорблённая, раздосадованная, расстроенная тем, что муж её, перед которым отплясывают, сверкая ляжками, четверо ладных девиц, смотрит на этих девиц и не видит их. Как хорошо было бы, если б он их видел. Если б затащил какую-то из них украдкой на сеновал – да что какую-то, отчего бы и не всех разом! Судя по хитрым взглядам, которые кидали красавицы на стоящего поодаль господина, ни одна бы не отказалась…
«Да только ему их не надо. И никогда не было надо», – подумала Мари Жуанвиль и пошла вперёд, к своему мужу, стоявшему к ней спиной. Шла и думала: «Довольно уже. Довольно».
Он не услышал её шагов и вздрогнул, когда она обе руки положила сзади ему на плечи. Обернулся, извиняясь слабой улыбкой – не за то, что она его застала наблюдающим этакую картину, а за то, о чём думал на самом деле. Мари оправила его волосы, сбитые ветром, погладила по небритой щеке.
– Поехал бы ты, – сказала она. – Поехал бы уже. Что ты так мучишь себя? И его…
Улыбка исчезла из глаз Жуанвиля. Он хотел отвернуться было, но Мари не дала. Слишком долго она терпела – слишком долго смотрела, как муж её здесь несчастен. И её, злую, недобрую женщину, это не делало ни капли счастливей.
– Он же, кажется, в сентябре выступает? Прождёшь ещё немного – и вовсе не застанешь его, – продолжала Мари, настойчиво вглядываясь Жуанвилю в глаза. Как прятал он эти глаза от неё! Как стыдно ему, поняла она с изумлением, – стыдно, что она так хорошо его знает. Но как же было не знать Жуанвиля, ничего не умевшего и не желавшего в своей душе укрывать?
– Я не могу поехать, – ответил он наконец. – Он… не станет слушать меня.
– И только в этом всё дело? Да он же тебя и прежде не всякий раз слушал, а всё же…
– Теперь другое. Тут… другое, Мари. – Он вздохнул, глубоко, тяжело, словно выпуская дыхание, которое очень долго держал в груди. – На этот раз я не могу с ним пойти. И что хуже… что ещё хуже – я не хочу с ним идти. А это по отношению к нему так нечестно… так несправедливо.
У Мари ёкнуло в груди: неужто, неужто… неужто наступил наконец день, когда закончатся эти «мы с королём», когда король будет сам по себе, и Жуанвиль – сам по себе, со своею женой, со своими детьми… неужто?
– Матье на днях выучился считать, – сказала она. – Прибежал ко мне и говорит: «Матушка, а знаете, сколько яблонь в саду у северного холма? Восемь! Было двенадцать, а буря четыре сломила, стало быть, восемь». А Жан вчера меня извёл разговором, когда уж его в рыцари посвятят, – я говорю, у отца спроси, а он тебе докучать боится… А Гертруда хвалилась, что на лошади перемахнула ограду на пастбище – ну ровно мальчишка какой, и хвалится-то ещё, хоть бы ты её пристыдил! А ещё я беременна, Жан.
Она не собиралась ему говорить – не теперь, не так – и сама не знала, как сорвалось с языка. Он почти не слушал её, когда она говорила о детях, верней, вслушивался с усилием, словно слыша одновременно что-то ещё, что куда больше его занимало. Но от последних слов её он резко повернулся и поглядел ей в лицо, долгим, внимательным взглядом. Она зарделась, чувствуя себя виноватой за то, что сказала, – как бы не подумал он, что она удержать его хочет. Полно уж: пятеро их детей наглядно уже показали ей, что его ничем не удержишь…
– Прости. Прости, это я так… к слову. Но ты всё равно езжай. Езжай в Париж, пока не поздно ещё, пока не…
Жуанвиль взял в ладони её круглое, некрасивое лицо и поцеловал её в губы.
Он её долго целовал, нежно, жадно, так, как редко бывало с ним даже в юности, а у Мари кровь шумела в ушах, и смутно она слышала сквозь этот гул пение давильщицы да смачное чавканье виноградной мякоти под девичьими ногами. И безумно нахлынуло вдруг: кинуться к бадье, прогнать девок, сбросить туфли самой, запрыгнуть, юбки задрать до колен, и топтать так, чтобы брызнул на парчовое платье пьянящий сок, и петь, и смеяться, и чтоб он смотрел, и чтоб глаза у него горели – вот так…
Выпив Мари до дна, Жуанвиль отпустил её – только затем, чтоб тут же обнять и прижать к себе так крепко, словно она была птицей, норовящей рвануться из рук.
– Я столько раз его упрекал, – хриплый, срывающийся голос его ей в волосы, – столько раз ему говорил, что он дурно себя ведёт со своею женой, с детьми… а сам-то я чем был лучше? Ох, Мари, ты простишь ли меня хоть когда-нибудь? Я поеду к нему. Так Господь рассудил, не знаю, чую, зачем-то я ему нужен…
Она высвободилась и перекрестила его, и он склонил перед нею голову, перед ней и перед дитятей, которое нарождалось в её чреве, и принял благословение. Она святей сейчас была для него, чем Богоматерь, потому что несла новую жизнь и спасение не всему человечеству, а одному только бедному Жану Жуанвилю, Жану Жуанвилю без его короля.
– Как славно, что вы наконец приехали, – такими словами встретила Жуанвиля королева Маргарита, вставая с кресла и протягивая ему разом обе руки.
Она принимала Жуанвиля не в собственных покоях, как зачастую бывало прежде, а в зале, где на обтянутом пурпурным бархатом возвышении стояло кресло с высокой резной спинкой. При королеве была её свита – несколько дам, которым она доверяла ввиду того, что они и их мужья были обласканы её милостью, – и такой приём почудился Жуанвилю излишне официальным и лишённым того домашнего тепла, к которому он привык за долгие годы, проведённые в королевской семье.
Жуанвиль поднялся с колен и, поколебавшись мгновение, взял одну из протянутых ему рук и смиренно поцеловал массивный перстень на руке Маргариты. Будь они наедине, он принял бы обе протянутые руки – которые королева подала ему не иначе как по привычке, слегка забывшись, – и пожал бы их крепко и нежно, вмещая в рукопожатие всю преданную любовь, уважение и сострадание, которые он питал к этой женщине. Но увы – в присутствии её дам он не решился на это.
– Добрый, старый друг, – проговорила Маргарита, садясь назад в своё кресло и знаком прося Жуанвиля сесть напротив неё. – Как долго вас не было! Мы уж думали, вы нас совсем покинули. И это в такой-то час! Многое, многое переменилось с тех пор…
Жуанвиль кивнул, невольно разглядывая её под едва уловимые смешки и шушуканье дам. Говоря о переменах, королеве следовало бы начать с себя. Жуанвиль помнил её другой: за два года, что они не виделись, она располнела, расплылась – мало что в этой дородной женщине напоминало ту хрупкую девушку с огромными, широко распахнутыми глазами, что много лет назад приехала из Прованса выходить замуж за французского короля. Многочисленные роды не прибавили ей ни грации, ни здоровья, однако Жуанвиль, живя с ней почти бок о бок, годами не замечал этого, пока не уехал надолго. В том, конечно, не было никакой её вины; но переменилось и что-то ещё. И это что-то больше, чем присутствие дам, помешало Жуанвилю взять королеву за руки и пожать их, как должно доброму, старому другу, которым она его только что назвала. И не было ли в её словах самой малой тени, самого слабого намёка на фальшь?..
Словно чувствуя это, и в то же время не желая дать этой фальши разлиться меж ними в неловком молчании, королева продолжала говорить:
– Уж не знаю, как вы проводили время у себя в Шампани, мой друг, а тут всё сплошная суета и беготня. Вы же знаете, разумеется, что супруг мой затеял новый сбор средств для похода в Тунис. Не стану лишать его удовольствия рассказать вам об этом самому – но поверьте мне на слово, это ничуть не проще, чем в прошлый раз. Верите ли, мы даже распродали мебель! Вот это кресло, на котором я нынче сижу – это лучшее кресло, что у меня осталось. Месяц назад в спальню ко мне заявились плотники и чуть не прямо из-под меня вытащили кровать! Вместо неё поставили, конечно, другую, поменьше. Но вы же знаете, как тяжело в нашем возрасте привыкать заново к новой постели – кости уже не те… А что я могла поделать? Его величество заявил, что старая моя кровать стоит четыреста сорок франков, тогда как новая – всего лишь двести шесть. Эта разница, сказал его величество, обеспечит трёх пеших рыцарей в вооружении и с поклажей. Как будто эти три рыцаря вправду спасут Иерусалим…
«Что с вами, мадам? Вы прежде никогда на него так не жаловались», – думал Жуанвиль, слушая её с плохо скрываемым изумлением. Он безмерно уважал королеву за ту кротость, с которой она несла безразличие и, порой, несправедливость своего мужа, – а теперь видел перед собой сварливую женщину, каких тысячи, одну из многих.
– Но полно, что это я, – словно расслышав его молчаливый упрёк, спохватилась Маргарита. – Об этом он и сам вам расскажет. А вы расскажите-ка лучше о себе. Как там ваша супруга, эта милая Мари? Я только раз её видела, но хорошо помню… Как ваши дети?
– Всё хорошо, все здравствуют, благодарю вас, мадам, – ответил Жуанвиль, даже не удивившись некоторой сухости своего тона, которой Маргарита, впрочем, не заметила.
– О, хотела бы я поглядеть на ваших детей. Их ведь пятеро у вас? А старший, наверное, уже рыцарь?
– Нет, мадам, пока что только оруженосец у графа Тибо.
– Ах, оруженосец! Стало быть, будет рыцарем. Но это хорошо, что ещё не рыцарь, иначе бы Людовик и его увёл в этот свой новый поход. Тибо идёт с ним, вы знаете? Он один из тех, кто идёт, – многие отказались от обета, кто-то откупается деньгами, но их всё равно не хватает… Симона, вы, кажется, хотите уморить меня насмерть простудой? Полегче! – вдруг повернувшись к даме, обмахивавшей королеву огромным веером, резко сказала Маргарита. Маленькая дама съежилась и забормотала извинения, а Маргарита, смерив её уничтожающим взглядом, вновь повернулась к Жуанвилю. – А мой старший, Филипп, уже рыцарь. Людовик посвятил его на прошедшую Троицу. Правда, неизвестно ещё, поедет ли он в Тунис. Я бы этого не хотела. О, не то чтобы я была против того, чтоб он помог отцу выполнить священный долг христианина, но… Мы так славно с ним ладим, с моим Филиппом, – доверительно добавила королева, наклонясь к Жуанвилю чуть ближе. – У нас много общего с ним, с моим славным мальчиком. Конечно, он очень послушен отцу, да и разве возможно иначе? Но я считаю, он похож на меня, о да, он очень похож на меня, и если не отправится в этот поход, то, уж конечно, не отринет моего совета. Ибо разве может быть дурным совет, исходящий из любящего материнского сердца? Моя свекровь Бланка Кастильская нам всем доказала обратное, верно же, Жуанвиль?
Она наклонялась к нему всё ближе, а Жуанвиль невольно откидывался в кресле всё дальше, глядя в её одутловатое, сильно напудренное лицо и не веря, что это та самая женщина, которая бегала когда-то от своей свекрови потайной лестницей во дворце Понтуаза. О чём она говорила с ним, что пыталась сказать, чем пыталась хвалиться? У Жуанвиля шевельнулось подозрение, страшное в своей нелепости, даже глупости; но оно лишь окрепло, когда Маргарита, поняв наконец, что нарушает приличия в глазах своих дам, выпрямилась в кресле и сказала:
– Словом, вы очень кстати приехали. Нынче вечером состоится совет, на котором его величество объявит имя регента, которого оставит на то время, что пробудет в святой земле. Лучшие из мужей и почти все пэры отправляются вместе с ним, а Филипп ещё несовершеннолетний, поэтому… Симона! Симона! Да что вы застыли, будто Лотова жена – у вас веер в руках, вы не забыли ещё, зачем он сдался? Или хотите, чтобы я умерла от жары? Машите сильнее!
И всё-таки он не ошибся. Всемогущий Боже, он не ошибся: регентство! Вот о чём мечтала, вот чего жаждала, вот в чём была уже почти совершенно уверена эта женщина, столь долго жившая в тени своей свекрови, а затем – своего супруга. В самом деле, разве было её желание совершенно абсурдным? Ведь королю Людовику уже случалось разделять свою власть с женщиной, которую он любил и уважал больше, чем большинство мужчин. Уходя в первый раз за море, он именно королеву Бланку поставил регентшей – и, уже во второй раз за время его царствования, она блестяще с этой задачей справилась. Отчего бы было ему не оказать то же доверие и своей жене? Решительно не было на то никаких причин.
Вот только Жуанвиль знал, что этого никогда не случится. Знал оттого, что слишком долго прожил с этими людьми; и оттого, что видел перед собой сейчас нервную, вспыльчивую, встревоженную женщину с бегающими глазами и потной шеей, хвалившуюся тем, как послушен ей её сын и как рада она, что он ещё мал и не пойдёт в крестовый поход. Так что же, сказала бы Маргарита, если бы Жуанвиль поставил ей это в упрёк, – разве королева Бланка охотно отпустила своего сына к сарацинам? И разве королева Бланка не добивалась – причём весьма успешно! – его послушания и обожания? Разве не правила она вместе с ним и, отчасти, его посредством? Разве и Бланка Кастильская не жаждала власти, в которой долгие годы, при жизни её свёкра Филиппа Августа, ей тоже было отказано? Разве не так?!
«Так-то оно так, – мысленно отвечал Жуанвиль на невысказанный крик Маргариты, который так и читался в её замершем, надменном, пытливом взгляде. – Так-то оно так, да только это была – Бланка Кастильская. Это была женщина, рождённая для власти и, обретя власть, сумевшая применить её во благо. Вы же, добрая, бедная Маргарита, жаждете теперь власти потому только, что её жаждала когда-то ненавистная ваша свекровь, и сына своего мечтаете подчинить так же – и даже больше! – чем удалось когда-то Бланке Кастильской. Вы думаете: как ни была она на поворотах крута, а всё ж не смогла удержать Людовика возле себя. Я буду лучше её, ловчее её, я удержу Филиппа, и мы с ним будем новой королевской четой, и добрые наши, мудрые, великодушные указы подписывать станем разом: король Филипп и королева Маргарита!
Несчастная королева Маргарита, – думал Жуанвиль, уже без смятения и смущения, а только с жалостью глядя в её лицо. – Вам невдомёк, что беда ваша – в том, что вы хотите идти по чужим стопам, даром что ваша ножка слишком мала и теряется в отпечатке чужого следа. А великие, такие, как Людовик и Бланка, никогда не ступают в чужие следы, а лишь оставляют свои собственные».
– Приходите вечером на совет, Жан, – попросила Маргарита, вновь протягивая ему руку. – Приходите, Людовик вам будет рад, вот увидите. Его нет в Лувре сейчас, а то бы он вас и сам принял, и вы бы увидали, как он рад и как по вам соскучился. Знаю, знаю, что вы в ссоре расстались, но теперь-то всё сложится по-другому.
«Теперь всё будет по-другому, всё станет иначе, – яростным торжеством горело в её лице. – Теперь-то придёт мой час!» Да она ведь хочет, чтобы Людовик поскорее ушёл в поход, и – как знать? – быть может, надеется, что он не вернётся домой. Долгие годы она терпела его своенравие и его святость; дольше, чем могла бы терпеть любая другая из женщин. Но даже самое нежное сердце, годами подтачиваемое обидой, черствеет и отмирает, когда лишено любви. Она Людовика любила всю жизнь, а он её нет; теперь она думала, что отомстит ему хоть отчасти, превратившись в его собственную мать и сделав с его сыном то, что Бланка сделала с ним.
След в след, и нечем оставить своих следов.
Когда Жуанвиль встал, Маргарита вновь протянула ему руку. Он взял и поцеловал её пальцы, холодные, чуть подрагивающие в его тёплой большой руке, и пожал, вложив в этот жест всё сострадание, которое испытывал и которого, из всё той же непреходящей жалости, не хотел изъявить словами.
* * *
На совет, созванный королём Людовиком в тот памятный вечер, собрались лучшие сыны Франции и несколько не самых дурных её дочерей.
Жуанвиль, всего лишь сенешаль Шампани, не имел права голоса на этих советах. Будучи более чем свободным в обращении со своими домочадцами, Людовик, однако же, неизменно соблюдал букву закона и норму приличия в том, что касалось официальных торжеств. Всем был памятен визит короля английского, состоявшийся через год после возвращения Людовика из Египта. Король тогда уже принял свой полумонашеский образ жизни, ел пшенную кашу и не пил ничего крепче воды, но для короля и его супруги Алиеноры Прованской, сестры королевы Маргариты, закатил такой пир, что о нём говорили и ему завидовали во всех монарших дворах Европы, от Испании до Руси. Он умел оказывать гостеприимство так же, как выказывать строгость, и столь же тщательно придерживался этикета во время официальных событий, сколь легко нарушал его наедине со своими друзьями. Он никогда не мешал Жуанвилю высказывать своё мнение о том или ином решении, принятом в луврском зале совета, – но только после, а никак не во время него.
Оттого Жуанвиль был лишь одним из многих – из десятков, а то и сотен, набившихся в тот вечер в залу так, что стало трудно дышать, несмотря на настежь раскрытые окна. Тут был почти весь двор Людовика, и друзья его, и недоброжелатели – пришли бы и враги, если бы только он умел заводить врагов. Были прелаты, пэры, епископы и бароны, были, разумеется, и монахи, хотя уж их-то сегодняшнее дело никак не касалось – ибо не следовало сомневаться, что власть их в Лувре кончится в тот день, когда Людовик ступит на борт своего корабля в Эг-Морте. Однако все знали, что нынче вечером будет объявлено имя регента, все говорили об этом, коротая время в ожидании короля, – и Жуанвиль, слушая разговоры, с удивлением понял, что почти все прочат в регентши королеву. «Стало быть, не на ровном месте взялась её убеждённость – а впрочем, – тут же подумал Жуанвиль со свойственной ему беспощадной непредвзятостью, – самой ей недостало бы ума даже захотеть такого всерьёз». Тут явно было чьё-то наущение – кто-то, кто уже мысленно отправил короля в бессрочное путешествие на Восток и зарился на безграничную власть, которую может дать умелым рукам его отсутствие. На юного Филиппа, наследника трона Франции, легко повлиять; на королеву Маргариту – и того проще, ведь не Бланка же она Кастильская… хоть и полезно ей на первых порах так думать.
Пэры понемногу собирались, а трон во главе стола тем временем пустовал: Людовик ещё не вернулся в Лувр из поездки по делам подготовки к походу, которому, как успел понять Жуанвиль, он в последние два года отдавал всего себя. По правую руку от короля уже сидел Альфонс Пуату – ныне старший из братьев короля. Несколько лет назад его разбил паралич, но он сохранил ясность мысли и прохладную расчетливость ума, казалось, ещё более укрепившуюся вследствие его болезни. Он всегда был слаб телом и больше полагался на дух; теперь это было верней, чем когда-либо, и Жуанвиль в тревоге подумал, уж не Альфонс ли надоумил Маргариту размечаться о регентстве, и уж не замыслил ли он переворот в отсутствие брата. Впрочем, Альфонс был бездетен, а теперь уж и подавно не мог произвести потомство – такому занять трон не просто трудно, но и бессмысленно… Жуанвиль подумал бы на Карла Анжуйского, но его кресло справа от Альфонса пустовало: получив год назад от Людовика корону Сицилии, Карл уехал туда и оттуда лишь подзуживал теперь своего брата на крестовый поход, стремясь упрочить своё положение властителя над Сицилийским проливом. Жуанвиль обводил глазами могущественных мужей, занимавших свои места за столом для совета, и задавался одним и тем же вопросом: кто же? кто? кто держит тебя в руках, бедная Франция, пока король твой снова кидается в ад земной – искупать ему одному ведомые грехи?
А может, мелькнуло у Жуанвиля вдруг, он и в самом деле устал и обезумел довольно, чтобы оставить регентом Маргариту. Может быть, ему уже всё равно. Сколь же надо было отчаяться, чтобы снова идти в Палестину – теперь, когда никто во всём христианском мире, кроме него, идти туда больше не хочет, когда сейчас нет даже Папы, ибо прежний умер, а новый ещё не избран, когда времени неудачней нельзя подгадать…
Громыхнули створчатые двери: король вошёл. Все разом поднялись, разговоры и движение стихли. Людовик прошёл от дверей прямо к трону и сел, тяжело оперевшись руками на подлокотники. Он, видимо, знал, что запаздывает, и не переоделся с дороги: платье его было в дорожной пыли, и пыль осела на сером, сухом лице – он даже умыться не успел, так торопился сюда огласить свою волю. Жуанвиль глядел на него почти так, как глядел на Маргариту за несколько часов до того: узнавая – и не узнавая, видя разительную, пугающую, печальную перемену – и понимая, что перемена эта свершилась давно, просто он не замечал её, потому что слишком любил их обоих. А нынче он видел сполна, сознавал неизбежно, что король Людовик стар. Он постарел, и усталость десятков лет, проведённых в борьбе между монаршим долгом и святостью, давила на него невыносимым грузом, который он не мог больше нести. «И я бросил его, я бросил его», – подумал Жуанвиль, едва не теряя голову от стыда. Он бросил своего короля в такую минуту, когда тот, старый, слабый, пошатнувшийся в своих убеждениях, так отчаянно нуждался в ком-то, кто бы верил с ним вместе – и вместо него. Тот сон, который они увидели в ночь перед днём святого Георгия два года назад, сразил Людовика – может статься, что насмерть, только гибель его была отсрочена и мучительна, словно он не заслужил быстрой и лёгкой кончины. «Он мучается, – думал Жуанвиль, чувствуя, как жгучие слёзы подступают к глазам. – Он страшно мучается и просто устал, он не может больше, он хочет покоя. А я этого не понял, я тогда на него накричал, сказал, что этот новый поход – блажь и гордыня, и что он не должен… Я был жесток и несправедлив к вам, сир, простите меня».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.