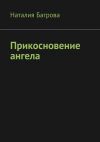Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Мысль эта егерю явно в голову не приходила. Он настороженно покосился на сира де Куси, бешено двигавшего усами. Потом снова посмотрел на короля и сказал:
– Н-ну…
– Вообразил? – терпеливо спросил Людовик. А когда Жеан Понфлю кивнул, продолжал: – Так вот сир де Куси говорит, что по праву твоего сеньора он разрывает ваш с нею союз, она более – не твоя жена, а немужняя женщина, и он берёт её к себе. Будет ли это преступление или закон?
– Ещё какое преступление! – живо откликнулся егерь; сомнительные прелести его супружницы были ему, видать, всё-таки дороги. – Мы ж в церкви Господней венчаны – как же ему нас развесть?
– Но он говорит, что может. Он не даёт тебе обратиться к святому отцу, узнать, возможно ли, чтобы сеньор поступал с вассалом подобным образом. Он не позволяет тебе искать защиты у короля. Он просто отнимает твою жену и говорит, что таково его сеньоральное право. Я снова спрашиваю тебя, Жеан Понфлю: право это его или преступление?
Он говорил немного пылко, немного более увлеченного, чем следовало беспристрастному судье. Кто-то, может быть, втихую упрекал его за это – но только не Жуанвиль, стоящий в десяти шагах от короля и ловивший каждое его слово. Людовик, может, и хотел бы судить иначе, но не мог. Иначе он просто не умел.
– Как есть преступление, – уверенно ответил егерь на вопрос короля, и тот улыбнулся иронично, почти лукаво.
– Да ну? А сир де Куси говорит – право.
Егерь ушёл от суда, сбитый с толку, почёсывая в затылке и оглядываясь на своего сеньора с явно возросшей неприязнью. Наблюдая за ним, Жуанвиль с невольной улыбкой подумал, что тот теперь станет больше ревновать свою жену и менее рьяно отстаивать своеволие своего сеньора.
Этот свидетель был последним; всё слушанье целиком заняло не более часа. Когда место перед королевским креслом очистилось, король встал. Те, кто присели на корточки или прислонялись к деревьям, тоже поспешно встали.
– Мне жаль, – сказал Людовик, – что мы не можем заслушать главных свидетелей – жертв, убитых три недели тому назад и лишь недавно упокоившихся телами в могилах. Телами – ибо души их не знают покоя. Суд этот имел целью своей установить, было ли преступление, или сир де Куси, казня браконьеров на своей земле, поступил честно. Ибо, действительно, есть закон, вменяющий браконьеру смерть. Но, спрашивая, было ли совершено сиром де Куси убийство, мы прежде должны спросить: было ли совершенно тремя фландрскими юношами браконьерство? Выслушав свидетелей, на второй вопрос я отвечаю: нет. На первый вопрос я отвечаю: да.
– Они стреляли кроликов в моём лесу! В моём! Лесу! – в бешенстве заорал де Куси, брызжа слюной и рвясь из своих кандалов – стражники едва его удерживали. – Мне плевать, что там лепечет этот аббатишка и эти трусы, которых я имел дурость взять в егеря, – те трое щенков стреляли мою дичь в моём лесу!
– Ты не озаботился выяснить это с определённостью и доказать их вину, прежде чем совершать казнь, – отрывисто сказал Людовик. – Умерщвление без вины – есть убийство. Вина же может быть доказана лишь через суд. Ты повинен не в том, что защищал свои владения, а в том, что, делая это, пренебрёг законом, установленным мной на моей земле. Твоё право, право сира де Куси, – казнить невинных и брать жён своих вассалов. Моё право, право Людовика, – судить и карать тебя за это. Я присуждаю: виновен!
Толпа разразилась приветственными криками. Никто не сомневался, что вердикт будет таков; дело стояло лишь за наказанием, но всё равно находились маловерные, полагавшие, что беспутный сир де Куси сумеет откупиться от суда. Они не знали, что откупиться от короля Людовика было не проще, чем откупиться от вечного, ещё более грозного судьи.
– Кара твоя, сир де Куси, будет соразмерна твоему преступлению, – продолжал король, и на толпу обрушилась тишина. Несколько мгновений её нарушило лишь пение птиц и шелест ветвей Венсеннского дуба. – Ты лютой и бесчестной смертью покарал тех, в ком не было вины; и не могу теперь я, видя безоговорочную вину в тебе, покарать тебя меньше. Сердце моё не радо этому правосудию, ибо ты дворянин; но единый для всех закон мне дороже твоей чести. Ты будешь повешен на суку, здесь, немедля, без отсрочки и права прошения о помиловании, ибо ты не дал отсрочки фландрским юношам, а их мольбы о прощении оставили тебя глухим. Пожинай то, что посеял. Суд окончен.
– Милости! – тонко и растерянно выкрикнул кто-то из толпы, оглушённой приговором. Только этот-то одинокий крик и выдал всеобщее чувство – народ был так потрясён, что не мог даже привычным шумом выразить своё недоумение. Повесить благородного сира? Дворянина? На суку?! Всего лишь за то, что сам он вешал на суку бедных, безродных, беззащитных… Неслыханно! Непостижимо! Невозможно.
– Милости! Сир, ваше величество, милости! – на разные голоса повторяли бароны, ещё сильнее черни потрясённые произошедшим. Некоторые из них даже пытались хватать короля за край мантии, когда он проходил мимо, но коннетабль отталкивал тупым концом пики наиболее рьяных. Король шёл размашистым, быстрым военным шагом, не сбавив его, даже когда проходил мимо сира де Куси, кулем обвисшего меж стражей и только безмолвно, как выброшенная на берег рыба, таращившегося на Людовика.
Дойдя до своего коня, король сел в седло и смотрел, как приводится в исполнение его приговор. Многие отвели глаза, Жуанвиль в том числе, – но только не Людовик. Скрипнула ветка, загромыхали цепи, предсмертный хрип, исполненный удивления больше, чем боли, оборвался, когда с хрустом переломилась шея. Жуанвиль наконец смог поднять взгляд, сира де Куси не было больше – был лишь труп, болтавшийся на суку.
– Подготовьте к вечеру указ, – сказал Людовик, – запрещающий вершить суды всякому, кто не облечён такой властью моим словом и не обладает званием королевского бальи. Пора положить конец подобным смертям.
Последние слова он сказал печально, и непонятно было, о каких смертях говорит он – о той, за которые только что покарал, или же о той, к которой приговорил сейчас сам.
Указ, о котором сказал король, действительно был подготовлен вскоре и в считанные недели облетел весь королевский домен. Никто теперь не мог быть казнён без королевского уполномоченного суда. Что, бесспорно, ощутимо прибавило городским бальи работы и ощутимо убавило её егерям.
Также следствием того утра в Венсенне стало множество проигранных пари. Все ставили на обвинительный приговор, и никто не ставил на приговор к смерти. Оттого многие сердились на короля за то, что он предпочёл милосердию справедливость.
В роще же, что в предместьях Лана, с того дня стало спокойно и тихо.
Глава четырнадцатая
Париж, 1267 год
Париж всегда был Парижем. Всегда, с тех самых пор, когда он звался ещё Лютецией, узкими грязными улочками его сновали бесчисленные горожане, жители предместий, жители провинций, иноземцы и бродяги. Всегда их влекли к себе парижские площади, парижские рынки, парижские соборы и парижские таверны, и город этот, кажется, никогда не был настолько велик, чтобы свободно вместить их всех, – но в то же время всегда ему это удавалось. Париж, как и любое место, в котором Господу угодно было сосредоточить мечты, надежды, чаяния, риски, легенды, влекущие людей снова и снова, год за годом, век за веком, – Париж рос, непрерывно, почти неуловимо глазу, не лопаясь от невыносимой и непрерывной толчеи, наполняющей его испокон веков, но растягиваясь, вздымаясь, возвышаясь над этой толчеей. Это город, который сильнее людей; город, который поглощает людей; город, который становится населяющими его людьми.
И никогда это не бывает так верно, как в последние дни перед светлым праздником Пасхи. Толчея превращается в давку, толпа – в тьму, людской поток – в человеческое наводнение. Повсюду стучат колёса, громыхают тележки, цокают копыта, покрикивают извозчики, вопят нерасторопные пешеходы, попавшиеся на пути нетерпеливых всадников. Архиепископ Реймский служит прекраснейшую мессу в соборе Парижской Богоматери, ярмарочные палатки и лотки раскинуты чуть не на каждом углу, с Гревской площади убран эшафот и разостланы помосты, на которых от зари до зари бродячие артисты веселят город Париж. И горе тому, кто в эти суматошные дни попытается проехать городом и добраться в Лувр, – в лучшем случае он лишится кошелька, срезанного с его пояса ловким ворюгой, в худшем – будет растоптан или раздавлен насмерть.
Собственно, именно поэтому можно утверждать, что Жуанвилю повезло в тот день, ибо отделался он только тем, что, уже почти выбравшись из квартала Сен-Маре и видя башни Лувра далеко впереди, схватился за пояс и обнаружил на нём вместо кошеля лишь болтающиеся обрезанные завязки.
Пользуясь тем, что до дворца было ещё далеко, Жуанвиль от души чертыхнулся. Он вытянул руку и наугад схватил за шиворот какого-то мальчугана, шнырявшего вокруг, но тот завопил так пронзительно, что Жуанвиль разжал руку от неожиданности – а мальчуган нырнул в толпу и был таков. Толстая торговка, стоящая рядом с корзиной яблок, угодила пострелу под острый локоть и гневно заверещала, от чего горшечник, толкавший перед собой груженную посудой тачку как раз перед ними, споткнулся, оступился, и гора глиняных плошек с грохотом посыпалась наземь. Жуанвиль поспешил убраться оттуда, оставляя за спиной гвалт и суету города, готовившегося к великому празднику. Слишком уж старательно готовившемуся, судя по раздолью, которое теперь было здесь ворам. «Оно и неудивительно», – подумал Жуанвиль, качая головой и вовсю работая локтями. Знают же, псы шелудивые, что королю сейчас не до уличного разбоя. В какое другое время велел бы городскому бальи провести карательный рейд, пообтрепать негодяям пёрышки… Но только не сейчас. Нынче Страстной четверг, и у короля в этот день совсем другие заботы.
Выбравшись из толпы и дойдя наконец до Лувра, Жуанвиль попал внутрь без проволочек: он был одним из тех, кто имел вольный доступ к королю почти в любое время. Однако, как сообщили Жуанвилю, едва он попросил уведомить короля о своём возвращении, Людовика сейчас в Лувре не было. А был он – как и следовало ожидать – в аббатстве Сен-Дени. Жуанвиль так и думал, что Людовик в каком-нибудь аббатстве, или в соборе, или в монастыре, или ушёл по святым местам. В Лувр он приехал только затем, чтобы разузнать, где именно король в этом году отбывает своё покаяние.
Не дав себе отдохнуть с дороги и лишь попросив свежую лошадь, Жуанвиль отправился в Сен-Дени.
Людовик не разглашал широко место своего пребывания – оно и понятно, иначе люд со всей округи повалил бы туда, кто поглазеть, кто поумиляться, кто поживиться от монарших щедрот. Но в те дни Людовик сам выбирал, кому раздавать свои щедроты.
Сен-Дени – старое аббатство строгих правил, и Жуанвиль боялся, что его не впустят туда. Однако Людовик, видимо, ждал его (и от этой мысли у Жуанвиля на сердце потеплело), так как, услышав имя Жуанвиля, брат-привратник сменил каменную маску на маску вежливого радушия и отверз ворота.
Двор аббатства был выстроен колодцем, наглухо замыкаясь четырьмя высокими стенами, на которых виднелись узкие зарешеченные окна келий. В этом дворе, где меж каменных плит настила кое-где пробивалась, чтоб вскоре погибнуть, сочная, юная зелёная травка, стоял длинный дубовый стол, вынесенный из монашеской трапезной. За столом, в два ряда, сидели двенадцать нищих – двенадцать тощих, костлявых, искривлённых существ неопределённых лет и неопределённого пола. Все они были либо лысы, либо с бесцветными волосами, торчавшими во все стороны, будто пакля; одежды их были из мешковины, такой залатанной, что заплат на ней было больше, нежели собственной ткани; лица их были черны от грязи, солнца и ветра, не щадивших их ни в какое время года ни днём, ни ночью; почти все они давно лишились зубов, а те, кому посчастливилось сохранить один или два, горделиво показывали их в жутком жёлтом оскале. То было не отребье – отребье от отребья; то были не люди – лесные звери на двух ногах; то были двенадцать наиубогейших убожеств, которых король Людовик ежегодно повелевал отыскивать во владениях. Он помогал бедным и кормил голодных каждый день, но лишь один раз в год, на Страстной неделе, снисходил до самых грязных, самых жалких, самых страшных и заскорузлых нищих, каких только носит земля. Королевские рыцари привозили их в аббатство, выбранное королём в этом году. Затем король начинал искупать свои грехи.
Стол для этих двенадцати апостолов был накрыт столь роскошный, сколь только позволял пост: осетрина, форель, тунец из южного моря, белый хлеб и пироги с угрями, яблоки и груши и, конечно, вино, много первосортнейшего вина из погребов аббатства. Нищие ели так, как едят звери, умирающие с голоду: разрывая жареную рыбу двумя руками и вгрызаясь в неё, проглатывая огромные куски вместе с костями; яблоки и груши они съедали с сердцевиной, а когда они пили вино, то кадыки их судорожно дёргались на тощих облезлых шеях, и розовая влага обильно стекала по подбородкам за пазуху. Присутствие во дворе нескольких братьев из аббатства наводило на мысль, что трапеза началась с потасовки, вероятно затеянной нищими просто по привычке. Они каждый день дрались со своими собратьями за чёрствую корку хлеба, выплеснутую вместе с помоями. Изобилие, открывшееся перед ними, не тронуло ни их умы, затуманенные крайней нищетой, ни их вечно пустые желудки. Не важно, что еды хватало на всех, – они всё равно дрались за каждую крошку, потому лишь, что не знали, как можно иначе.
Страшное это было зрелище – страшное, жалкое и отчего-то постыдное. Так казалось, во всяком случае, Жуанвилю, и поэтому каждый год он по возможности избегал этого зрелища, благо Людовик и так не любил, чтобы его кто-либо сопровождал в эти дни. Но не в тот год – они слишком долго не виделись, и Жуанвиль не утерпел, а теперь, с отвращением и жалостью разглядывая эту злую пародию на тайную вечерю, думал, не слишком ли поторопился и будет ли, вправду, Людовик рад ему теперь.
Мучаясь этой мыслью, он перевёл взгляд на дальний конец стола – туда, где на высоком резном стуле (одолженном, без сомнения, из кельи аббата) восседал тринадцатый нищий, уже насытившийся, должно быть. Людовик стоял перед этим нищим на коленях и неторопливо, старательно и безмолвно мыл ему ноги.
Жуанвиль видел это десятки раз – из года в год в Страстной четверг король совершал обряд омовения ног бедных, – и всякий раз всё равно содрогался. Король был босой, одетый в одну только котту самого грубого покроя и полотна. Голова его была непокрыта, и светлые, побитые сильной проседью, но всё ещё густые и блестящие волосы сияли, подобно нимбу, в лучах весеннего солнца. Руки короля, белые и холёные по сравнению с по-птичьи костлявыми лапами нищего, без малейшей брезгливости оглаживали сморщенную, потрескавшуюся, изъязвлённую плоть на щиколотках и ступнях человека, который сидел, погрузив ноги в бадью с водой, в то время как король стоял на коленях. Нищий приподнимал своё рваное одеяние за края, словно боясь замочить, и, глядя на короля сверху вниз бессмысленным взглядом, издавал низкое, едва различимое урчание, свидетельствующее в равной мере и об изумлении, и о страхе, и о неземном блаженстве. Жуанвиля передёрнуло от этого звука, так же, как мгновением раньше – от зрелища, которое он, несмотря на прошедшие двадцать лет, так и не научился безропотно выносить. Хотелось подскочить, оттолкнуть эту мразь от светлого короля, затрещиной сбросить со стула наземь… Но Жуанвиль знал, что не этого хочет Людовик. У каждого монарха свои причуды; у монархов святых они ничуть не хуже, чем у всех остальных.
Жуанвиль знал, что не следует отвлекать короля в такой момент, и всё же ступил чуть поближе и позвал вполголоса:
– Сир…
Людовик узнал его голос. Он встрепенулся всем телом, и его согбенная спина распрямилась, плечи расправились, словно это простое слово, простое обращение вдохнуло в него те силы, с которыми он расстался давным-давно в Палестине. Король обернулся, и Жуанвиль увидел на его лице сияющую улыбку.
– Друг мой Жан! – сказал король, поднимаясь с колен. Нищий проводил его удивлённым взглядом, словно обидевшись, что его так быстро изгнали из рая. Но рай теперь принадлежал Жуанвилю. Он быстро сделал несколько шагов вперёд и упал на одно колено, склоняя голову. Людовик тут же поднял его, взяв за плечи, и обнял так порывисто, что Жуанвиль чуть не задохнулся. Силы в руках короля по-прежнему было столько же, сколько в те далёкие времена, когда он рыцарем-крестоносцем рассекал пески святой земли с поднятым над головою мечом.
– Как я рад, что вы успели приехать! – сказал Людовик, отстраняя Жуанвиля, но не выпуская его плеч и окидывая тем жадным, стремительным взглядом, каким окидывает отец сына, вернувшегося невредимым с войны. – Я боялся, что не успеете до Пасхи.
– Я и сам боялся, – признался Жуанвиль, не в силах сдержать улыбки при взгляде на это уже немолодое, но лучащееся жизнью лицо. – Так боялся, что загнал лошадь. До Лувра добрался пешком, и по дороге меня ограбили. Вот, срезали кошель.
Он показал королю обрезанные завязки, и Людовик, слегка нахмурившись, отпустил его плечи. И как всякий раз, у Жуанвиля от этого разорванного прикосновения осталось чувство невосполнимой потери, которое, впрочем, вскоре прошло. То, чего Людовик недодавал прикосновением, он всегда умел додать взглядом, жестом или словом.
– Мне доносили, что в городе неспокойно, – проговорил король, слегка потирая двумя пальцами подбородок, что было у него признаком озабоченности и некоторой растерянности. – Вправду ли так много народу съехалось на праздники, как говорят?
– Ужасно много, сир. Не протолкнуться. Я совершенно не почувствовал, как меня ограбили.
– Что вы опять про это, – с мягким упрёком сказал Людовик. – Ну ограбили и ограбили. Негоже убиваться по золоту, Жан, тем более нынче – ведь Страстной же четверг…
– Вижу, – вырвалось у Жуанвиля.
Людовик кротко поглядел на него, принимая немой упрёк. Потом покачал головой и сказал:
– Читаю это в ваших глазах, друг Жуанвиль. Помогая нищим, не забудь обнищавшего. Ну, много у вас украли?
– Да пустяки, – пробормотал Жуанвиль, ощутив вдруг всю неловкость и неуместность своей жалобы. – А кроме того, вы всё равно терпеть не можете, когда я вас о чём-то прошу. Вы всегда сердитесь.
– Неужели всегда? – искренне удивился Людовик. – Хотя… пожалуй, вы правы. Так и есть. Не люблю, когда меня просят.
– А давайте так, сир. Коль скоро мы на пороге великого праздника, давайте с вами на будущий год условимся: вы не станете сердиться, если я вас о чём-нибудь попрошу, а я не стану сердиться, если вы мне опять откажете.
Людовик звонко рассмеялся. Жуанвиль слегка улыбнулся в ответ, когда король снова обвил рукой его плечи.
– Договорились, друг мой Жан. Но идёмте, поговорим немного. Я с ними с обедни, – извиняющимся тоном добавил он, кивая на нищих так, словно Жуанвиль его упрекал в небрежении к своим высоким гостям. – Могу отлучиться на четверть часа. Угощайтесь и отдыхайте, друзья мои, я скоро вернусь, – с нежностью сказал Людовик, а потом увёл Жуанвиля со двора, к вящему облегчению последнего.
– Ну что там у вас в Шампани, Жан? Вы уладили то дело с наследством вашей жены? Разобрались с налогом на торговлю вином? Урезонили ваших мельников?
– Да, да, сир, всё сделано, всё решено.
– Ну и слава Богу, а то я уж боялся, что зря отпустил вас от себя на такой долгий срок. Подумать только, целых полгода! Вы могли бы в святую землю съездить и вернуться, не то что в Шампань.
Голос Людовика звучал почти обиженно, даром что весело – и Жуанвиль упивался этой веселостью, этим светом в глазах своего короля, которого – и короля, и света – не видел уже так давно. Дела в самом деле вынудили его покинуть Париж на шесть с половиной месяцев, и теперь, сидя рядом со своим монархом, слушая его звучный, глубокий голос, чувствуя тепло его присутствия, Жуанвиль не понимал, как продержался вдали от него так долго.
– Ваше величество и сами были сильно заняты в это время, – осторожно проговорил Жуанвиль, подумав, что раз уж Людовик в добром расположении духа, то сейчас самое лучшее время заговорить о том, что занимало и тревожило Жуанвиля всю дорогу до Парижа. – Я слыхал, что вы, сир, теперь тратите своё личное время не только на суды, но и на приведение приговора в исполнение…
Людовик взглянул на него странным взглядом, который Жуанвиль в последние годы замечал за ним всё чаще и чаще: прямым, но непроницаемым, чужим, но проникающим в самое нутро. Так он часто смотрел, когда Жуанвиль задавал ему какой-то вопрос о вере и Боге, на который Людовик не мог внятно ответить, ибо для него ответ был слишком очевиден, а для Жуанвиля – слишком неопределён.
– А, – только и сказал король. – Я полагаю, вы говорите о деле того парижанина, богохульника, которого я повелел заклеймить.
– Которого вы сами заклеймили, – тихо уточнил Жуанвиль. Так значит, это была правда. Он надеялся, что это лишь преувеличенная сплетня – по дороге из Парижа до Шампани муха, бывает, оборачивается быком. Но не на этот раз…
– Так что же, – спокойно сказал Людовик. – Вам прекрасно известно моё отношение к сквернословию, Жан. Особенно – к богохульству. Я издал несколько указов в последнее время, где недвусмысленно объявил кару за это злодеяние: клеймо на лоб и вырванные ноздри, в случае особо тяжкого богохульства. Я счастлив, что вас не было здесь во время этого суда, ибо даже если мне суждено будет отправиться в ад, и там я, вероятно, не услышу таких проклятий, какими сыпал этот отъявленный грешник. Он не раскаивался в содеянном и упорствовал в своём преступлении. Он был покаран.
– Вами, – сказал Жуанвиль. – Вы… вы сами привели приговор в исполнение, сир? В самом деле сами?
– Имею ли я право выносить приговор, которого совесть или слабость не позволили бы мне привести в исполнение самому? – ответил Людовик вопросом на вопрос, и ответ прозвучал так сухо, что Жуанвиль замолчал. Это была одна из тем, которые он за многие годы дружбы с Людовиком научился обходить стороной, ибо так было лучше для всех. Однако он был неприятно поражён, ещё больше, чем при виде сцены с нищими во дворе аббатства. Он замечал – и все замечали, – что с годами Людовик становится всё строже, всё нетерпимее к греху, всё суровее к грешникам – и к себе самому в качестве оного. Но Жуанвиль смутно чувствовал, что даже у праведной суровости есть некая грань, преступать которую нельзя. А почему нельзя и отчего нельзя – он не знал, и не мог объяснить королю. И это было хуже всего.
– В народе не одобряют этот мой шаг, – сказал вдруг Людовик довольно спокойным тоном. Жуанвиль по привычке бросил быстрый взгляд на его руки. Король не сцепил вместе пальцы, значит, и в самом деле спокоен, а не пытается казаться таковым. – Жан, вы проехали через множество городов в последние дни. Что вы слышали? Меня хулят?
– О, что вы, сир! – торопливо сказал Жуанвиль, зная, как болезненно Людовик относится к подобным вещам. Странно: чем ниже было происхождение и сословное положение осуждавших его, тем сильнее он переживал. Мнение Папы Римского для него значило не столь много, сколь мнение нищего, которому он сегодня омывал ноги. – Что вы, напротив! Я слыхал, как вас восхваляли за ордонанс, выпущенный месяц назад, – в защиту единой монеты и судебного права женщин… Вас благодарили.
Людовик покачал головой.
– Я надеюсь получить от Господа больше хвалы за то необходимое деяние, из-за которого люди меня хулят, чем за то очевидное благо для всех, из-за которого меня теперь любят.
После этих слов короля оба они какое-то время молчали. Потом Людовик взглянул на Жуанвиля снова тем странным взглядом, непостижимым, но одновременно смущённым, словно просил прощения у него за то, что не может объяснить лучше. И поднялся.
– Мне пора возвращаться к моим гостям, Жуанвиль. Проводите меня? А после вместе поедем к вечерне. Мне будет приятно, если вы будете рядом.
И Жуанвиль кивнул, подчиняясь. Он никогда не просил своего короля ни о чём, но в его собственных просьбах совсем был лишён воли ему отказывать. Они вновь возвратились во двор аббатства, и Жуанвиль, стоя в тени, смотрел, как король приглашает следующего нищего в кресло для омовения ног.
Упомянутый указ, за который действительно в народе короля хвалили и благодарили, был не единственной переменой, постигшей Францию за десять лет, что минули со времён неудавшегося крестового похода. Объехав с ревизией – сперва инкогнито, а затем вполне явно, сперва лично, а затем с помощью множества уполномоченных гонцов – большую часть своих владений, Людовик закатал рукава и взялся исправлять то, что натворил своим долгим отсутствием. «Я понял, – сказал он тогда Жуанвилю, – понял, Жан, в чём была моя ошибка. Поражением в войне против неверных Господь пожелал указать мне, что я не смею надеяться принести слово Его на святую землю, покуда не наведу порядок в собственной земле. Я замахнулся чересчур высоко. Я на небо глядел, а мне на землю надо было глядеть внимательней. Так-то, Жан».
Впрочем, «глядел на землю» Людовик в собственном, сугубо своеобразном понимании. И приземлённого в этом взгляде было не больше, чем в литургии.
Он запретил азартные игры. Он изгонял публичных женщин из городов. Он запрещал горожанам ходить в бордели и даже в таверны, особым указом присудив, что лишь проезжие имеют на это право, – и доходы трактирщиков резко упали, что вызвало стон недовольства среди тех, кто зарабатывал этим промыслом, но было весьма одобрено жёнами, чьи мужья стали усердней работать в поле и чаще ночевать дома. Он отменил ордалии и ввёл «сорок дней короля» – отныне никакая междоусобица не могла начаться без объявления войны, и от объявления до первой битвы должно было минуть сорок дней, в течение которых слабая сторона могла попросить заступничества в королевском суде. Людовик также ужесточил требования к королевским чиновникам, которым отныне запрещалось принимать подарки дороже десяти су, и их жёнам, и детям их также запрещалось принимать подарки от просителей; и они не имели более права сажать в тюрьму за долги; и они не могли больше мешать своевременной перевозке и продаже зерна, что прежде приводило к их незаконному обогащению и к голоду среди крестьян; они не могли также торговать своими чинами и незаконно отнимать у простолюдинов лошадей. И много, много других законов такого же рода издал Людовик в эти десять лет, и строгость, даже суровость (чего хоть стоило клеймение за богохульство!), соединялась в них с дальновидной и рассудительной добротой, не позволяющей сильным обирать и уничтожать слабых. Он был и строг, и милостив, и добр, и безжалостен – всё в одно и то же время; и это всегда было в нём, но теперь, когда, по возвращении из святой земли, он вполне сознавал свою цель и шёл к ней, не видя преград, соединение в одном человеке столь непохожих качеств выделялось особенно сильно.
Проявлялось всё это не только, и даже не столько в его новых законах. Дело было также в том новом образе жизни, который он завёл и в котором год от года становился всё упорнее, так же, как отбираемые им на Страстной четверг нищие становились всё грязнее.
Теперь короля постоянно окружали монахи. Он и в юности их любил: его исповедником был доминиканский монах Жоффруа де Болье, который помог ему и Бланке Кастильской бежать из Реймса во время мятежа баронов и который, как говорили, отказался, когда король хотел подарить ему аббатство, – чем, разумеется, лишь укрепил в Людовике восторженную любовь. С тех пор король питал слабость к монахам – что неудивительно, ведь яркие впечатления ранней юности проникают в самую глубину человеческого сердца. При дворе его всегда жила пара-тройка, а то и добрая дюжина монахов, с которыми он с удовольствием беседовал, молился и слушал службы. До крестового похода это казалось всем – и Жуанвилю тоже – всего лишь безобидной причудой, так же, как стремление Людовика при каждом удобном случае кормить бедняков и работать собственными руками. Однако, вернувшись во Францию из Акры, король буквально с головой погрузился в общение с монахами. Теперь при дворе они ходили просто толпами. В основном это были братья нищенствующих орденов (Людовик питал к ним особую слабость): доминиканцы, францисканцы, кармелиты – в королевском дворе было серым-серо от их ряс и сумрачно даже в самый солнечный день. Король и сам как будто мечтал обрядиться в рясу – он стал одеваться куда скромнее, после возвращения никто ни разу не видел его в пурпуре или в мантии, подбитой горностаевым мехом. Лишь в самых торжественных случаях Людовик соглашался на сюрко, отороченное каракулем, в обычные же дни обходился простой синей коттой. Когда он шёл по парижской улице, ни один приезжий никогда не признал бы в нём не то что короля, а хотя бы знатного дворянина: он выглядел как обедневший рыцарь, чьи богатства заключались не в золоте и камнях, а в сердце, в обветренном загорелом челе и в выцветших, запавших глазах, повидавших слишком много.
Он не ограничивался только сдержанностью в одежде, в еде и манерах. Сдержанность легко переходила у него в строгость, строгость – в суровость, а суровость – в безжалостность. Он был таков с другими, а к себе он никогда не бывал добрей, чем к другим. Через несколько лет после возвращения из Палестины, повстречавшись и побеседовав с несколькими святыми людьми – монахами, разумеется, в том числе известным доминиканцем Гуго де Динем, – Людовик принялся практиковать самобичевание. Жуанвиль узнал об этом одним из первых и был настолько потрясён, что выдал себя, сказав вслух: «Сир! Но должна же быть какая-то мера! Вы не монах, вы – король!» «В самом деле, – ответил тот с тяжким вздохом, рассеянно потирая широкой ладонью своё рассечённое плечо. – Я хотел бы быть монахом, но рождён быть королём. Как жаль, что наш мир таков».
В ту весну, когда Жуанвиль возвратился после полугодового отсутствия, король впервые устроил на Пасху крестный ход улицами Парижа с публичным самобичеванием. На Страстную пятницу он шёл по камням мостовой от Сен-Дени босиком, во власянице, надетой на голое тело, усердно и неистово хлеща себя по плечам кнутом для погона скота, и лицо его было таким ясным, светлым и умиротворённым, что смотреть на него было ещё больней, чем на кровавые полосы, проступавшие на рубахе короля. С ним шло полсотни монахов из аббатства Сен-Дени, а также монахи других аббатств и орденов, пожелавшие разделить покаяние с королём. Епископ Шартрский возглавлял шествие с молитвенником в руках и читал молитву. Люди плакали, глядя на это. Жуанвиль, следовавший в некотором отдалении от шествия, но тоже пешком, смотрел с сухими глазами. Мысли его в это время года всегда были одни и те же, но нынче он думал о том, знает ли Людовик, что даже те, кто ещё негодовали на него за недавний жестокий приговор парижанину-богохульнику, теперь простят его, видя, как он бьёт себя кнутом по плечам. И ещё Жуанвиль думал, что король Людовик не был бы королём Людовиком, если бы не понимал этого и не использовал это. В самом искреннем его порыве всегда была доля расчета и даже театра; и в то же время даже самого рассудочного поступка не мог он совершить, если бы это шло вразрез с его совестью. «И он один такой, – думал Жан Жуанвиль, глядя, как ноги его короля месят густую дорожную пыль. – Он такой один. Господи, и отчего моя лошадь не пала на двадцать лье раньше! Тогда бы я опоздал к Пасхе и мог бы хоть не видеть всего этого».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.