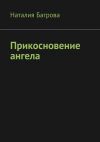Текст книги "Легенда о Людовике"

Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Он говорил и одновременно двигался, и с ним разом Людовик и Жуанвиль тоже двигались – неведомо как, помимо своей воли и даже помимо своего тела, словно воздух, пропитанный дымом и паром, сам двигался кругом них, заставляя их ноги переступать и их тела сгибаться. Когда человек в зелёном договорил, оказалось, что они сидят на двух брёвнах лицом к лицу. Впереди полыхал костёр, и Жуанвиль обнаружил себя в длинной, неспокойной тени, которую в пламени этого костра отбрасывал Людовик. Жуанвиль даже почти и не видел этого костра за фигурой своего короля: только его, человека, за которым следовал не задумываясь хоть в самый ад.
– Вот так-то лучше. Все на своих местах. Ну, – сказал человек в зелёном, кладя ладони себе на колени и чуть нагибаясь вперёд. Он сидел против Людовика на одном уровне с ним, глядя ему прямо в лицо – так, как никто не смел сидеть с королём, и так, как никто, должно быть, не смел сидеть с человеком в зелёном. – Ну, что же, король франков, поведай мне теперь свои тревоги.
Людовик молчал. Он не двигался, и профиль его, освещаемый алым светом, был твёрд и неподвижен, и казался ещё острей, ещё резче, чем обычно в последние годы.
– Не хочешь, – проговорил человек в зелёном, не дождавшись ответа. – Что же, тогда я тебе поведаю свои. Как ты, сможешь принять исповедь от такого, как я?
– Я не прелат, чтобы исповедь принимать, – тихо сказал король. – Да и не можешь ты исповедаться.
– Точно! Точно говоришь, ты не прелат – оттого-то к тебе я обращаюсь, а не к прелату. Когда ты сидишь под своим дубом в Венсенне и приходит к тебе стар и млад, убийца и вор, растлитель невинных и еретик, разве не обещаешь ему справедливого суда?
– Обещаю. Но то человек. В самом чёрном сердце есть место для Бога, а стало быть, и для правды.
– В каждом? Да ну? – спросил его ужасный собеседник и кивнул в сторону – туда, где наполовину выбрался уже из земли мёртвый сир не Куси.
Жена его, не дождавшись, пока её благоверный выпростает из могилы ноги, торопливо срывала с его чресл остатки истлевшей одежды. У Жуанвиля при виде этого мурашки побежали по коже. Он смотрел, не в силах понять, кто из этих двух чудовищ мёртвое, а кто – живое.
– Бедная женщина, – сказал человек в зелёном. – Совсем обезумела, когда ты, добрый король, велел повесить её мужа на суку в своём любимом Венсенне, ровно как и тот трёх мальчишек повесил в своем лесу. Она и прежде колдовством баловалась, да так, слегка, а как не стало её Ангеррана – совсем помешалась. Видишь ли, добрый король, никто, окромя её мужа, не умел насытить её вечно голодное лоно. Вот и сейчас она, гляди – даже ноги ему из земли не вытащит, ей ноги его без надобности, видишь, что ищет… Прокляла себя совсем, погубила вконец только за то, чтобы изредка, пару раз в год, возвращать себе то, без чего жизни своей не мыслит. Так что справедливый твой приговор, король Людовик, не только успокоил трёх мертвецов, но ещё одного сделал вовек неупокоенным, а душу этой женщины обрёк на такие муки, каких ни один из твоих прелатов даже вообразить не в силах. Ей несладко придётся в аду. Ей и теперь несладко. Доволен ты, добрый король?
Людовик долго смотрел на мерзкую Ангелину де Куси, куда дольше, чем смог выдержать Жуанвиль. Потом тоже отвернулся.
– Эта женщина сама избрала свой путь, – сказал король, и голос его звучал глухо. – Так же, как сир де Куси. И так же, как все люди на этой горе.
– Люди на этой горе, – задумчиво повторил человек в зелёном. – Они же тебе кажутся отвратительными, верно, святой король?
– Они и есть отвратительны.
– Вправду ли? А знаешь, кем они были? Все, каждый из них? Вот это, – человек в зелёном указал вперёд – король не обернулся, но этого и не требовалось, – это женщина, продавшая душу за то, чтоб излечить от смертельной хвори своего единственного ребёнка. Тебе ль не понять, король – сколько умерло у тебя детей? Двое, трое? И ещё умрут, это я тебе, считай, напророчил – да не проклял, нет, не гляди ты так на меня. Я жизни не отнимаю и не даю – сам знаешь, кто это делает за меня. Он тебе послал одиннадцать живых детей, а этой бедной дал только одного, и то сразу решил забрать. Зачем давать, когда сразу забираешь назад? Ты бы сделал такое?
– Не мне судить испытания, назначенные Господом.
– Конечно, не тебе. Но ты ведь так тоже мог бы. А? Ты мог бы, желая испытать верность твоих подданных, одному из них дать хороший земельный надел, ренту, богатую и добронравную жену. А после, на следующий же день, всё это отнять. Изгнать из поместья, наложить на ренту арест, жену обвинить в колдовстве и сжечь, и его заставить, чтобы смотрел и крестился. И так проверить, верен ли он тебе, французскому королю, и насколько верность его крепка. Разве не мог бы ты так поступить? Ты бы мог – ты же король, это во власти твоей. Скажи мне, Луи Капет, отчего же ты так никогда не поступал и вовек не поступишь?
– Он искушает вас, сир, – прошептал Жуанвиль. – Не слушайте. Просто не слушайте его.
Он знал, что зря заговорил – это означало привлечь к себе внимание человека в зелёном. Но то, что говорило это создание, было столь ужасно, что Жуанвиль просто не смог сдержать порыва. И – как и ждал, как и боялся, вновь ощутил на себе взгляд, прибавлявший седых волос.
– Слушай, что говорит твоя тень, – произнёс человек в зелёном. – Ты её слушаешь через раз, а тень на то тебе и дана, что не отделаться от неё, не отбросить, не растоптать, пусть бы она даже стала тебе ненавистна. Тень всегда права. Верно, маленький Жуанвиль? А что, скажи, легко ли быть другом святого короля? А? Что молчишь? Или язык проглотил со страху?
В голосе этом, по-прежнему мягком и тёплом, не было ни вызова, ни насмешки. Жуанвиль сглотнул, вздёрнув подбородок повыше, и сказал:
– Я тут и гляжу на тебя потому лишь, что тут мой король и он на тебя глядит.
– Да, – кивнул человек в зелёном. – Как и положено тени. Но мы отвлеклись, король Людовик, – добавил он, вновь переводя взгляд на короля – к огромному облегчению Жуанвиля, за которое он, впрочем, себя тут же возненавидел. – Я тебе рассказывал про вот эту отвратительную и преступную свиту. Итак, вон там мать, продавшая душу за собственное дитя – так, как, к слову, тысячи женщин продают по той же самой своей причине своё тело, изо дня в день в твоём прославленном королевстве. Что ещё? Вон, гляди – это человек, у которого твои алчные и корыстолюбивые бальи отняли брата. Брат его был ювелир, да не захотел работать на местного графа даром – и граф ему повелел руки отрубить и глаза выжечь, чтоб он уж ни на кого больше не смог работать. А брата его, когда пришёл требовать правды, высек и собаками чуть до смерти не затравил. Тогда-то он душу продал, чтоб покарать негодяя. Где был твой справедливый суд, король Людовик? Отчего вовремя не подоспел? Вон, – говорил он дальше, указывая по сторонам, хотя Людовик ни разу на его жест не оглянулся, – двадцатипалый мальчик, тот, на которого засмотрелась давеча твоя тень. Он не всегда был таким – всего только одиннадцатипалым, один лишний палец был у него на левой руке, и тот местный священник велел ему, младенчику, отсечь, ибо это – примета дьявола. И отсекли, а мальчик, когда подрос, тоже просить стал правды и воздаяния – я и дал ему, десять пальчиков заместо потерянного одного. Слышишь, как чудно теперь он играет? Честь бы такой музыкант сделал даже твоему двору, славный король Людовик.
– Все эти люди были в беде, – сказал Людовик, тяжело роняя каждое слово. – Я помог бы им, если бы вовремя успел. Я не могу помочь каждому… хоть бы и очень старался.
– А. Вот сейчас в тебе говорит человек, а не святой. Сейчас в тебе говорит рассудок и разум – это славно, я боялся уж, что у тебя их совсем не осталось.
Жуанвиль увидел, как Людовик стискивает челюсти и как на лице у него появляется то упрямое, почти угрюмое выражение, которое всегда свидетельствовало о приближении у него припадка сильного гнева. Королева Маргарита очень боялась его в такие минуты и называла их «минутами своенравия».
Человек в зелёном, видимо, тоже знал, что это значит.
– Не гневайся, – сказал он почти что кротко. – Я лишь хочу тебе показать, что все эти существа, которых ты называешь чудовищами и от которых отшатываешься в таком омерзении, были когда-то людьми, добрыми христианами, любящими и честными. Но Бог их оставил, и страдание сделало из них монстров.
– Не страдание это сделало, а ты, – выдохнул Людовик.
Его собеседник качнул головой, перо на шапочке качнулось следом.
– Сколь удобно так думать, верно? Нет никакого страдания, нет никакой неправды, нет никакого горя – есть только Бог и дьявол, и их битва за души людские, и человеческий выбор. Так удобно и просто. И эти люди, все эти люди, отвратительны тебе, святому королю французскому, оттого, какими ты их сейчас видишь. Так? Оттого они тебе мерзки, что воют, и пляшут, и совокупляются с мертвецами, и души их чернее земли, из которой они вышли и в которую уйдут. Так?
– Так.
– А ты думаешь, мне нравится на них на таких смотреть? – выпалил вдруг человек в зелёном так яростно и отчаянно, что Людовик с Жуанвилем отпрянули в замешательстве.
Человек в зелёном встал и начал нервно прохаживаться между бревнами.
– Все эти шабаши! Вся эта вонь, пьянь, блуд и животное поведение, вопли, бесчестье, распитие крови младенцев! Да отчего же ты, христианин, думаешь, что вся эта мерзость мерзостна только Богу? Ты же был среди сарацин, ты видел, что и сарацинам вся эта дрянь отвратительна! Ведь видел?!
– Видел, – прошептал король, вспомнив, без сомнения, страшную сцену во дворце каирского султана.
– Да, видел, и не говори, что не подумал тогда, что мерзость всегда остаётся мерзостью. Грех – не выдумка дьявола, король Людовик, грех был и до того, как змий искусил твою прародительницу Еву. Дьявол лишь показал ей, что грех возможен, так же, как возможна и добродетель. Грех был всегда, он был до человека, он древнее, глубже, он корень и основа всего – дьявол родился из греха гордыни так же, как и человек, так, стало быть, чья эта выдумка?
– Не слушайте его, сир, не слушайте его, – прошептал Жуанвиль, но человек в зелёном больше не обращал на него никакого внимания.
– Так если была эта изначальная мерзость, то разве непременно должны разные существа её видеть по-разному? Нет, святой король: мерзость есть мерзость, срам есть срам, и лишь потерявший себя способен насладиться мерзостью и упиться срамом. Я согласен с тобою в одном: эти существа – не люди более, они омерзительны. Но только я в этом вижу их горе, а ты – их вину.
– Если тебе так отвратительно их поклонение, то зачем ты поощряешь его? Зачем велишь им веселиться и праздновать, если не хочешь видеть в них это? Разве же нет в тебе торжества? – не выдержав, запальчиво спросил Людовик.
Человек в зелёном ответил немедленно, не задумываясь:
– Нет и не может быть в этом никакого торжества. Нет торжества в унижении, в причинении мук и страданий другим – и тебе ли, король, об этом не знать? Но вообрази, ежели б ты попытался остановить ту толпу, что хлынула встречать тебя из крестового похода, – как, смог бы ты это сделать? Солдатами и пиками – может, и смог бы. Словом своим? Но народ твой любит тебя, и ему надо было как-то выразить эту любовь, эту верность, эту готовность расплатиться с тобою за то, что ты для него делал. И коль скоро народ твой выбрал, как это сделать, коль скоро сам себе придумывает ритуалы, не заботясь о том, приятны они тебе или противны, – как ты его остановишь?
Людовик смотрел на своего собеседника в изумлении. Потом сказал:
– Ты запутываешь меня и лжёшь, как тебе и положено делать.
– И в это тоже удобно и просто верить, о да, – вздохнул тот и, махнув рукой, сел назад на бревно. – Но подумай ты всё-таки вот о чём: если дьявол не хочет, чтобы ему служили так, как служат, и ежели не может ничего с этим поделать, то уверен ли ты, что твоё служение тому, кому ты выбрал служить, угодно Ему и желанно? Уверен ты, что глядит Он на твоё неистовство и рвение не так, как все мы теперь глядим вот на это?
Он опять указал вперёд, и на этот раз Людовик обернулся, а с ним обернулся и Жуанвиль. Человек в зелёном указывал на чету де Куси, которая наконец выпросталась из земли целиком и теперь предавалась тому, за что продала душу.
Жуанвиль посмотрел на них, потом наклонился, и его вытошнило себе на сапоги.
– Они ведь тоже так служат своему господину. Они верят в то, во что им удобней верить. Как ты там говорил сарацинскому князю? «Мера нашей любви к Нему – это любовь без меры»? Вспомни то, что сейчас видишь, когда в следующий раз пойдёшь себя бичевать во имя любви к Господу твоему, – холодно сказал человек в зелёном и щёлкнул пальцами. В тот же миг чудовищная картина перед ними подёрнулась туманом и, к великой радости Жуанвиля, совсем пропала.
– Отчего ты привёз меня сюда? – хрипло спросил Людовик, когда чета де Куси навек пропала с глаз. – Что тебе от меня нужно?
– Я же сказал – поговорить с тобою хотел. Это единственная в году ночь, когда я могу по земле ходить, как один из вас. Мне рано ещё, время моё нескоро придёт, пока могу только так.
– Как же они души тебе продают, когда ты не ходишь по земле? – выпалил Жуанвиль.
Человек в зелёном поглядел на него очень странным, длинным взглядом – да только либо другой это был теперь взгляд, либо Жуанвиль привыкать стал к нему, либо просто не осталось уже у него на голове, как ему мнилось, тёмных волос, а все поседели.
– Слушай, король, – после недолгого молчания снова заговорил человек в зелёном, – слушай, несчастный король, ты ведь и сам думаешь об этом иногда, стоя на коленях и отбивая поклоны во время всенощной. Гонишь мысли эти от себя, как греховные, и никогда не рассказываешь о них своему исповеднику – только, может быть, своей тени, а может, лишь хочешь рассказать, и собственной тени боишься. Тебе чудится, что в рвении своём ты упускаешь нечто, нечто важное, а что – ты и сам понять не можешь, и потому тебе страшно об этом думать. Но будь честен, здесь, сейчас, когда уже всё равно, вы оба и так завтра решите, что это всё был только сон. Будь теперь честен и подумай, зачем тебе это рвение? Что ты прячешь за ним? Что ты прячешь за своей святостью, король Людовик?
Жуанвиль посмотрел на своего короля в тревоге, сам не зная, чего страшится больше – что Людовик поддастся на искусительные, кружащие голову речи нечистого, или что не поддастся и не скажет то, что тот требует сказать. Вой и гул шабаша вокруг них отдалился, утих, померк с того мгновенья, как человек в зелёном напустил туману на ведьму и мертвеца де Куси. Жуанвиль теперь понял, что туман этот расползался всё дальше и теперь застлал всё вокруг. Даже огней костра не было видно за ним: свет погас, и они были здесь втроём совершенно одни, будто зависнув между небом и землёй, между землёй и адом.
– Ладно, – сказал человек в зелёном. – Вижу, ты всё-таки не сумеешь. Придётся мне. Я всё скажу, а ты только молчи, если я прав. Но если я лгу, если совсем, в самой сердцевине и сути лгу, то встань и уходи, и через миг окажешься опять в своём саду в Лувре.
Жуанвиль чуть не задохнулся. Вот оно, наконец, – их отпускают! Но Людовик не двинулся с места, даже ресницы его не шелохнулись.
И человек в зелёном продолжал говорить:
– Ты утверждал, что хотел быть монахом, а не королём. Но случалось ведь так, что короли отрекались от престола и уходили в монахи. Однако же ты не таков. Ты хотел и королём, и монахом быть – одновременно, вот в чём, король Людовик, твоя беда. Ты не святым решил сделаться, а святым королём, в этом всё дело, в этом вся твоя хитрость. Ты знал, что не сумеешь стать мучеником, знал, что не достанет сил для настоящего отречения, а святости хотел, и, пуще того, хотел стать сам Иисусом Христом – это твоей мечтой всегда было, это, а не простое служение. В тебе смирение всегда мешалось с гордыней, да и какой же король без гордыни? Не бывает таких. А Христос тем и Христос, что он один мог таким быть, единственный в своём роде Спаситель. И ты решил стать единственным в своём роде святым монархом – потому что не было и не будет больше таких. Но это ведь нелегко. Быть обычным святым, быть мучеником, юродивым – много легче. Монарху, тому, кто столько власти мирской держит в своих руках, тому, кто даже с церковью может себе позволить ссору, тому, кто огромное войско ведёт на другой край земли по одной только прихоти, – такому существу непросто, да почти невозможно быть святым. Такому даже просто хорошим человеком быть нелегко. Но ты, Луи Капет, человек хороший. И более того – смог бы стать прекрасным человеком, прекрасным королём, прекраснейшим христианином в своём веке. И по-что тебе этого мало было? Нет, захотелось святости. А в том, чтоб быть хорошим монархом, нужен расчет. Стало быть, и в твоей монархической святости всегда есть расчет. И в твоей «любви без меры к Нему» всегда был расчет, о, славный святой король. Ты омываешь ноги нищим и прокаженным – но ты никогда не омоешь ног своему любимому другу Жану Жуанвилю, потому что нищий – агнец Божий и только, а Жан Жуанвиль – твой подданный и вассал. Ты вершишь справедливый суд и подаёшь руку бедным, как равным, по Евангелию – а вместе с тем отнимаешь власть у церковников, которые слишком много воли себе дают и посягают на твою королевскую власть. Ты с собственною женою в постели так же развратен, как сумасшедшая де Куси со своим мёртвым мужем, – и ты ненавидишь себя за жар своего тела, и жену свою ненавидишь за жар её тела, за то, как сплетаются два ваших жара, и не даёшь им обратиться в тепло – и гонишь, отталкиваешь прочь от себя, не замечаешь и не любишь женщину, родившую тебе одиннадцать детей и всю жизнь тебе бывшую преданной. Ты свою дочь пытаешься принести в жертву, как Авраам пытался в жертву принести Исаака, – и делаешь это лишь для того, чтобы твой народ восхитился ещё пуще твоей набожностью и, оценив твою жертву, снисходительно бы отнёсся к твоим суровым законам. Всё, что ты делаешь, всё, что ты в своей жизни когда-либо делал, – ты делал в равной мере из веры и из расчета. Ни одного, ни другого нельзя отнять, иначе всё рухнет. Править через веру и верой своей управлять – вот что такое быть святым королём. Твоя мать одна только была, кто мог тебя с этого пути сдвинуть, и когда ты это понял, ты убежал от неё в Палестину – а можно было бы, и дальше убежал бы, верно, святой король?
– Замолчи! – закричал Людовик, и от этого внезапного крика Жуанвиль невольно вскочил, враз ощутив, что снова владеет своим телом.
Людовик тоже вскочил. Он стоял, стискивая кулаки, и глядел на человека в зелёном с ненавистью, которой Жуанвиль никогда прежде у него не видел. Тот же остался сидеть на бревне и ясным, прямым взглядом смотрел королю в лицо. И Жуанвиль понял внезапно, что глаза у этого существа – голубые.
– Что, я лгу? Хотя бы в одном слове я лгу? Тогда повернись и уходи. Я тебе хотел исповедаться и исповедался; мне тебе нечего больше сказать.
И тогда Людовик повернулся и шагнул в туман. Жуанвиль едва успел потянуться за ним и схватить за плечо – и через миг пелена вокруг них спала, и они оказались там, где были несколько часов назад, в прохладной тени луврского сада. Луна спряталась, и небо розовело над стеной дворца: занимался рассвет.
Людовик не сбавил шаг, даже когда стало ясно, что они вырвались из демонического плена. Он прошёл ещё шагов десять и остановился возле дерева – раскидистой яблони, росшей как раз над той скамейкой, где сидел Жуанвиль, когда заметил короля в эту ночь. Возле яблони Людовик встал, и, уперевшись обеими руками в ствол, ткнулся лбом в сцепленные пальцы. Жуанвиль стоял у него за спиной, едва не впервые в жизни не зная, что сделать или сказать.
– Когда-нибудь, – заговорил Людовик, не распрямляя спины и не отрывая лба от ствола, – вы, может быть, станете что-то говорить или писать обо мне. Вы ничего не расскажете из того, что сейчас было. Поклянитесь мне, Жан.
– Клясться грешно, – хрипло ответил тот.
Людовик круто обернулся и посмотрел на него. Жуткая, почти дьявольская улыбка, похожая на оскал, раздвинула его губы. Жуанвиль увидел, что они искусаны в кровь – глубокие следы остались на них, и Жуанвиль чётко осознал, что, выйдя из сада, Людовик немедля займётся умерщвлением плоти, может быть, ещё более неистовым, чем прежде.
– Грешно, – повторил король. – Я не знаю больше, что грешно, а что нет. Я… я теряю веру. Я теряю веру, Жуанвиль!
– Сир! – воскликнул Жуанвиль, бросаясь к нему, но король отступил от него, и Жуанвиль замер на месте, придя в замешательство от собственного порыва.
– Ты был там, – криво и страшно улыбаясь, сказал Людовик – он впервые обратился к Жуанвилю на «ты». – Ты там был. Видел это. Слышал его. Кто он был? Ты понял? Ты понял, с кем мы говорили?
– Ещё бы не понять. Ещё б не понять, но… не надо его поминать лишний раз, сир. Это прошло, вы устояли против искушения и…
– Ты думаешь, это был дьявол?
Жуанвиль раскрыл рот.
– А кто ж ещё?! Да вы же сами видели, вы видели, как он…
– Как он воскрешает мёртвых. Да. Видел, – кривая ухмылка на лице Людовика превратилась в гримасу боли, а потом наконец пропала. Король отвернулся и закрыл лицо руками. – Если бы я был уверен. Если бы я был уверен… то не было б веры. Уходите. Жан, уходите. Забудьте. Мы с вами видели сон. Просто видели один и тот же сон. Завтра мы его и не вспомним.
– Мы видели один и тот же сон, – тупо повторил Жуанвиль, и Людовик кивнул, не отнимая рук от лица.
– Да. Идите. Прошу вас.
И Жуанвиль ушёл, а по дороге в свои покои вспомнил, что в этом сне – в действительном сне, который приснился им с Людовиком в ту ночь один на двоих, – у человека в зелёном, надевшем на короля сорочку из красной саржи, на запястьях были чёрные пятна, напоминающие одновременно и пятна копоти, и следы от распятия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.