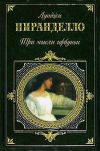Текст книги "Театр эпохи Шекспира"
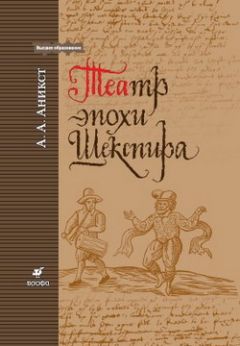
Автор книги: Александр Аникст
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Патетика, риторическая приподнятость и поэтическая возвышенность речи характерны для стиля трагедий, появившихся в первое десятилетие после «Тамерлана» (1587).
В комедиях также можно заметить много риторической изощренности и патетики. Отдаленность от повседневной речи еще подчеркивалась тем, что, например, в ранних комедиях Шекспира значительную часть текста составляли рифмованные стихи. Их особенно много в «Бесплодных усилиях любви» (1150 строк из общего числа 2785) и в «Сне в летнюю ночь» (798 строк из 2174) – в обеих пьесах количество рифмованных строк превышает треть текста.
Даже шуты в ранних комедиях не отличаются особой естественностью речи. Они сыплют каламбурами, и остроты их являются подчас весьма изощренными. Во всяком случае, простым их язык не назовешь.
Как известно, в «Гамлете» Шекспир устами героя подробно определяет две разные манеры актерского исполнения. Одну из них Гамлет не столько характеризует, сколько пародирует. Актер этой школы, по его словам, горланит, пилит воздух руками, «рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотья, и раздирает уши партеру»[232]232
«Гамлет» (II, 2), перевод М. Лозинского.
[Закрыть]. Исполнение, строившееся только на голосе и жестикуляции, было той школой формального искусства, которое в основном приближалось к риторической ораторской манере. Пьесы Марло, да и ранние хроники Шекспира иначе нельзя было играть.
Издавна принято считать, что пародийное изображение актера такой школы подразумевало Эдуарда Аллена, звезду труппы лорда-адмирала. Аллен, по-видимому, действительно обладал сильным голосом. Манера его игры определялась тем, что как актер он вырос на драматургии Марло и его сверстников. Успех, которым он пользовался, позволяет думать, что в своем роде он был, несомненно, выдающимся актером. Если Шекспир действительно имел в виду Аллена, то это говорит лишь о том, что, развиваясь, драма оставила позади старую декламационную манеру актерской игры.
Риторика и декламационность составляли лишь один из элементов сценической культуры. Английский актер театра эпохи Возрождения унаследовал навыки сценической выразительности, завещанные ему всем предшествующим развитием театра. Средневековая драма, а также и драматургия раннего Возрождения обладали простыми и доходчивыми средствами типизации персонажей, благодаря которым злодеи легко отличались от лиц добродетельных. Были разработаны также приемы для выражения радости, злорадства, торжества, горя, отчаяния, страдания. Насколько просты были средства, которыми пользовался актер, можно догадаться по старинным пьесам, где текст подсказывает актеру такие приемы, как руки, воздетые к небу для выражения горя, или «адский» смех для выражения злорадства.
Мы начали рассмотрение проблемы актерского мастерства в английском театре эпохи Возрождения с вопроса о сценической речи, ибо это диктуется природой драматургии, господствовавшей на его сцене. Напомним еще раз, что английская драма эпохи Возрождения была поэтической не только по своей стихотворной форме, но и по самому духу ее содержания. Писатели еще не ставили себе задачей воспроизведение бытовой речи. Поэтическое слово было главным элементом английской драмы того времени. Оно – больше чем что-либо иное – доносило до зрителей мысли о жизни, наблюдения над характерами, чувствами и поведением людей. Вот почему так важен вопрос о манере актерской речи в театре эпохи Шекспира. Как мы пытались показать, он не решается односторонне. Существовали разные манеры; техника чтения стиха эволюционировала в сторону живой речи, но не превращалась в речь с бытовыми интонациями.
Поэтические драмы эпохи Возрождения представляли собой инсценировки подлинных исторических хроник и легенд, рыцарских романов и итальянских новелл. Если мы хотим понять природу театра, игравшего такие пьесы, то лучше всего обратиться к искусству тех стран, где нечто подобное сохранилось до нашего времени.
Известный исследователь театра Востока Карл Гагеман, характеризуя сценическую культуру сингалезов на Цейлоне, где он был в начале XX века, подчеркивал, что «их театральное искусство не знает иллюзии в нашем смысле слова. В конечном итоге оно не намерено воплощать что-либо в конкретных образах, а хочет лишь рассказывать, стремится не к самоутверждению, а к влиянию на зрителей. Они вовсе не хотят действия как такового в виде законченной сценической формы в том понимании, какое присуще нашей европейской сцене… Содержание для них все. Сценическое или актерское искусство стоит на втором плане. Пьеса читается с распределением ролей между исполнителями, которые для большей ясности костюмированы, и эти костюмированные рапсоды поставлены на подмостки, в глубине которых задник слегка намечает место действия»[233]233
Гагеман К. Игры народов. Вып. 1: Индия. Пг., 1923. С. 26–27.
[Закрыть].
Гагеман завершает свое описание прямым указанием на «близкое родство их (сингалезов) сценической площадки со старинной, разделенной на три части сценой шекспировского театра»[234]234
Там же. С. 28.
[Закрыть] (имеется в виду просцениум, средняя часть сцены и часть, примыкающая к заднику). Говоря о японском театре, Гагеман опять подчеркивает черты сходства его сцены со сценой шекспировского театра[235]235
Гагеман К. Игры народов. Вып. 2: Япония. Л., 1925. С. 10, 49.
[Закрыть].
Но сходство не ограничивается только внешним строем сцены, тем, что она, как и в театре Шекспира, глубоко вдавалась в зрительный зал и была с трех сторон окружена зрителями. Как пишет Гагеман, в «японских пьесах наблюдается гораздо более тесный контакт между актерами и зрителями, чем у нас в Европе, где широкая публика приемлет только нечто совсем готовое и ясное, решительно отклоняя всякое сотворчество. Здесь же необходима подвижность фантазии, неизмеримо больший интерес к игре и нервная сила, которую мы напрасно будем искать у себя»[236]236
Гагеман К. Игры народов. Вып. 1: Индия. С. 19.
[Закрыть]. От зрителя шекспировского театра также требовалось сотворчество такого рода – активное отношение к происходящему на сцене, развитая способность наглядно представить себе то, о чем говорится в речах актеров, словом, гораздо большее напряжение внимания, чем то, какое требуется в театре, где все изображается с наглядной натуральностью.
Для восточного театра характерна система условных жестов и действий, символический характер которых понятен зрителям, так как эти приемы существуют веками. Исследователи отмечают, что в Индии народное театральное искусство имеет «богато разработанную мимику и канонические жесты»[237]237
Бабкина М. П., Потабенко И. С. Народный театр Индии. М., 1964. С.40.
[Закрыть]. «При помощи традиционных жестов можно изображать самые разнообразные состояния и чувства человека»[238]238
Там же. С. 41.
[Закрыть].
В китайском театре движение актера восполняет отсутствие декораций. Стоит ему шагнуть так, как будто он переступает через порог, и это означает, что он вошел в дверь дома. Когда он берет в руку плетку или хлыст, то это в сочетании с двумя-тремя другими жестами дает понять, что он садится на коня и отправляется в путь[239]239
См.: Эйдлин Л. Театр и актеры. // Театр. 1957. № 2.
[Закрыть].
Актеры восточного театра отнюдь не просто копируют бытовые жесты. Их телодвижения условны, точнее сказать, они стилизованны. Особенно заметна стилизация, когда изображаются поединки и сражения. Они не похожи на беспорядочные потасовки и драки. Наоборот, движения актеров размеренны, подчинены определенному ритму, который подчеркивается ритмическими ударами мечей друг о друга или о щиты. Перед зрителем не имитация сражения во всей его натуралистической жестокости, а скорее своего рода ритуал.
И это естественно, ибо в старинном театре, изображая сражения, копировали не подлинную битву, а воспроизводили древние ритуальные танцы, исполнявшиеся накануне боя или на празднестве в честь победы над врагом.
Битвы и поединки, столь частые в исторических драмах Шекспира и его современников, несомненно, также изображались в стилизованном виде. Ремарки в пьесах того времени скупы, но мы не совершим ошибки, предположив, что сцены сражений в пьесах того времени игрались с соблюдением церемониала рыцарских турниров. Такой поединок изображен Шекспиром в «Ричарде II» (I, 3).
В восточном театре реальные размеры сценической площадки не ограничивают места действия. Движение актера и в этом отношении играет решающую роль, если надо изобразить большое пространство. Рука, приложенная козырьком ко лбу, и напряженный вид актера, как бы вглядывающегося в даль, ясно показывают, что перед действующим лицом поле или другое свободное пространство. Делая один-два, а то и больше кругов по сцене, актер тем самым дает понять, что он совершает длительное путешествие. Соответствующие телодвижения показывают подъем в гору или спуск с нее.
Если на сцене два или больше актеров, совершающих путешествие, то хождение по сцене прерывается диалогами. Актеры останавливаются на авансцене, указывают на какой-нибудь предмет или проходящего человека, беседуют, а затем продолжают путь по сцене[240]240
См.: Образцов С. Театр китайского народа. М., 1957. С.188.
[Закрыть].
Помня эти приемы восточного театра, вернемся теперь к Шекспиру. Обратимся, например, к сценам из «Короля Лира», где Эдгар, служа поводырем своему ослепленному отцу Глостеру, странствуя с ним, взбирается на меловой утес и затем наблюдает, как Глостер пытается сброситься со скалы, чтобы покончить со своими страданиями (IV, 6). Трудно допустить, чтобы Шекспир ввел такой эпизод, не рассчитывая на определенные способности актеров. Однако я ни разу не видел в современном театре, чтобы это изобразили с необходимой выразительностью. Всегда получается смешно и нелепо, потому что движения актеров искусственны и они не владеют необходимой для этой сцены техникой движения. Я отчетливо представляю себе, как могли бы сыграть эту сцену актеры, обладающие пантомимической техникой восточного театра.
Вспомним одну сцену из комедии «Укрощение строптивой», когда Петруччо и Катарина возвращаются в Падую. Если мы хотим узнать, как это игралось в театре Шекспира, то нам поможет узнать это обращение к восточному театру.
Диалог Петруччо и Катарины распадается на две части. Он начинается с того, что Петруччо восклицает:
Совершенно очевидно, что Петруччо и Катарина вбегают на сцену (может быть, с хлыстами в руках, указывающими на то, что они едут верхом), он останавливается, указывает на воображаемое или нарисованное солнце (у Хенсло, как помнит читатель, был «холст с изображением Луны и Солнца»), и между ним и Катариной загорается спор. Катарина в конце концов уступает. Снова Петруччо торопит:
Вперед, вперед! Катиться должен шар
По склону вниз, а не взбираться в гору.
Но тише! Кто-то к нам сюда идет.
Это входит Винченцио. Петруччо называет старика синьорой, девицей и требует, чтобы Катарина соответственно обратилась к почтенному старцу. Перерыв между первым и вторым спором в тексте краток и занимает всего три строки. Совершенно очевидно, что актеры шекспировского театра совершали в это время какое-то движение по сцене, то ли возвращались обратно, то ли кружили по ней, и лишь тогда появлялся Винченцио.
Мы остановились на этих, казалось бы, деталях, ибо они раскрывают загадочные стороны английского театра. Не может быть никакого сомнения, что методы древнего театра Востока в ряде существенных черт аналогичны европейскому, в данном случае английскому театру эпохи Возрождения.
Но мы не станем утверждать, что аналогия является полной. При несомненной близости некоторых сценических средств английский театр эпохи Возрождения представляет иную ступень сценической культуры.
Прежде всего это видно в том, что маска уступила место живому лицу актера. Если ж костюм и здесь и там средство социальной и, до некоторой степени, нравственной характеристики персонажа, то в английском театре индивидуализация вносит многое, еще отсутствующее в театре Востока.
Рассматривая вопрос о природе сценического искусства эпохи Шекспира в перспективе мирового развития театра, мы приходим к выводу, что английское Возрождение стоит как бы между древней театральной культурой как Востока, так и самой Европы в Средние века и театральной культурой нового и новейшего времени. Сценическое искусство Шекспира и его современников еще во многом близко условностям древнего народного театра, но вместе с тем оно уже предвосхищает многие элементы позднейшего театра с его психологическим реализмом.
Театр Англии в эпоху Возрождения, несомненно, прибегал к условностям в меньшей степени, чем восточный театр, но пользовался ими намного больше, чем наш современный театр.
Формалистическим лжетолкованиям условности в театре мы противопоставляем историзм в понимании особенностей театральной культуры на разных этапах ее развития. Стремление к жизненной правде, жажда осмысления жизни всегда составляли двигательный нерв театрального искусства. На разных стадиях это достигается разными средствами, но в сознании зрителей в каждую данную эпоху эстетический эффект является определенно реалистическим.
«Если жизненная правда, – пишет Г. Бояджиев, – является основой реалистической театральности, то это не значит, что на сцене не допускаются условные приемы, что в искусстве условность враждебна реализму… Если художник применил условный прием, но этот прием заключает в себе виденный режиссером или актером образ реальности и способен пробудить воображение зрителей, то при всей своей внешней несхожести с действительностью прием этот заставляет вспомнить ее, озаряется ее идеей и темпераментом. В искусстве подтверждается закон сохранения энергии – эмоции, вызванные человеческими переживаниями, при введении условного приема не пресекаются, а лишь получают другую форму, психологический процесс продолжается, и зритель, захваченный действием, верит в условность, как в образ реального… Главное в том, что если порождено чувство правды, то уж безразлично, каковы приемы игры, условные они или не условные, так как в самой реакции на условный прием заключается восприятие его как истинного, как явления плоти и души человеческой»[242]242
Бояджиев Г. Поэзия театра. М.,1961. С. 68–69.
[Закрыть].
Сказанное в полной мере может быть применено к театру эпохи Шекспира. То был театр поэтической правды о жизни, театр великих идей и грандиозных страстей, театр, обладавший всеми качествами истинного и прекрасного искусства.
В эпоху Шекспира многие прежние условности сцены отмирали. Обобщенно-типическое начинало уступать место индивидуальному. В драмах Шекспира нередко можно увидеть сочетание, а иногда даже столкновение этих двух начал сценического искусства. Особенно заметно это тогда, когда персонажи Шекспира рассуждают об актерской игре. В «Ричарде III», например, можно услышать рассуждение о характерных приемах исполнения трагических ролей.
Ричард III спрашивает своего пособника в злодействах:
Кузен, умеешь ты дрожать, бледнеть
И на полслове прерывать дыханье,
И говорить, и снова замолкать,
Как будто ты от страха обезумел?
На это Бекингем отвечает:
Имел ли в виду Шекспир, что актеры именно так играли свои роли в «Ричарде III»? Нет ли в данном эпизоде скрытой иронии автора, знающего, что подобные приемы уже отживают свой век? Возможно, что ирония Шекспира таит предвестие грядущих перемен в актерском искусстве.
Персонажи Шекспира, надо сказать, не только любят рассуждать о театральном искусстве. Им свойственно стремление к лицедейству. Не будет преувеличением, если мы скажем, что у некоторых героев и героинь Шекспира театральность, что называется, в крови.
Интересный пример этого мы находим в комедии «Как вам это понравится». Розалинда, переодевшись в мужское платье и выдавая себя за юношу, предлагает Орландо обращаться с ней, как если бы она была девушкой. Мы видим здесь один из самых ярких примеров того, что можно назвать всепроникающей театральностью Шекспира. Тончайшая ирония окрашивает этот восхитительный эпизод пьесы, созданный драматургом в расчете на зрителя, любящего и понимающего театральные условности, ту богатую пищу, которую они дают воображению.
Укажем на еще один подобный эпизод, созданный Шекспиром в «Генрихе IV» (1-я часть). Загулявшего принца призывают ко двору. Принц предлагает Фальстафу прорепетировать его будущую встречу с королем. «Изображай моего отца и разбирай по косточкам мое поведение», – говорит принц Генри. «Изволь, – отвечает Фальстаф. – Пусть этот стул будет моим троном, этот кинжал – моим скипетром, а эта подушка – короной». Фальстаф сначала пародирует высокопарный стиль старинной трагедии «Камбиз»:
Уйдите, лорды, с грустной королевой:
Полны слезами шлюзы глаз ее.
Затем он произносит речь от лица короля, уснащая ее антитезами в духе эвфуизма: «Я говорю тебе это, Гарри, не сквозь хмель, а сквозь слезы, не в шутку, а в горький упрек, не только словами, но и стонами…». Но Фальстаф не выдерживает стиля и кончает бытовым вопросом: «Теперь скажи мне, бездельник, скажи, где ты пропадал весь этот месяц?» Принц тотчас делает ему замечание: «Разве короли так говорят?» Он берется показать Фальстафу, как именно говорят короли. Тогда Фальстаф – в тон ему – показывает, как должен говорить принц.
Эта сцена полна бесподобного комизма и является одним из перлов шекспировского юмора. Для нас она представляет особый интерес как один из великолепнейших образцов обнаженной театральности. Каждая деталь этого эпизода полна смысла, который был особенно ясен публике шекспировского театра, научившейся разбираться в подобного рода тонкостях.
К концу 1590-х годов драматургия во многом изменилась, в первую очередь благодаря Шекспиру. Он не отказывался от патетики и риторики там, где они были уместны, но наряду с этим сделал речи персонажей более естественными, приблизив их к живому разговорному языку. Это, естественно, потребовало и изменения манеры актерского исполнения.
Перелом наметился у Шекспира в хрониках «Генрих IV», «Генрих V» и в комедиях «Как вам это понравится» и «Виндзорские насмешницы», написанных в последние годы XVI столетия. В названных пьесах-хрониках еще немало риторики и патетики, но наряду с этим в них много диалогов и речей в более живой разговорной манере. Характерная черта этих пьес – обилие прозаических диалогов и речей.
Выше мы приводили образцы монологов в патетическом стиле. Сравним их с тем, как Генрих V предлагает французской принцессе стать его женой:
Я надеюсь, Кет, тебе понятно, что я за тебя сватаюсь. Я рад, что ты не знаешь по-английски, а то, пожалуй, ты нашла бы, что я слишком уж прост для короля, – еще подумала бы, что я продал свою ферму, чтобы купить корону. Я не знаю разных любовных ухищрений, а прямо говорю: «Я вас люблю», и если вы меня спросите, искренне ли, я отвечу – да, но если вы потребуете от меня еще излияний, то пропало мое сватовство. Отвечайте же мне поскорее. Ударим по рукам и дело с концом. Ну, что вы мне скажете, леди?[244]244
«Генрих V» (V, 2), перевод Е. Бируковой.
[Закрыть]
Различие стилей монологов Тамерлана и Ромео, с одной стороны, и речи Генриха V с другой, – очевидно. Не менее очевидно и то, что исполнение речи Генриха V в декламационной манере произвело бы впечатление пародии. Для произнесения таких речей требовались живые разговорные интонации.
Пример, приведенный нами, относится к переходной поре в драматургическом творчестве Шекспира. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы не только прозаические, но и стихотворные речи его персонажей зазвучали более естественно. «Гамлет» и был тем произведением Шекспира, в котором впервые в полной мере раскрылась новая манера поэтической драмы. Диалоги и монологи в «Гамлете», «Отелло», «Короле Лире», «Антонии и Клеопатре» сочетают возвышенность, присущую поэтической трагедии, с более живой и естественной интонацией.
Не случайно, что в трагедию, которая была произведением нового поэтического стиля, Шекспир включил рассуждение о том, какой должна быть новая манера актерской игры.
Напомним читателю мысли Шекспира: «Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким языком… будьте во всем ровны; ибо и в самом потоке, в буре и, я бы сказал, в смерче страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей мягкость… Не будьте также и слишком вялы, но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником; сообразуйте действие с речью, речь с действием; причем особенно наблюдайте, чтобы не преступить простоты природы; ибо все, что так преувеличено, противно назначению лицедейства…»[245]245
«Гамлет» (III, 2), перевод М. Лозинского.
[Закрыть]
Шекспир осуждает здесь актерскую манеру, характерную для площадного театра, в котором приходилось кричать и представлять поведение человека в утрированном виде для того, чтобы сделать действие, происходящее на сцене, понятным для шумной толпы зрителей.
Поэтому Гамлет с возмущением говорит об актерах, «которые, если не грех так выразиться, и голосом не обладали христианским, и поступью не походили ни на христиан, ни на язычников, ни вообще на людей, так ломались и завывали, что мне думалось, не сделал ли их какой-нибудь поденщик природы, и сделал плохо, до того отвратительно они подражали человеку»[246]246
Там же.
[Закрыть].
Но, с другой стороны, Гамлет не хотел бы, чтобы актерская речь и манера исполнения были вялыми. В речи Гамлета обращает на себя внимание то, что герой соотносит актерскую игру с «природой». Иначе говоря, образ, создаваемый актером, должен выражать природу человека, то есть воплощать типичные черты людей того или иного характера.
Давно уже признано, что речь Гамлета – манифест реализма в сценическом искусстве. Гамлет не только дает актерам практические советы, но выражает определенный эстетический принцип. Это – принцип самого Шекспира. Он состоит в том, что искусство сцены должно стремиться к художественной правде. Подчеркнем, что дело именно в художественной правде, а не в натуралистическом правдоподобии. В жизни проявления страсти могут быть дикими и необузданными. На сцене они должны выражаться в форме эстетически прекрасной. В этом смысл замечания Гамлета о том, что даже в моменты высшей страсти актеру следует «соблюдать меру».
Актером, для которого Шекспир писал роли героев, как мы знаем, был Ричард Бербедж. В какой мере соответствовало его исполнение тому идеалу, который нарисован Гамлетом? Автор «Первого краткого очерка английской сцены» (1660) Ричард Флекно составил характеристику Бербеджа, основанную на отзывах современников великого актера и на преданиях, сохранявшихся о нем в театральной среде.
«Он был воспитательным Протеем, – пишет Флекно о Бербедже. – Он совершенно перевоплощался в роль и, придя в театр, как бы сбрасывал свое тело вместе со своим платьем. Он переставал быть самим собой до самого конца спектакля, даже находясь за сценой. Между ним и нашими обыкновенными актерами была такая же большая разница, как между певцом баллады, едва ее произносящим, и превосходным певцом, сознающим всю свою привлекательность и умеющим менять и модулировать свой голос, вплоть до того, какое нужно дыхание для произнесения каждого слога. Он имел все данные превосходного оратора, оживлявшего каждое слово при его произношении, а свою речь движением. Слушавшие его зачаровывались им, пока он говорил, и сожалели, когда он смолкал. Но и в последнем случае он все-таки оставался превосходным актером и никогда не выходил из своей роли, даже если кончал говорить, но и всеми своими взглядами и жестами все время держался на высоте исполнения роли»[247]247
Цит. по кн.: Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 1. С. 544.
[Закрыть].
Характеристика Бербеджа – главный документ для суждения об актерском исполнении в эпоху Шекспира. Она с несомненностью свидетельствует, что Бербедж возбуждал у зрителей ощущение жизненности всего происходящего на сцене. Это подтверждается и элегией на смерть Бербеджа, автор которой писал: «Часто видел я его, когда он прыгал в могилу, приняв облик человека, обезумевшего от любви. И я готов был поклясться, что он действительно умрет в этой могиле. Часто видел я, как он, лишь играя на сцене, так верно изображал жизнь, что изумленным зрителям и (окружающей его) опечаленной свите казалось, что он на самом деле умирает, хотя он только притворно истекал кровью»[248]248
Там же.
[Закрыть].
Итак, для зрителей Бербедж полностью отождествлялся с персонажем, который он воплощал. Сохранился любопытный анекдот, подтверждающий это. Местный житель, показывая историческое поле битвы под Босуортом, где Ричард III был побежден и убит, объяснял своим слушателям: «Вот здесь Бербедж бегал по полю и кричал: "Коня, коня! Все царство за коня!"»
Мы поторопились бы, однако, решив, что Бербедж перевоплощался в роль так же, как это принято в современном нам театре. Иллюзия жизненности достигается не только психологическим реализмом. В характеристике, данной Флекно, есть следующее многозначительное утверждение: Бербедж «имел все данные превосходного оратора». Нельзя также не обратить внимания на то, что Бербеджа сравнивают с певцом, «умеющим менять и модулировать свой голос». Вспомним, что автор «Аркадской риторики» Абраам Франс прямо писал о сходстве правильной ораторской речи с хорошо скомпонованной песней.
Поэтому ни в коем случае нельзя отождествлять даже наиболее реалистические драмы Шекспира с нашими понятиями о реализме. Из пьес Шекспира совершенно очевидно, что значительная часть текста произносилась в приподнятом тоне.
Для того чтобы показать, что дело обстоит именно так, мы еще раз обратимся к «Гамлету». Все сказанное нами о большей естественности стиля трагедии по сравнению с ранними пьесами Шекспира остается в силе. Тем не менее каждая сцена трагедии наряду с диалогами и действиями содержит большее или меньшее количество речей, являющихся монологами.
Вот цифровые данные. В первой сцене первого акта рассказ Горацио о причинах тревоги в Дании, а затем его размышления о дурных приметах занимают 42 строки из 175, то есть немногим меньше одной четверти текста. Во второй сцене король произносит три речи, составляющие вместе 80 строк (мы не считаем его реплик, которые короче 10 строк). Затем следуют монолог Гамлета, насчитывающий 30 строк, и рассказ Горацио о появлении Призрака – 22 строки. Всего в этой сцене из 258 строк половину составляют речи монологического типа (126 строк). В третьей сцене 136 строк, из них 34 строки – советы Лаэрта Офелии, 26 строк – советы Полония Лаэрту, 25 строк – советы Полония Офелии и только 25 строк остается на диалог. В четвертой сцене четыре речи Гамлета – 25, 17, 21 и 17 строк, три речи Призрака – 13, 10 и 50 строк. Всего 153 строки из 191[249]249
Количество строк дается по тексту The Globe edition.
[Закрыть]. Если читатель даст себе труд открыть любую пьесу Шекспира, он убедится, что приведенный здесь подсчет является показательным для произведений великого драматурга.
Исходя из того, что актерам приходилось произносить большие монологи, смело можно утверждать: владение приемами ораторской речи было необходимой и притом одной из важнейших частей в арсенале выразительных средств шекспировского актера. У Аллена, игравшего в пьесах Марло, это первая и главная часть актерского мастерства. Актерам Шекспира со временем потребовалось и многое другое, кроме риторики.
Выше мы напомнили сцену, где Гамлет читает монолог. Полоний хвалит его за ораторское искусство. Но вот чтение того же монолога продолжает актер, и тот же Полоний с удивлением замечает: «Смотрите, ведь он изменился в лице и у него слезы на глазах». Значит, актер демонстрирует не умение, а подлинное перевоплощение. Оставшись вскоре после этого один, Гамлет размышляет о необыкновенной способности актера, который
Таким образом, театр Шекспира знает уже искусство перевоплощения. Для точности необходимо отметить, что степень и характер перевоплощения в данном случае ограничены стилевыми особенностями монолога, который произносит актер. Повторяем, он читает речь в стиле Марло и ранних трагиков английского Возрождения, текст ее полон выспренности. Поэтому не следует уподоблять шекспировского лицедея современному актеру реалистической школы. Тем не менее можно совершенно определенно утверждать, что в театре эпохи Шекспира исполнение являлось не только риторическим. Когда это подсказывалось текстом, оно было достаточно действенным. Эти приемы шли не из школы риторики.
Для характеристики сценического искусства эпохи Шекспира важное значение имеет одно место в «Троиле и Крессиде». Обсуждая раздор, происходящий среди вождей греческого лагеря, Улисс рассказывает о том, как потешаются над своими противниками Ахилл и Патрокл. Патрокл, оказывается, представляет в смешном виде других вождей:
Насмешник дерзкий, он забавы ради
Изображает нас в смешном обличье,
Он это представлением зовет.
Порою он, великий Агамемнон,
Изображает даже и тебя
И, как актер, гуляющий по сцене,
Увеселяя зрителей, считает,
Что чем смешней его диалог грубый,
Тем лучше он. Так дерзостный Патрокл
Тебя, о мудрый царь, изображает
Крикливым, скудоумным болтуном,
Произнося гиперболы смешные,
И что же? Грубой этой чепухе
Ахилл смеется, развалясь на ложе,
И буйно выражает одобренье,
Крича: «Чудесно! Это Агамемнон!
Теперь сыграй мне Нестора! Смотри,
Сперва погладь себя по бороде,
Как он, приготовляясь к выступленью!»
И вот Патрокл кривляется опять,
И вновь Ахилл кричит: «Чудесно! Точно
Передо мною Нестор как живой!
Теперь, Патрокл, изобрази его,
Когда спешит он в час ночной тревоги».
И что ж! Тогда болезни лет преклонных
Осмеивают оба силача:
Одышку, кашель, ломоту в суставах
И дрожь в ногах…[251]251
«Троил и Крессида» (I, 3), перевод Т. Гнедич.
[Закрыть]
Отвлечемся от возмущенного тона рассказчика. В описании Улисса важны два момента. Во-первых, имитация повадок и манер реальных лиц. Это одна из древнейших особенностей лицедейства, постоянно использовавшаяся для насмешек актеров над своими противниками. Более интересно другое. Из рассказа Улисса со всей очевидностью обнаруживается, что театру Шекспира были присущи приемы характерной игры.
Иначе и быть не могло. Если вспомнить пьесы Шекспира и Бена Джонсона, то этому не приходится удивляться. Ряд образов, созданных драматургами, могли быть воплощены только при наличии определенных приемов характерности.
У Шекспира немало сцен, основанных на законах чисто театрального действия.
Такова, например, сцена, когда Яго беседует с Кассио на виду у Отелло, который, однако, не слышит их речей. Он видит только выражение лица и слышит смех. Яго спрашивает Кассио о Бьянке, а тот в ответ смеется. Отелло думает, что речь идет о Дездемоне, и замечает: «Скажи пожалуйста, уже смеется!» Наблюдая их, Отелло затем по внешнему виду и жестам Кассио делает вывод: «Не отрицает и не может скрыть». Еще дальше: «Он просит порассказать подробней». И наконец: «Смеешься? Торжествуй. Ты пожалеешь»[252]252
«Отелло» (IV, 1), перевод Б. Пастернака.
[Закрыть].
Реплики Отелло имеют смысл, если зритель сам видит жесты, мимику и позы Кассио и Яго, которые могут быть истолкованы так, как их объясняет себе Отелло.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.