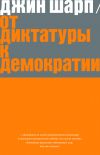Текст книги "Историки железного века"

Автор книги: Александр Гордон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Ученому не нравилась утвердившаяся в 1930-е годы датировка окончания революции падением Робеспьера. С позиций народного движения, он не находил резкой грани между предтермидорианским и посттермидорианским периодами: в данном отношении конец революции, полагал Захер, приходится либо на весну 1794 г., либо на жерминальское и прериальское выступления (1795). Иначе говоря, с ликвидацией самостоятельности парижских секций и подавлением повстанческой активности городских низов завершилась и собственно революция как движение народных масс.
Но эти критические мысли Я.М. высказывал в частном разговоре со мной. А публично, даже в лекционном курсе, придерживался официальной оценки термидорианского переворота, находя для нее свое обоснование: «Переворот 9 термидора означал не что иное, как переход власти из рук мелкой буржуазии в руки буржуазии крупной, и, как таковой, был переворотом контрреволюционным»[528]528
Там же.
[Закрыть].
Навязанный ученому из школы Кареева классовый поход порой редуцировался в его работах до характерного для ранней советской историографии «привязывания» якобинских группировок к слоям мелкой буржуазии: верхушка – дантонисты, «крепкая мелкая буржуазия» – робеспьеристы, «разоряющаяся городская мелкая буржуазия» – эбертисты[529]529
См.: ФЕ 1964. С. 100.
[Закрыть]. В этом отношении позиция Манфреда («якобинцы – это блок») выглядит для меня предпочтительней. Однако я всецело согласен со своим учителем в определении движущих сил переворота 9 термидора, в указании на «нисходящую линию» революционного движения, на образование «плебейской оппозиции» среди разочаровавшихся в диктатуре, на то, что проявление оппозиционности городских низов в дни переворота стало «одной из важнейших причин поражения и гибели робеспьеристов»[530]530
Захер Я.М. Плебейская оппозиция в Париже накануне 9 термидора // НиНИ. 1962. № 5. С. 57.
[Закрыть].
К сожалению, не пришлось Захеру развить свои соображения о термидорианском перевороте. В его письмах 1961–1962 гг. почти постоянно сообщалось о нездоровье, приступах удушья, мозговых нарушениях. Это заметно отражалось и на настроении, и на почерке. И вот в конце 1962 г. мне показалось, что наступило улучшение. Я.М. разуверил: «Вы находите, что я в хорошем настроении? Объясняется это тем, что я уподобляюсь тому попугаю, который сказал “ехать, так ехать”, когда кошка тащила его за хвост из клетки. Моя дальнейшая судьба мне хорошо известна и поэтому лучшее, что я могу делать, это faire une bonne mine á mauvais jeu»[531]531
Я.М. Захер – А.В. Гордону. 20 января 1963 г.
[Закрыть].
Было еще несколько писем. Последняя открытка – 1 марта 1963 г. – заканчивалась на середине: «Мне очень тяжело писать»[532]532
Я.М. Захер – А.В. Гордону. 1 марта 1963 г.
[Закрыть]. Потом телеграмма Зои Ивановны: «Яков Михайлович скончался четырнадцатого похороны семнадцатого 14 часов». По просьбе Кобба, с которым Я.М., по ее словам, «был в больших друзьях», она обстоятельно описала события 14 марта. Утром началось желудочное кровотечение, потребовалась операция, на которую Я.М., несмотря на больное сердце, охотно дал согласие. Зое Ивановне сказал, что «смерти он не боится, только бы умирать не в сознании». Но и такое избавление ему было не суждено. «Скончался в полном сознании и светлом разуме»[533]533
З.И. Захер – Р. Коббу. 28 апреля 1963 г. Кобб написал Далину, я передал просьбу Зое Ивановне. Она написала это письмо, но, видимо, по каким-то причинам я не отдал его В.М., и оно осталось в моем архиве.
[Закрыть].
Сколь различными были судьбы советских историков первого поколения, даже вылетевших из одного гнезда – школы Кареева! Ровесник Я.М., его однокашник, начинавший свою профессиональную деятельность в те же ранние 20-е годы в том же военно-политическом заведении, Владимир Владимирович Бирюкович (1893–1954) по внешним признакам проделал гораздо более благополучную карьеру. Избежал и ГУЛага, и увольнений с работы. Награжден высокими орденами.
Удача? С точки зрения житейской – безусловно. А вот с точки зрения творческой реализации сложнее. Испытывая более значительные сложности с освоением марксистского метода, Владимир Владимирович критический период внедрения его в советскую историографию, когда у Захера выходили книга за книгой, пропустил, ничего научно значимого между 1923 и 1938 гг. не опубликовав. Звездный час наступил для Бирюковича в конце 30-х. Он разрабатывает концепцию французского абсолютизма, защищает по ней докторскую диссертацию, становится начальником кафедры всеобщей истории Военно-политической академии, ему присваивают звание полковника. Вступает в ряды ВКП(б) и даже с принципиально партийных позиций критикует оставшегося беспартийным коллегу (см. гл. 4). Увы, это не спасло при очередной политкомпании. Возглавив сектор новейшей истории Института истории, Бирюкович выступил редактором книги дипломата и историка Б.Е. Штейна «Буржуазные фальсификаторы истории (1919–1939» (1951). А автора на излете «космополитчины» арестовывают. В опалу попал и редактор, его дело было отправлено в Комитет партконтроля. Бирюкович скоропостижно скончался, не узнав о прекращении «дела».
В некрологе говорилось: «Ушел крупный специалист по истории Франции, замечательный воспитатель молодежи, обаятельный человек»[534]534
ВИ. 1954. № 6. С. 191.
[Закрыть]. Все верно! Тридцать лет преподавания, ученики (среди них А.Д. Люблинская), учебные пособия. Несколько новаторских и содержательных статей. И… ни одной монографии.
* * *
Март 1968 г., «пражская весна». Прошу Поршнева прийти на мою защиту. Борис Федорович отвечает: «Благодаря Вашей работе процесс генезиса якобинской диктатуры прояснился, но меня больше интересует процесс ее крушения». Захер и Поршнев далеко не были антисоветчиками – напротив, глубоко советские люди[535]535
Я.М. как-то сказал мне, что хотел бы побеседовать с Н.С. Хрущевым. В архиве историка сохранились вырезка из «Правды» с текстом постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» и брошюра «К вопросу о культе личности» (издательство «Правда». 1956) с многочисленными отчеркиваниями.
[Закрыть]. Оба приобщились к культуре партийности, и никогда не принадлежавший к правящей Поршнев в большей мере, чем Захер, мог считаться «беспартийным большевиком». Люди разных поколений, историки различной научной формации. А вот сошлись на одном – интересе к крушению диктатуры и роли, которую сыграла в этом утрата поддержки масс.
Глава 4
Системосозидатель Б.Ф. Поршнев[536]536
Исходной базой для написания главы явились мои воспоминания «Б.Ф. Поршнев: Впечатления и размышления» (опубл. в ФЕ. 2005. С. 43–62) и наша совместная с О.Т. Вите статья в серии «портретов историков» – Вите О.Т., Гордон А.В. Борис Федорович Поршнев (1905–1972) // ННИ. 2006. № 1. С. 181–200. Отмечу отдельно, что в тексте настоящей главы приводятся ссылки на материалы из Отдела рукописей РГБ, которые были переданы для нашей публикации О.Т. Вите.
[Закрыть]

Если определить характер творчества и тип научного мышления Б.Ф. Поршнева (1905–1972) одним словом, думаю, это «системность». Cреди историков он был уникальным исследователем-мыслителем, деятельность которого направлена на разработку и формулирование определенной познавательной системы. Создававшаяся им «система истории» – один из самых значительных в советской историографии примеров «системосозидания».
Остаются остро актуальными две ведущих оси поршневской «системы истории»: идея единства всемирной истории и активная роль общественного сознания в историческом процессе. «Когда говорят о всемирной истории, – писал Поршнев, – имеют в виду три аспекта. Во-первых, подразумевается, что она цельна и едина во времени – от ее начала в доисторические времена до наших дней. Во-вторых, подразумевается, что она цельна и едина в смысле охвата живущего на земле человечества, т. е. является всеобщей историей живущих в каждый момент рас, языков, народов. В-третьих, подразумевается цельность, полнота, единство многогранной общественной жизни.
Общественное бытие и общественное сознание, политика и культура, войны и мирный быт, лингвистика и психология, словом, все человеческое должно быть охвачено во взаимосвязи»[537]537
Поршнев Б.Ф. Мыслима ли история одной страны? // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 302–303.
[Закрыть].
Другой компонент поршневской философии истории – активная роль человеческого сознания. Всемирно-исторический процесс опирается на фактор столь же основательный, как противоречие интересов различных субъектов, а именно – их заинтересованность в поддержании связей между собой, в сохранении, говоря словами Поршнева, «сверхобщности» человечества. Столкновение различных объективных тенденций придает решающее значение сознанию, его зрелости на всех уровнях, начиная с индивидуального. Формированию универсалистских установок: «Люди сами творят свою историю», в том числе – ее всечеловеческое единство.
В «системосозидании» Поршнев проявил себя вполне универсалистом, иначе говоря, всю жизнь и во всех аспектах научной деятельности вполне в духе Гегеля стремился к построению универсальной системы. Он не признавал разрыва между гуманитарным и естественным знанием, преодолевал барьеры наук об обществе и человеке, да и в рамках собственно исторической науки выступал реформатором-разрушителем отраслевой специализации, будучи искренне убежденным, что свое подлинное значение факты прошлого той или иной страны приобретают лишь во всемирно-исторической перспективе.
Несомненно, Поршнев размышлял о смысле истории, но как материалист искал воплощение «абсолютной идеи» в тех социальных силах, что давали ход историческому процессу. Именно поиски смысла истории и абсолютизация в этом поиске значения классовой борьбы выделили Поршнева в сообществе историков-медиевистов, где он начинал свою профессиональную карьеру. Исключительная роль классовой борьбы как движущей силы истории оказалась в центре острой полемики, которую вызвали статьи Поршнева на рубеже 40–50-х годов. При этом среди участников той знаменитой дискуссии Поршнев, по словам исследователей, «как никто другой был увлечен поиском смысла и логики истории»[538]538
Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х годов ХХ века). Тюмень, 2003. С. 238.
[Закрыть].
Творчество Поршнева характеризуется сложным единством абстрактно-логического и конкретно-исторического подходов. И ему не раз приходилось слышать от оппонентов, что у него «все развивается логически, но история остается ни при чем»[539]539
Там же. С. 98.
[Закрыть]. Упрек понятный, но справедливый ли? Действительно, Поршнева всегда тянуло к философии истории, его отличал философский склад ума, и не случайно в различных дискуссиях философы его дружно поддерживали. «Прекрасная наука», – говорил он о философии[540]540
Туполева Л.Ф. Вспоминая Б.Ф. Поршнева // ФЕ. 2005. С. 65.
[Закрыть]. С блеском защитил докторскую диссертацию по философии.
К этому можно добавить, что собирался он защищаться и по психологии, которой начал заниматься еще в 20-х годах, параллельно с историей. И все же он был настоящим историком и работал с историческим материалом, нередко архивным. Академик Г.Н. Севостьянов, инициатор замечательной серии «портретов историков», знал Поршнева с той самой печально знаменитой дискуссии медиевистов, где ему, тогда еще аспиранту, довелось в качестве секретаря парторганизации Института истории вершить «партийный суд» над беспартийным ученым[541]541
Замечу, что Г.Н. Севостьянов (1916–2013) был к тому времени, хотя и начинающим ученым, но вполне зрелым человеком, за его плечами было партизанское движение в лесах Беларуси. Его участие в дискуссии было скорее умеряющим, чем разжигающим страсти. Он явно стремился понять позиции сторон и одергивал наиболее агрессивных оппонентов Поршнева. Прекрасно характеризует Г.Н., что он одновременно приветствовал написание портрета принципиального противника Поршнева в дискуссии В.В. Бирюковича: «Я лично знал его. Он достоин, чтобы его вспомнили добрым словом» (Письмо акад. Г.Н. Севостьянова проф. В.П. Золотареву от 14.04.1999 цит. по автореферату О.И. Зезеговой. Режим доступа: http://www. dissercat.com/content/istoricheskie-vzglyady-vv-biryukovicha. См. также: Золотарев В.П., Зезегова О.И. Владимир Владимирович Бирюкович // ННИ. 2001. № 6. С. 171–189).
[Закрыть]. Григорий Николаевич несколько лет уговаривал меня написать историографический портрет Поршнева, наконец возмутился: «Уже появляются портреты второразрядных историков, а такого, как Поршнев, у нас нет».
Довод был неотразим. И я обратился к Олегу Тумаевичу Вите (1950–2015) с просьбой помочь в выполнении этого ответственного задания. Хочется отдать дань памяти этого ученого и человека. Его продолжавшийся несколько десятилетий труд по воссозданию научной биографии Поршнева и реконструкции в целостном виде его главного труда «О начале человеческой истории» был в полном смысле слова подвижничеством. Собрав документы из поршневского фонда Отдела рукописей РГБ, малоизвестные работы и воспоминания, Вите обстоятельно проследил творческий путь ученого, проанализировал самые драматические эпизоды, связанные с отношениями внутри профессиональных корпораций – медиевистов, новистов, психологов, антропологов.
Новаторским явилось раскрытие поршневской палеопсихологии, для чего О.Т., экономисту по первому образованию и психологу по второму, пришлось углубиться в целый ряд смежных дисциплин от физиологии высшей нервной деятельности и биологии приматов до психоанализа и этнографии. Скажу прямо: все сложные для меня-гуманитария вопросы освещены в этой главе благодаря вкладу Вите в нашу совместную работу.
Большая удача для отечественной историографии и мировой исторической науки, что изучением творчества Поршнева занялся такой замечательный человек. Счастье, что ему удалось довести свой труд до завершения[542]542
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории: Проблемы палеопсихологии / Под ред. О.Т. Вите СПб., 2007. 720 с.
[Закрыть]. О том, что исследование творчества Поршнева стало делом жизни и для самого О.Т., убедительно свидетельствует помещенный в книге обстоятельный обобщающий очерк[543]543
Вите О.Т. «Я – счастливый человек»: Книга «О начале человеческой истории» и ее место в творческой биографии Б.Ф. Поршнева // Там же. С. 576–706.
[Закрыть].
Не могу не упомянуть и о том, что мой образ Б.Ф. складывался не только из собственных впечатлений, но и из семейной хроники в пересказе Екатерины Борисовны Поршневой (1931–2018), моей хорошей знакомой на протяжении нескольких десятков лет. Впоследствии ей благодаря поддержке О.Т. Вите удалось в основном опубликовать свои воспоминания[544]544
Поршнева Е.Б. Реальность воображения (записки об отце) // Там же. С. 539–575.
[Закрыть]. Началом творческого пути Поршнева как историка много лет занимается Т.Н. Кондратьева[545]545
См.: Кондратьева Т.Н. Борис Федорович Поршнев: начало большого пути // Вестник Новосибирского гос. университета. Сер.: история, филология. 2016. № 1. С. 156–171; Она же. Борис Федорович Поршнев – заочный участник дискуссии о формациях и споров о торговом капитализме (начало 30-х годов) // Вестник Томского гос. университета. 2018. № 426. С. 123–129. Она же. Борис Федорович Поршнев: Между русистикой и франковедением или о роли случайностей в судьбе историка // Quaestio rossica. 2017. Vol. 5. N. 2. P. 853–866.
[Закрыть]. Использую также воспоминания С.В. Оболенской, Л.Ф. Туполевой и других коллег о позднем периоде жизни ученого.
Поршнев был коренным петербуржцем. Он появился на свет в семье Федора Ивановича Поршнева, получившего инженерное образование в Германии и владевшего кирпичным заводом (построенным его отцом в Гавани Васильевского острова). Кирпичи с фамильным клеймом «Поршневъ», по семейному преданию, находят в городе до сих пор. По воспоминаниям Е.Б. Поршневой, дед критически воспринял Октябрьскую революцию, в отличие от бабушки Аделаиды Григорьевны (Тинтуриной), большевички и сподвижницы Н.К. Крупской на ниве педагогики[546]546
Поршнева Е.Б. Указ. соч. С. 545.
[Закрыть].
В 1921 г. Борис закончил Выборгское училище (восьмиклассное коммерческое училище на Выборгской стороне Петрограда). Подобно Тенишевскому училищу (о котором шла речь в предыдущей главе) оно возникло под эгидой Министерства торговли и промышленности, что и обеспечило отчетливо либеральный характер обоих учреждений в отношении учебных программ и педагогического процесса.
Преобразованное в 1919 г. в школу № 157, оно сохранило вместе с директором П.А. Германом и значительной частью педагогов свои традиции[547]547
Среди тех, кто разрабатывал программу и устав, были выдающиеся петербургские историки Иван Михайлович Гревс и Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, первая в России женщина – магистр и доктор всеобщей истории. Кстати обучение в училище было совместным (См.: Доходный дом Б.Д. Любберса и Выборгское коммерческое училище. – Режим доступа: http://www.citywalls.ru/house8505.html).
[Закрыть]. А традиции эти, по описанию Екатерины Борисовны, следовавшей семейной хронике, были не менее прогрессивные и более демократичные, чем в Тенишевском[548]548
Поршнева Е.Б. Указ. соч. С. 548.
[Закрыть]. Можно добавить, что при всем либерализме заведения требовательность к знаниям учеников поддерживалась на надлежащем уровне. Во всяком случае, великий историк «засыпался» именно на экзамене по истории.
Именно тогда произошло первое знакомство юноши, воспитанного в отцовском преклонении перед естественными науками, со своей будущей специальностью. Провалив выпускной экзамен и готовясь к переэкзаменовке, он стал читать историческую литературу, постепенно увлекаясь. Подобное самообразование оказалось поистине судьбоносным, предопределив в конечном итоге своеобразие Поршнева как ученого.
Обнаружив, что существующие книги по истории описывают «отдельные ее события, а не саму историю», он, по собственным воспоминаниям об этом времени, «захотел написать обо всей истории целиком, о том, как она началась, по каким законам развивалась, так, чтобы получилась настоящая наука, наука, в основе которой лежит теория, а не только описание фактов» (Курсив мой. – А.Г.)[549]549
Там же.
[Закрыть].
В результате был сформулирован «категорический императив» Поршнева-историка: «Тот, кто изучает лишь ту или иную точку исторического прошлого или какой-либо ограниченный период времени… знаток старины, и не больше: историк только тот, кто, хотя бы и рассматривая в данный момент под исследовательской лупой частицу истории, всегда мыслит обо всем этом процессе»[550]550
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 95.
[Закрыть].
Сдав выпускные экзамены, Борис Поршнев поступает в Петроградский университет на общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук (ФОН), а в связи с переездом семьи переводится в 1-й Московский государственный университет на то же отделение. ФОН включал две профилирующие дисциплины – историю, которой Поршнев начал заниматься под руководством тогдашнего ректора МГУ и будущего академика В.П. Волгина, навсегда оставшегося для него глубокоуважаемым учителем, и психологию. Выбор последней тоже не был случайным.
«К окончанию университета, – вспоминал он много позднее, – созрело верное решение: психология – смык биологических и социальных наук, и, как ни сложны биологические, социальные еще много труднее … А история – слиток всех социальных наук. Долгим трудом я достиг признанного мастерства историка: центр – история XVII века, широкий концентр – исторические судьбы “срединной формации”, феодализма, еще более широкий – сам феномен человеческой истории от ее инициации до сегодня. Все это – закалка, прежде чем вернуться к психологии»[551]551
Поршнев Б.Ф. Борьба за троглодитов // Простор. Алма-Ата, 1968. № 7. С. 124.
[Закрыть].
По совету профессоров Г.И. Челпанова и К.Н. Корнилова, у которых Поршнев занимался психологией, он стал параллельно учиться и на биологическом факультете. Однако, выбрав профессией историю и получив в 1925 г. диплом об окончании ФОН, Поршнев не стал добиваться документа об окончании биофака, о чем позже жалел. Отсутствие свидетельства о биологическом образовании оказывалось для оппонентов решающим аргументом, чтобы отвергнуть его работы в области физиологии высшей нервной деятельности, эволюционной зоологии и других биологических наук. Спустя 40 лет Поршнев мог утешать себя лишь «неписаным правом» на диплом биолога: «Кто сделал дело в биологии, тот биолог»[552]552
Там же. С. 125.
[Закрыть].
В 1926–1929 гг. Поршнев – аспирант Института истории РАНИОН, пожалуй, лучшего исследовательского учреждения советской поры, где сотрудничали представители немарксистской и марксистской научной формации. А.З. Манфред вспоминал своего аспирантского товарища «очень подвижным, задиристым, готовым вот-вот ввязаться в спор, полным энергией, бьющей через край». Эта «задиристость», «азартность» в отстаивании своих позиций остались у Поршнева на всю жизнь, превратившись в постоянную «готовность к бою»[553]553
Манфред А.З. Борис Федорович Поршнев // ФЕ. 1972. М., 1974. С. 340–341.
[Закрыть].
Безусловно, бойцовские качества позволили Б.Ф. выдержать не одну дискуссию, где его позиция была крайне уязвимой и он оставался в меньшинстве, а то и в одиночестве. Но была у «задиристости» и оборотная сторона. Не только по идейно-теоретическим вопросам у Поршнева возникали конфликты с коллегами.
От 20-х годов сохранилось увлечение музыкальным фольклором, танцами. Оставался Поршнев и в поздние годы, по свидетельству дочери, прекрасным танцором и умел, наряду с классическими танцами, отбивать чечетку. Любил на разнообразных мероприятиях исполнять «Мурку», приводя в недоумение и некоторое смятение изысканно интеллигентных младших коллег[554]554
Лариса Федоровна Туполева, сотрудница сектора, рассказывала, с каким душевным содроганием согласилась она аккомпанировать «Мурке» на одном из институтских мероприятий тех лет. С подчеркнутым дистанцированием вспоминает о поршневском исполнении «Мурки» С.В. Оболенская.
[Закрыть]. Между тем к пению относился серьезно и даже брал уроки вокала. Но перевешивала склонность к озорству и к эпатажности, которая была свойственна и персонажу другой главы – Старосельскому. По Камю, эпатажность – проявление «метафизического бунта» личности (восстание «человека против своего удела и против всей вселенной»). Определенно, натура моих героев сопротивлялась насаждаемой казенщине общественной и научной жизни.
В начале 30-х годов определилась франковедческая специализация ученого. Издательство «Academia», планировавшее публикацию мемуаров видного участника Фронды кардинала Ретца, предложило Поршневу написать комментарии и предисловие к переводу. В мемуарах ему встретилось «беглое упоминание о каких-то народных волнениях накануне Фронды», оно и явилось искрой творческого процесса. Б.Ф. «захотел сделать как можно более обстоятельное примечание»; причем «чем труднее было найти материалы и факты, тем сильнее становилось упорство»[555]555
Поршнев Б.Ф. Как я работал в СССР над книгой по истории Франции XVII в. // Европа. Вып. 3. Тюмень, 2003. С. 195. См. также: Кондратьева Т.Н. От исторической фактуры к социологическим фигурам или как кардинал де Ретц обратил Бориса Федоровича Поршнева в франковеда // Новый исторический вестник. 2016. № 3. С. 145–165.
[Закрыть].
С 1935 г., будучи сотрудником кафедры средних веков ГАИМК (в рамках этого исследовательского центра в 30-х годах были разработаны основы формационной теории древности и Средних веков), Поршнев начинает знакомить коллег с результатами своих исследований: «Восстание в Байонне в 1641 г.», «Восстание в Бретани в 1675 г.». В 1939 г. на общем собрании отделения истории и философии Академии, посвященном 150-летию Французской революции, Поршнев выступает с докладом «Крестьянские и плебейские движения XVII–XVIII вв. во Франции». В 35 лет в ноябре 1940 г. на Ученом совете МИФЛИ, профессором которого он стал двумя годами раньше, Поршнев защищает докторскую диссертацию «Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648 гг.)». С 1943 г. становится сотрудником Института истории АН СССР, продолжая преподавательскую работу (МГУ).
Подготовленная на основе диссертации одноименная монография была опубликована в 1948 г. и, удостоенная Сталинской премии в 1950 г., предопределила не только репутацию Поршнева как крупнейшего советского исследователя народных движений, но и обеспечила международное признание ученого[556]556
Книга была переведена на немецкий (1954) и французский (1963) языки; на основе сокращенного французского издания 1972 г. (2 изд. – 1978) изданы испанский (1978) и итальянский (1976, 1998) переводы. Отдельные главы книги переведены на английский язык (1977).
[Закрыть]. С рецензиями выступили виднейшие французские специалисты И.М. Берсе, Г. Лемаршан, Э. Ле Руа Ладюри, Д. Лигу, Р. Мандру, Р. Мунье, Ф. Фюре[557]557
Всего по 1965 г. О.Т. Вите зафиксирован 21 отклик в зарубежной печати на книгу Поршнева.
[Закрыть]. Воссоздав картину непрерывной цепи народных восстаний, советский историк открыл для французов, что их XVII век, «Grand siécle» был до краев наполнен классовой борьбой, и с этой позицией нельзя было не считаться самым убежденным противникам марксизма (наиболее известный пример – ставшая хрестоматийной в мировой историографии полемика между Поршневым и Роланом Мунье).
XVII век был назван тогда во Франции «поршневским временем», причем смысл оценки раскрывается двояко: и в значимости того, что сделал ученый для его изучения, и в последствиях, которые имело это изучение в творческой судьбе ученого. От монографии 1948 г. пролегли две большие дороги научных исследований. Первой была разработка вопросов истории народных движений, теории феодализма и общественно-экономических формаций; вторая привела к «горизонтальным срезам» европейской истории периода Тридцатилетней войны.
Семь подготовленных во второй половине 40-х годов статей были посвящены феодализму[558]558
Были опубликованы четыре: Современный этап марксистско-ленинского учения о роли масс в буржуазных революциях // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1948. Т. 5. № 6; История средних веков и указание товарища Сталина об «основной черте» феодального общества // Там же. 1949. Т. 6. № 6; Формы и пути крестьянской борьбы против феодальной эксплуатации. // Там же. 1950. Т. 7. № 3; Сущность феодального государства // Там же. № 5.
[Закрыть]. В них, опираясь на исследование народных движений XVII века, Поршнев сформулировал постулаты своей концепции классовой борьбы, представив последнюю воплощением диахронического единства истории и универсальным носителем энергии исторического процесса.
Место, которое заняла в его представлениях классовая борьба, Поршнев пояснял «парадоксом Оскара Уайльда»: «Непокорность, с точки зрения всякого, кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, – благодаря непокорности и мятежу». «В этом афоризме, – утверждал Поршнев, – сквозит истина, по крайней мере, для всякого, кто действительно знает историю. А ее знал уже Гегель и поэтому тоже говорил, что движение истории осуществляет ее “дурная сторона”, “порочное начало” – неповиновение»[559]559
Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история (Элементарное социально-психологическое явление и его трансформация в развитии человечества) // История и психология. М., 1971. С. 18; ср.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. 2-е изд. М., 1979. С. 122.
[Закрыть]. Таково было кредо Поршнева-историка, его философско-историческая парадигма.
Значение произошедшего конфликта с большинством коллег-медиевистов, среди которых он начинал свою профессиональную карьеру, в творческой и человеческой судьбе ученого многозначно. Это – известная изоляция (и определенная самоизоляция) Поршнева в академической среде, которая не могла, думается, не способствовать развитию его теоретического «монологизма». И прежде всего формировать характерный для Б.Ф. агрессивный стиль полемики.
Ставшее привычным патетическое отстаивание «нашей марксистской позиции» – явное наследие идеологических схваток конца 40-х – начала 50-х годов; казавшаяся анахронизмом в период Оттепели, эта риторика оставалась для Поршнева выстраданной в буквальном смысле слова. Можно говорить о влиянии той схватки не только на психику ученого, но и безусловно на его реноме в профессиональном сообществе.
«Борис Федорович, – вспоминает близко его знавшая и симпатизировавшая ему C.В. Оболенская, – прослыл в академических кругах человеком, мягко говоря, оригинальным, совершенно непредсказуемым и нелегким в научном и в повседневном общении. Он действительно был человеком в высшей степени пристрастным и часто несправедливым, очень импульсивным и вспыльчивым, не умевшим и не желавшим сдерживать свои эмоции. Он мог неожиданно высказать совершенно необоснованно резкое суждение о почтенном человеке, выразиться недопустимо грубо, действовать, сообразуясь не только исключительно с собственным мнением, но иногда и со своим минутным настроением»[560]560
Оболенская С.В. Еще раз про историков. Борис Федорович Поршнев. – Режимдоступа: http://samlib.ru/o/obolenskaja_s_w/ manfred2.shtml).
[Закрыть].
Противоречивым было мнение тоже близкого к Б.Ф. человека Г.С. Кучеренко (1932–1997), которое излагает Гладышев: «Геннадий Семенович всегда ощущал себя учеником Поршнева и не упускал случая с благодарностью упомянуть его имя, даже если это и вызывало не слишком доброжелательную реакцию аудитории, как, например, в 1984 г. на ленинградской конференции, посвященной Дидро. Кучеренко понимал, что ему следует написать об учителе, но всячески уклонялся от этой обязанности. Причину он пояснил Надежде Юрьевне Плавинской: Писать о Поршневе однозначно нельзя. Слишком разным был этот человек. Писать о нем только хорошее – значит врать, а писать о нем плохое – пусть… пишут другие»[561]561
Гладышев А.В. Г.С.Кучеренко: Штрихи биографии // ФЕ. 2003. С. 188.
[Закрыть].
Допускаю, многое в поведении Б.Ф. вызывало недоумение и у многих, увы, оставались от общения с ним незаживавшие рубцы памяти. В том числе и у академического начальства. Кучеренко, выполнявший фактически всю оргработу по сектору развития социальной мысли в бытность руководства Поршнева жаловался: «Назовешь имя – сразу глухая стена».
Не следует его представлять неким изгоем в научном и властном мире, напротив он был, по крайней мере в конце 50-х и до середины 60-х на хорошем счету. В июне 1957 г. состоялась его командировка в Париж (едва ли не первая у историков-франковедов с начала Холодной войны). Поводом было участие в заседании комиссии по истории представительных и парламентских учреждений, где он выступил с докладом «Претензии Парижского парламента во время Фронды на роль представительного учреждения», а также зачитал доклад Е.А. Косминского. Но главным стали его разнообразные контакты на высоком уровне в научном сообществе, которые были оценены начальством: недаром посол продлил срок его пребывания в Париже[562]562
Отчет о командировке во Францию Поршнева Б.Ф. (поршнев. rar). Благодарю В.А. Погосяна за возможность использовать этот документ. Об этой поездке см.: Поршнев Б.Ф. Научные встречи в Париже // ННИ. 1957. № 4. С. 268–270. Cм. также: Его же. Поездка во Францию // ННИ. 1958. № 3. С. 209–210.
[Закрыть].
Поршнев ни много ни мало выступал статусным представителем корпорации советских историков, договариваясь о различных видах научного сотрудничества. Предлагал советским правоведам вступить в международное Общество по истории права, а властям – принять делегацию французских историков-марксистов и персонально некоторых видных представителей академического сообщества Франции («с супругами»).
То была весна Разрядки, и Б.Ф. пожинал плоды возобновления научных контактов, хорошо понятного человеческого узнавания друг друга: «Мы с вами – люди одной цивилизации», – сказал Поршневу директор Музея человека и Института человеческой палеонтологии Анри Валлуа[563]563
Валлуа после длительной беседы ознакомил Поршнева с основными экспозициями музея и отделами института. Любопытный штрих для будущего выдающегося палеоантрополога.
[Закрыть]. Возникали светлые надежды: профессор юрфака Сорбонны Франсуа Дюмон назвал контакты французских и советских ученых «строительством новой Европы». Единодушным было стремление не смешивать науку с политикой.
Поршнев с присущей ему широтой воспринимал проявленный к нему интерес. Обосновывая для начальства необходимость установления научных связей на личном уровне, он выступал глашатаем развития контактов с зарубежными коллегами: «Опыт общения с советскими учеными все более открывает им глаза на то, что последние, при всем отличии мировоззрения, не менее их уважают факты и источники, умело исследуют документы и памятники прошлого»[564]564
Отчет… С. 5.
[Закрыть].
Надо знать Бориса Федоровича, подчеркивая встреченную им доброжелательность, он не удержался и от личностных акцентов. Это – председатель комиссии, профессор Кембриджского университета Элен Кем, «проявлявшая по отношению ко мне много внимания и любезности». Или директор Национального архива Шарль Бребан: «Внимание, оказанное им мне, было значительно большим, чем требовала бы вежливость»[565]565
Там же. С. 4, 6.
[Закрыть].
Любопытно, что Поршнев держался свободно, и большинство его встреч проходило в неформальной обстановке, téte-à-téte (что вообще очень не рекомендовалось в ту пору), да и просто на дому у французских коллег. Дважды нанес домашний визит Дюмону, побывал и у преемника Матьеза, лидера левого течения французской историографии Жоржа Лефевра, и у заведующего кафедрой новой и новейшей истории Сорбонны Виктора Тапье, «правого католика», по аттестации Б.Ф.[566]566
Там же. С. 7.
[Закрыть].
Соответственно, «очень важным и первоочередным» Поршнев называл приглашение «в порядке важности»: 1) Дюмона с супругой, 2) Элен Кем 4) Виктора Тапье с супругой. На третью позицию Поршнев ставил Собуля с супругой. Б.Ф. оценил последнего как «талантливого и, пожалуй, наиболее выдающегося французского историка-марксиста»[567]567
Там же. С. 10.
[Закрыть]. Предложил издать сборник его статей в СССР (что и было сделано А.В. Адо). Провел ознакомительную-инструктивную встречу с французскими марксистами, направленную на установление регулярных связей. Поршнев также узнал от завкафедрой Клермон-Ферранского университета, члена ФКП, о том, как тому удалось провести его избрание доктором honoris causa.
При том не терял политической бдительности и в надлежащих случаях выказывал ее. Порой выходя за рамки требуемого. При посещении аббатства Руайомон, где тогда вместе с музеем размещался Центр международного научного сотрудничества, зайдя в зал заседаний во время перерыва в работе социологического съезда, Поршнев обнаружил на столе «антисоветскую макулатуру» на русском языке Института по изучению СССР в Мюнхене. Это «заведение сомнительного характера», предупреждал Поршнев кого следует о деятельности центра в Руайомоне[568]568
Там же. С. 5.
[Закрыть].
Помимо своих бесспорных научных данных и влияния на зарубежных коллег, Поршнев умел, наверное, «пробивать» начальство. Следствием были многочисленные по тем временам выезды за рубеж, причем неслыханно опять-таки по тем временам для ученых Поршневу однажды во время командировки во Францию удалось добиться приезда жены. Дорожил Б.Ф. этими поездками (дочери довелось слышать, что «там» он чувствует себя человеком[569]569
Ценность зарубежных поездок для советского человека была немало обусловлена возможностью привести «что-нибудь» для близких, а Б.Ф. был замечательным семьянином и, подобно коллегам, готов был экономить для этой цели на своем здоровье. Яркий эпизод повествует Оболенская о чае с горячей водой из крана, который заменил кипятильник. Было, конечно, и познание буржуазного мира с его «блеском-нищетой»: Ле Руа Ладюри с наслаждением рассказывал, как водил «профессора-марксиста» на стриптиз. Впрочем, что взять с «ревизиониста»?
[Закрыть]).
В том же 1957 г. Б.Ф. возглавил сектор новой истории западноевропейских стран, один из сильнейших по составу (10 докторов наук) и авторитетнейших в Институте истории. Полагаю, то без малого десятилетие (1957–1966) стало звездным часом в научно-административной карьере Поршнева, вобравшим яркий взлет и драматический уход и оставившим противоречивые воспоминания у коллег.
Взлет ярко описан Ларисой Федоровной Туполевой, аспиранткой, потом сотрудницей сектора. Заседания сектора под руководством Поршнева, вспоминает она, далеко выходили за рамки привычной рутины: Он «использовал все свои способности полемиста, психолога, лектора и педагога для того, чтобы в секторе разворачивались настоящие состязания между учеными при обсуждении различных направлений развития исторической науки. Возникшая в секторе творческая атмосфера способствовала выходу за пределы замкнутого пространства, очерченного идеологическими барьерами… Молодежь сектора… училась главному… нужно быть свободной в своем выборе. Такова была одна из главных особенностей стиля работы Б.Ф. – открывать другим перспективы научных исследований. Это было проявлением Оттепели в науке»[570]570
Туполева Л.Ф. Вспоминая Б.Ф. Поршнева // ФЕ. 2005. С. 64.
[Закрыть].
А вот иная картина от Оболенской: «Несколько первых моих лет в Институте истории Поршнев был заведующим сектором Новой истории, в котором работала и я. Это были довольно тяжелые годы для сектора: Борис Федорович сумел испортить отношения с большинством подчиненных, позволял себе непарламентские действия по отношению к ним, и часто на заседаниях сектора мы замирали в ожидании: что же сейчас произойдет?»[571]571
Оболенская С.В. Указ. соч.
[Закрыть].
В чем дело? Могут быть два объяснения. Во-первых, как предполагает и Туполева, могли накапливаться негативные эмоции с обеих сторон. Во-вторых, и я думаю это главное, реакция мэтров и молодежи на стиль Поршнева различалась. Молодежь восхищала творческая энергетика, для нее он слыл «живой легендой»[572]572
Белоус И.Д., Гораш И.К. Владислав Гросул: Дорогой исканий. Изд. 2. Кишинев, 2009. С. 24.
[Закрыть]. Некоторые мэтры утратили стремление к творчеству.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.