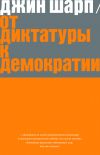Текст книги "Историки железного века"

Автор книги: Александр Гордон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Итак, «urbi et orbi», «для своего класса» и для «всего мира» – эта мировоззренческая установка классика сохраняла свое методологическое значение. Допущение «исторических рамок», детерминировавших ход и исход революции интересами буржуазии и задачами перехода от феодализма к капитализму, было характерно для многих выступлений за «круглым столом».
Такой подход демонстрировал вполне ту самую особенность советской историографии, которую Черткова назвала «финализмом». «Речь идет, – говорила она, – о стремлении рассматривать революцию прежде всего с точки зрения ее результатов, осуществления ею тех задач, которые перед ней стояли (притом, естественно, не может не предполагаться, что эти цели и задачи нам известны…). Этот подход оказался в свое время чрезвычайно плодотворным и очень много дал науке. Однако мне кажется, что на сегодня (хотя весьма возможно, что не навеки) он как бы “уперся в стену” (курсив мой. – А.Г.)». В качестве альтернативы Черткова предлагала «отнюдь не отказываясь от стадиальной характеристики революции посмотреть на нее… от истоков, а не от результатов» с тем, чтобы увидеть «диалектику детерминированности и альтернативности» не только «в предпосылках революции», но и в «самом революционном процессе»[1198]1198
Актуальные проблемы… С. 90–91.
[Закрыть].
Корень проблемы оказывался именно в «дипломатических» оговорках, которыми Черткова сопровождала свои проницательные замечания. Альтернативность уже у всех тогда была на слуху, а Черняк даже сфокусировал свой взгляд на ней, описав четыре альтернативы революционного процесса в якобинский период. Пикантность их выбора заключалась именно в уверенности советского историка в том, что цели и задачи революции ему известны.
Мало того, что толкование «целей революции» с неизбежностью заводило историческую мысль в сферу телеологии (почему и сам подход, деликатно названный Чертковой «финалистским», в истории философии соответственно и квалифицировался). Формулируя «задачи революции», – а этим в юбилейный период занимался, понятно, не только упомянутый историк – последний исходил из стадиально-формационной схемы, идеологически ориентированной на поступательное движение человечества к социализму.
В письме отцу в 1989 г. Адо писал, в частности, что ему кажется более разумным не «классовый подход» к истории, а «социальный анализ», что ему видится догматичной традиционная точка отсчета – исходить из задач буржуазной революции. «Здесь опять же телеологические представления, что есть некие “задачи” буржуазной революции, изначально предписанные неким высшим разумом, и странам и народам надлежит эти задачи исполнять, а историкам – следить, как эти задания были выполнены (или не выполнены)»[1199]1199
Цит. по: Бовыкин Д.Ю. А.В. Адо: научная эволюция в контексте эпохи // ФЕ. 2007. С. 286.
[Закрыть].
Впрочем, в ходе юбилейных дебатов в формационную схему вносились различные поправки. Необходимость осмысления революции в контексте целой переходной эпохи от феодализма к капитализму отстаивали Адо, Сытин, Черняк. Стремясь совместить этот подход с бытовавшим в советской историографии (революция – рубеж между феодализмом и капитализмом), вызвавшим своим механицизмом насмешки «ревизионистов», Адо предлагал новую трактовку революции – «не как жесткая финальная дата падения феодализма и полного утверждения капитализма, а как важнейший “событийный” рубеж… межформационного перехода». «Выросшее» из «процесса большой исторической длительности» такое «мощное и единовременное» «волевое усилие большинства народа» внесло в этот процесс, по мысли Адо, «изменения принципиального порядка», переведя «на новую колею» и придав «более мощный и современный движитель»[1200]1200
Актуальные проблемы… С. 11–12.
[Закрыть].
Молодые историки, ученики Адо пошли дальше. Раскрывая составляющие исторического «перехода», Пименова предложила избегать привязки Старого порядка к формационному определению: «экономика была многоукладной», в государстве и обществе «сложное переплетение разнородных элементов». Да, «сохранялись комплекс феодальных повинностей, сословное неравенство, провинциальный партикуляризм, цеховые регламенты и другие феодальные по происхождению элементы, главным образом государственно-правовой системы». Но, задавалась вопросами молодой историк, были ли они «определяющими, ключевыми» и «не изменилось ли их содержание с течением времени»?
«На современном уровне знаний, – заключала Пименова, – у нас нет оснований характеризовать систему общественных отношений предреволюционной Франции в целом как феодальный строй… Лучше пользоваться… термином Старый порядок». Благодаря своей неопределенности (формационной) он «не навязывает… готовой концепции, под которую пришлось бы подгонять факты». В то же время – и это было особенно перспективно – Пименова обращала внимание на многоуровневое содержание процессов, сопровождавших стадиальный переход: «конец биолого-демографического Старого порядка в XVIII веке, свержение государственно-правового Старого порядка в ходе Французской революции, уничтожение социально-экономического Старого порядка в ходе начавшейся в XIX веке промышленной революции»[1201]1201
Там же. С. 94–95.
[Закрыть].
Об относительной автономности процессов, происходивших в различных сферах общественной жизни, и несводимости их к экономической первопричине говорили различные участники «круглого стола». Социальное, в глазах выступавших, уже не требовало обязательного экономического дополнения по образу классического бинома советской историографии (пресловутой «соцэйки»), намечались подходы и «от культуры», и «от политики», и «от экономики».
Универсализация законов классовой борьбы и абсолютизация самого явления приводили к тому, что эти законы навязывались тем сферам, где они заведомо не действовали. «Пасынком нашей исторической науки, – говорил А.В. Ревякин, – стала экономическая история, где традиционное для классового подхода деление на “наших” и “врагов” оказалось не особенно плодотворным». Взаимоотношения между такими категориями, как «производитель» и «потребитель», «спрос» и «предложение», «строятся по иным законам, пренебрегая которыми, в экономической истории ничего не поймешь»[1202]1202
Там же. С. 247.
[Закрыть].
Эмансипация от классово-формационной схемы позволила Ревякину внести свой вклад в полемику о роли революции в экономическом развитии Франции. К идеологическим спорам, плодотворной либо бесплодной и даже вредной была она в экономической сфере, Ревякин предложил корректную поправку. Он отметил, что важнейшие негативные для французской экономики явления не были обусловлены революцией как таковой, а были следствием международной ситуации (крах внешней торговли, упадок «атлантического», т. е. рассчитанного на колониальные связи сектора промышленности). И вопрос о влиянии революции в краткосрочной перспективе следует сформулировать так: «почему французская экономика сумела не только выдержать все испытания, но обернуть их себе на благо?».
Вот и оказывается, по Ревякину, что решающую роль в преодолении кризиса и последующем развертывании промышленной революции сыграл человеческий фактор – «взрыв хозяйственной инициативы», выход в предпринимательство представителей различных слоев, в том числе из низов общества, и, в конечном счете, формирование нового типа деловых людей, сменивших старую, дореволюционную буржуазию. Возможности для их выдвижения и простор для их деятельности создали, в свою очередь, революционные преобразования[1203]1203
Там же. С. 193–195.
[Закрыть].
Дефекты классового подхода с присущей ему универсализацией классовой борьбы обнаружились даже в той проблематике, где он, казалось, должен был действовать безупречно. Симптоматично, что культурно-историческое измерение было востребовано прежде всего в излюбленном поле советской историографии – изучении народных движений. Ученицы Адо З.А. Чеканцева и Е.О. Обичкина обратились, и это очень показательно, к разработкам французских исследователей (Ж. Николя, И.М. Берсе, М. Вовель и др.).
Вновь задумались об «автономности», по Лефевру, крестьянского движения. «Традиционная марксистская оценка его остается в силе, – заявляла Обичкина, – но две неразрывные стороны одной большой проблемы – крестьянство и французская революция – могут быть рассмотрены… с точки зрения особой крестьянской линии борьбы». Рассматривая эту линию, молодой историк доказывала «социально-психологическую» общность антифеодальных и антиреволюционных выступлений. Правда, отдавая предпочтение перед Лефевром своему учителю, она считала возможным объяснение «крестьянской линии» в целом как одного из путей «экономической модернизации» страны – «радикально-крестьянского пути» капиталистического развития[1204]1204
Актуальные проблемы… С. 149–150.
[Закрыть].
А Чеканцева напоминала, что ученики Собуля Ф. Готье и Г.Р. Икни пришли к амбивалентности в оценке крестьянского радикализма: «историческая специфика аграрного эгалитаризма состоит в отказе от феодализма и в то же время в оппозиции процессу развития капиталистических социальных отношений»[1205]1205
Там же. С. 162.
[Закрыть]. Так, «от фактов», от конкретно-исторических обобщений, от разработок зарубежных ученых, в том числе марксистской ориентации, советские историки нащупывали неформационное, «третье» измерение.
Характеристика крестьянских выступлений неизбежно затрагивала проблему традиционности. В советской историографии к этой категории как инструментарию немарксистских теорий модернизации относились с большим подозрением. Однако она подспудно восторжествовала в изучении обществ Третьего мира, и, хотя в исследовании Французской революции ее избегали, влияние третьемирской проекции оказывалось ощутимым. И это был еще один удар по отождествлению Старого порядка с феодальным строем.
Примечательно, что Адо, характеризуя генезис террора, обратился именно к традиционным корням крестьянского мышления, уходившим в глубь веков. «Историки, в частности, его (террор. – А.Г.) связывают с самим типом народного массового сознания… с унаследованными еще от средних веков представлениями о ценности человеческой жизни, о праве посягнуть на нее… К концу XVIII века физическое насилие отступало в жизни французского общества, но традиции его были еще достаточно сильны». В связи с этим советский историк крестьянства приводил примеры крестьянских расправ, превращавшихся в языческое празднество. В ответ на мою реплику по поводу того, что он назвал «устрашающим торжеством» – «это жертвоприношение», Адо подтвердил: «Да, действительно, это ритуальные действия»[1206]1206
Там же. С. 236–237 (о древнем ритуальном смысле народного насилия см.: Гордон А.В. Крестьянство Востока… Гл. 4).
[Закрыть].
Замечания историка о генезисе террора (в заключительном выступлении за «круглым столом») прозвучали очень весомо прежде всего потому, что в них содержался прямой ответ антиякобинскому пафосу выступлений на этом обсуждении (и еще более в перестроечной публицистике). Адо отвечал и на консервативно-почвенническую, и на радикалистско-либеральную критику советской историографии якобинства. Методологическое содержание его выступлений было не менее значимым, чем идеологическое. Впервые обратившись к культурно-историческому анализу, выдающийся советский историк отметил роль в развязывании террора не только крестьянской традиционности, но и «вклад» Просвещения с присущим ему естественно-правовым, «нормативным мышлением».
«Естественный и разумный порядок, его истины считались столь очевидными, что любому неиспорченному человеку они могли быть открыты с легкостью и простотой». Соответственно, не признающий эти истины, оказывался «испорченным», заключал Адо, ссылаясь на высказывание, произнесенное задолго до Террора, еще в 1790 г.: «В политике, как и в морали, существуют настолько самоочевидные истины, что поверить в порядочность тех, кто их нарушает, просто невозможно»[1207]1207
Актуальные проблемы…. С. 239–240.
[Закрыть].
Проделанный Адо культурно-исторический анализ, пусть это не было осознано вполне ни историком, ни его коллегами, можно считать методологическим прорывом, поскольку то было разрывом с привычным классовым объяснением террора в советской историографии, концептуализованным в 20–30-х годах и реанимированным спустя четыре десятилетия («мелкобуржуазная революционность» у приверженцев «деякобинизации по-советски»).
Е.Г. Плимак, который, подобно В.Г. Ревуненкову, отстаивал мелкобуржуазную сущность якобинского терроризма, с наступлением Перестройки нашел новый классовый коррелят и для якобинской, и для большевистской деформации: «Не следует ли признать, что в революциях роковую роль играет люмпенский слой, деклассированные элементы, от кого бы они ни откололись – от рабочего класса, буржуазии или дворянства? Люмпены дали нам Сергея Нечаева и Сталина, люмпенский элемент в лице последнего проник на самую вершину власти».
Специалисты по Французской революции возражали против новой «классовой модели». Кожокин, автор двух монографий о социальных низах, напомнил, что «сентябрьские убийства», наиболее одиозные деяния «той» революции, «совершили отнюдь не люмпены», что документировано участие «добропорядочных буржуа», домовладельцев, ремесленников, квалифицированных рабочих. «Винить во всем плохом люмпена, – заключил он, – значит создавать претендента на образ врага для ответа на вечный вопрос “кто виноват?”»[1208]1208
Время предвосхищений // Знание – сила. М., 1989. № 7. С. 34.
[Закрыть].
Адо поддержал молодого коллегу, напомнив об историографической традиции «во всем плохом во французской революции винить люмпенов», которую с равным энтузиазмом поддерживали и противники революции, и ее сторонники. «Размах разрушений и цена революции действительно зависели от степени цивилизованности масс»[1209]1209
Там же. С. 32, 34.
[Закрыть], – подчеркнул Адо, отметая «классовую модель» и вводя, как бы походя, еще одну культурно-историческую категорию «цивилизованности».
В то же время Ревякин указал на устойчивость такой социально-психологической категории, как «стереотипы массового сознания», подчеркнув, что и она может стать ключом к пониманию феномена террора. Историк обратил внимание на сходство террористической логики Марата и мотивов популярности смертной казни в массовом сознании советского общества конца ХХ века[1210]1210
Актуальные проблемы… С. 247.
[Закрыть].
Более широко и заметно альтернатива классовому подходу выстраивалась в политологическом анализе. В соответствии с общемировой тенденцией, в том числе с процессами «деякобинизации» во французской историографии, у молодых советских историков отчетливо выявилась эволюция от социально-экономической детерминированности («экономоцентризм» или «экономический материализм») к самоценности политической сферы. Такие категории, как «государство», «власть» обретали свою логику эволюции, внеклассовую (или надклассовую) природу. А заодно в повестку дня входил радикально альтернативный формационному цивилизационный подход.
Кожокин, сопоставляя Французскую и Российскую революции, сосредоточился на различиях и объяснил их «духом нации». «Подобно французской, российская революция началась, – утверждал Кожокин, – во имя свободного развития гражданского общества… Однако ключевая для установления демократии и правового государства теория народного суверенитета в России не получила ни развития, ни признания. Зато изначально чрезвычайно силен был антикапиталистический заряд».
Антикапитализм Российской революции Кожокин объяснил сочетанием факторов духовного порядка. Во-первых, антибуржуазностью, которая «пронизывала всю российскую культуру»: от Толстого до Маяковского, от Владимира Соловьёва до Константина Леонтьева (именно литературе российское общество обязано образом «пошлого буржуа», мещанина). Во-вторых, мессианством: «В России 1905–1917 годов обществу казалось, что о буржуазном царстве разума уже все известно. И великая нация не желала идти по чужому пути». Она выбрала социализм как «путь в незнаемое, путь в будущее, достойное великой нации». Идея социализма как новая ипостась российского мессианства «примиряла славянофилов и западников, она включала в себя и исключительность российской судьбы, и европейскую цивилизованность»[1211]1211
Французская революция – 200 лет спустя // Новое время. 1989. № 28. С. 38–39.
[Закрыть].
Сочетание национальной исключительности («судьбы», «духа») с «европейской цивилизованностью» становилось ключом к пониманию Российской революции. Сам автор делал упор на возможность исторического выбора, конкретно – между капитализмом и социализмом. Но последний оказывался для России, провозглашал Кожокин, национальной идеей, обусловленной ее культурным прошлым. Подобное прочтение национальной судьбы, разумеется, было идеологически оправданно, соответствуя курсу на сочетание социализма (как «исключительности») с общечеловеческими ценностями («цивилизованность»).
Этот проект цивилизованного социализма был отброшен спустя всего лишь два года, чтобы возродиться в настроениях нынешней политической элиты спустя два десятилетия в виде модернизированного и модернизующего этакратизма. Только «поверхностный взгляд» может усмотреть в Русской революции «некий аналог Великой французской революции», – заявил руководитель оргкомитета празднования 100-летия Революции 1917 г. ректор МГИМО академик А.В. Торкунов. «Было создано мощное государство СССР, ставшее преемником исторической России. Государство стало организатором и всепроникающей силой своеобразной модернизации, которая была осуществлена на российской почве, сплотив входившие в него народы, мобилизовав все силы, это государство с поддержкой союзников одержало величайшую победу над фашизмом… Революционный процесс своими корнями уходил в цивилизационную специфику России с ее общинной основой, с ее стремлением сравняться с Европой, войти в нее на равных, и в то же время постоянной опаской чрезмерной вестернизации (курсив мой. – А.Г.)»[1212]1212
Выступление Анатолия Торкунова на заседании Оргкомитета, посвященного 100-летию революции 1917 года. – Режим доступа: http://rushistory.org/stati/tribuna/vystuplenie-sopredsedatelya-rossijskogo-istoricheskogo-obshchestva-av-torkunova-na-zasedanii-organizatsionnogo-komiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-meropriyatij-posvyashchennykh-100-letiyu-revolyutsii-1917-goda-v-rossii.html
[Закрыть]. Итак, Семнадцатый год – это модернизация без вестернизации!
В общем, как резюмирует активный участник обсуждений 1988–1990-х годов Александр Викторович Чудинов, советские историки Французской революции «находились на распутье: с одной стороны, они еще и не помышляли о том, что когда-либо смогут выйти за пределы марксистской парадигмы, в лоне которой произошло их профессиональное становление, с другой – они уже остро ощущали невозможность дальнейшего развития науки в жестких идеологических рамках и всеми силами стремились эти рамки раздвинуть»[1213]1213
Чудинов А.В. Французская революция: История и мифы. М., 2007. С. 131.
[Закрыть].
Несомненно, юбилейные обсуждения продемонстрировали энергичное стремление к обновлению. В.П. Смирнов прав: «Уже проявились характерные тенденции постсоветской историографии». Была, однако, особенность, отличавшая этот этап от последовавшего за августом 1991: даже приверженцы подходов, расходившихся с советской традицией, как правило, старались не акцентировать своего расхождения с той версией марксизма, которая была ее теоретической и мировоззренческой основой.
«Все объявляли себя “марксистами”, но, – считает Смирнов, – фактически в той или иной степени находились под влиянием “ревизионистского” направления французской историографии»[1214]1214
Smirnov V. L’image de la Révolution française dans la l’historiographie post-soviétique // Pour la Révolution française. Rouen, 1998. P. 541–545.
[Закрыть]. В ходу были рассуждения о многообразии точек зрения, о «диверсификации» проблематики (Адо), наиболее смелые заговаривали о необходимости плюрализма. Последний при этом, как мы видели на примере Сытина (гл. 8), толковался по-разному.
Юбилей 200-летия продемонстрировал необходимость воссоздания историографической полноты. Была подчеркнута актуальность вклада тех историков прошлого, которыми советская историография упорно пренебрегала, если не занималась разоблачением. Адо сформулировал вывод, что советская историография была частью – хотя и особой – «классической» традиции. И объективно это было так. Но субъективно, по оценке Черняка, советские историки «не рассматривали себя частью мировой исторической науки»[1215]1215
Актуальные проблемы… С. 256.
[Закрыть]. Это выражалось и в критике «отступлений» представителей «классической» традиции, и особенно в неприятии подходов вне этой традиции, прежде всего «ревизионистской» линии.
На юбилейном обсуждении, в частности в Институте всеобщей истории, был сделан серьезный шаг к выходу из идеологической изоляции. Родилось понимание, что «“автаркия” отечественной науки неизбежно обречет ее на растущее отставание от мирового уровня»[1216]1216
Чудинов А.В. Назревшие проблемы… С. 74.
[Закрыть]. Собственно уже Адо признал справедливость «ревизионистской» критики в таких моментах, как увлечение советской историографии якобинцами и социальными «низами», выявлением разрыва с дореволюционным обществом и разрушительными аспектами революционного насилия. Молодые историки были настроены к конструктивному восприятию «ревизионистского» движения. При этом ученики Адо склонялись, можно сказать, к акцентированию множественности исторической истины или, точнее, допустимости различных форм ее вербализации.
Пименова, например, констатировала, что между марксистами и «ревизионистами» нет принципиального расхождения в понимании исторического смысла якобинского периода: «Идея “заноса” представляет всего лишь вариант известного высказывания Ф. Энгельса о том, что Французская революция в период якобинской диктатуры вышла за пределы непосредственно достижимых задач буржуазной революции». Разница в том, что для первых это «позитивное явление», а для вторых – «негативное», т. е. различие «не в научных подходах, а в ценностных ориентациях».
Очень интересным было последовавшее за этой констатацией разъяснение, где Людмила Александровна показывала определяющее влияние ценностей на подходы: «В одном случае революция как таковая предстает высшей ценностью, воплощающей абсолютное добро, и служит критерием для оценки исторических событий и поступков людей, то есть положительно оценивается то, что было революционным, политически радикальным; отсюда проистекает идея восходящей линии революции и оценка якобинской диктатуры как ее высшего этапа. В другом случае в качестве высшей ценности выступают права человека и положительно оценивается то, что гарантирует их, а то, что их ущемляет, рассматривается как вредное, исторически бесплодное (курсив мой. – А.Г.)».
«Историку, занимающемуся изучением Французской революции, – заключала Пименова, – стоит задуматься, какие ценности лично ему ближе (курсив мой. – А.Г.)[1217]1217
Актуальные проблемы…. С. 96–97.
[Закрыть]. Чувствовалось, что Людмила Александровна определилась с личными ценностями, и потому, возможно, сопоставление «революция как таковая» vs «права человека» выглядит не вполне корректным, ведь и марксисты оценивали революцию не только per se, но и как реализацию «завоеваний».
Принципиальным различием оказывалось здесь то, что марксисты делали упор на завоевании социальных прав, фактически игнорируя проблему индивидуальных прав, процесс освобождения личности. Фундаментальным было и другое различие, которое тоже выявилось в оценке якобинской диктатуры: марксистская, прежде всего советская историография сосредоточивалась на проблематике государственной власти, тогда как оппоненты – на формировании гражданского общества.
Главное Пименова сказала: для советских историков наступало время выбора, который становился самоопределением личности ученого. О том же, но другими словами и исходя из иного опыта говорил ее учитель: «Новое мышление вооружает нас в размышлениях о том, что из наследия Французской революции сохраняет немеркнущую ценность и что должно быть рассмотрено именно как присущее лишь той эпохе (что следует, в частности, отнести к тем кровавым формам исторического творчества, которые мы не можем принять сегодня)».
Назвав это «вопросом научного и общественного выбора каждого историка», Адо заключал: «В наши дни, когда для исследователя наступила пора раскованного, свободного от идущего извне науки принуждения и есть возможность думать и писать без внутреннего и внешнего цензора… этот выбор является реальной возможностью»[1218]1218
Великая французская революция и современность. С. 150.
[Закрыть].
Трудно переоценить значение того обстоятельства, о котором говорил Адо. Торжество «нового мышления» означало, конечно, освобождение от уз культуры партийности, сковывавших исследовательскую мысль нескольких поколений советских ученых, но оно же вводило новую регламентацию – запросы активной части стремительно формировавшегося гражданского общества. Как выразился Черняк, историк, уклоняющийся от этической оценки террора и якобинской диктатуры, рискует не найти себе «достойного читателя и слушателя»[1219]1219
Актуальные проблемы…. С. 257.
[Закрыть].
Адо в полной мере ощущал давление этой реальности. Более того, по-человечески он был склонен именно к моральной оценке исторических деятелей и их политики. «Какой же чудовищный, античеловеческий режим породила советская действительность после 1917 года»[1220]1220
Цит. по: Смирнов В.П. От Сталина до Ельцина: Автопортрет на фоне эпохи. М., 2011. С. 420.
[Закрыть], – записывал он в своей рабочей тетради 6 ноября 1988 г. В отношении оправдания Сталина победой в Отечественной войне, масштабными сдвигами в экономике и т. д. Адо был категоричен: «Преступления ничем оправдать нельзя»[1221]1221
Там же. С. 480.
[Закрыть]. Прочитав уже после 1991 г. биографию генерала Волкогонова, разоблачавшую Ленина, Адо был в негодовании от «поразительной безответственности» вождя революции[1222]1222
Бовыкин Д.Ю. А.В. Адо: научная эволюция… С. 284.
[Закрыть].
Тем не менее Адо сопротивлялся морализации и последовательно стремился отстоять в условиях беспрецедентной «дереволюционизации» принцип научности, требование историзма. Принимая свободу выбора как завоевание Перестройки, он возражал против полной «смены вех», против «поворота на 180˚» в оценке якобинства, отвергал тенденцию «от идеализации и прославления якобинцев… перейти к их безоговорочному осуждению» и тем самым «интегрироваться в очень давнюю и ныне весьма влиятельную антиякобинскую историографическую традицию». Адо предостерегал от «повторения не лучших наших традиций – на смену одним мифам создавать иные»[1223]1223
Великая французская революция и современность. С. 149.
[Закрыть].
Дело было не просто в политической конъюнктуре Перестройки, а в глубинных подвижках общественного сознания. Не случайно в научных обсуждениях 1988–1990-х гг. стал прорисовываться конфликт поколений в отношении главного вопроса – приемлемости революции как формы исторического прогресса. Тем, кто создавал советскую историографию, было свойственно, говоря словами Пименовой, ощущение «личной причастности» и к революции 1917 г., и к революции 1789 г.[1224]1224
Актуальные проблемы…. С. 96.
[Закрыть]. Вперед выходило поколение отечественных исследователей, которым это ощущение было сторонним[1225]1225
«Я, пожалуй, такого выбора вообще не делала, – ретроспективно характеризует свое отношение к проблеме Л.А. Пименова. – … К революционной традиции я просто никак не отношусь. Я ведь все время занималась и занимаюсь не революцией, а Старым порядком… Мне трудно воспринять революцию как традицию, потому что для меня это по определению, наоборот, разрыв традиции, нарушение нормального порядка, в котором существовали и к которому привыкли мои герои» (Л.А. Пименова – А.В. Гордону. 5 августа 2007 г.).
[Закрыть]. Написал я эту фразу 10 лет тому назад и поставил точку. Поспешил!
Последние годы жизни Адо с большой теплотой и пронзительностью описаны Дмитрием Юрьевичем Бовыкиным. Мои наблюдения (а мы контактировали в этот период с А.В. довольно интенсивно) в чем-то дополняют, в чем-то корректируют проделанный им анализ. Катастрофически осложнявшийся быт, это точно, буквально «заедал» жизнь. Начиналось задолго до финала. Увидел Адо как-то на мне новый костюм: «– Александр Владимирович, очень мне нравится, как Вы одеваетесь. – Анатолий Васильевич, в чем дело? Возьмите жену и идите в магазин». Адо только развел руками. И это был человек, который на заре нашего знакомства поразил меня своим стильным видом!
Женолюб и любимец женщин, он оказался в конце жизни обойденным женской заботой. Более того, перенесший несколько инфарктов профессор, занятый большой университетской работой, взвалил на свои плечи всю тяжесть семейных забот, все более осложнявшихся – болезнью жены, разладом в семье сына, отъездом за границу снохи, оставившей малолетнего внука на попечение деда. А Анатолий Васильевич очень любил внука, с трепетной нежностью он произносил само имя – Ванечка. И был очень ответственным дедушкой.
Когда в моей семье родился второй ребенок (1984), поздравив, он спросил: «Как Вы решились?». Я ответил, что решение было за женой, поскольку бремя забот ложится в основном на нее. Адо возразил: «Ну что Вы? Это же такая ответственность для мужчины».
Вообще Адо был чрезвычайно ответственным человеком. Переживал за состояние дел на факультете, за поручения (даже чисто формальные), за состояние науки, за учеников. Le noblesse oblige просто было разлито в его крови. Не дворянской – это верно, но очень благородной. Не участвуя в академических «играх», стоивших жизни многим, включая столь близких ему Поршнева и Манфреда, он между тем высоко ценил свой профессорский статус. Вышел как-то А.В., провожая меня, на лестничную площадку и, указав на дверь своей квартиры, молвил: «Вот здесь раньше была бы надпись “профессор Императорского Московского университета”».
И тяжело переживал деградацию этого статуса в 90-х. Адо не склонен был жаловаться, но иногда его, что называется, прорывало. Профессорское жалование, подобно всем зарплатам научной сферы, не росло, зато галопировали цены. «Не могу я это видеть, – в сердцах восклицал Адо. – Приходишь в магазин, а там новые ценники».
Существовала и элементарная проблема «достать». Моя внучка Яна была почти ровесницей Ванечки Адо. Первоочередной задачей было молоко. Дед-свояк приходил к молочному магазину в 6 утра и занимал очередь. К открытию (8 ч.) подтягивались основные силы. Вчетвером мы врывались в магазин и получали 8 пакетов (по два на нос) молока. А.В., как я понимаю, приходилось решать эту задачу одному.
Кроме тяжести быта, угнетала неопределенность, тревога за перспективы реформ, судьбу страны. В коммунистах Адо, прав Бовыкин, разочаровался окончательно после августовского путча 1991 г. Опасной виделась и угроза справа. А.В. с омерзением, другое слово трудно подобрать, воспринимал активизацию националистов. «Заглянешь в их газеты, – говорил он мне, – и чувствуешь себя каким-то гадким, противным самому себе. Будто тебя в чем-то вымазали».
Бовыкин пишет, что Перестройка и особенно постсоветский период оказались для Адо «временем наиболее активной переоценки ценностей». Могу сказать, что у этого процесса был и международный контекст. Сошлюсь на впечатления от поездки в Лейпциг в октябре 1989 г. на 80-летие Вальтера Маркова. Первым был вопрос: «А почему не приехал Адо?». А.В. Чудинов напомнил о том, как располагал А.В. к себе французов, то же было с немцами. Профессор ведущего университета страны, автор исторического труда, название которого было на слуху, Адо еще располагал необыкновенной человеческой привлекательностью. Эта аура пересекала все границы, воздействуя на людей различных взглядов и интересов в жизни.
В Лейпциге, где он побывал несколькими годами раньше, Адо ждали по-разному. Не скрою, больше всех опечалился бывший центрфорвард нашей истфаковской (в ЛГУ) команды 1957–1958 гг., ражий детина, видимо склонный к Бахусу в хорошей компании. По-другому ждал академик Манфред Коссок, лидер историков-новистов ГДР. В городе, охваченном мощным народным движением, буквально сотрясавшим основы политической системы, он держался, по моему наблюдению, совершенно невозмутимо[1226]1226
Очень располагавший к себе человек, мужественно превозмогавший тяжелую болезнь, Коссок вызывает у меня глубокое сочувствие. Не знаю, как он оценивал протестное движение, сломавшее систему, которой он был предан, лишившее его статуса, работы, ускорившее его кончину. Разговоров об этом, по крайней мере в моем присутствии, не велось, но краем уха слышал, как Коссок рассказывал какую-то байку о советском офицере французским коллегам. Они, кстати, были на юбилее Маркова представлены достойно (Мишель Вовель, Ги Лемаршан, Клод Мазорик), отдавая долг старейшине историков-марксистов, с которым у них были тесные деловые и товарищеские отношения.
[Закрыть].
На прощание он мне сказал, что ждет от Адо поддержки идеи международного фронта для противостояния враждебным идеологическим течениям в исторической науке и прежде всего для отпора «ревизионистской» историографии[1227]1227
«М. Коссок, – писал я в отчете о командировке, – нашел, что в последнее время наметилось некоторое ослабление в сотрудничестве между историками ГДР и СССР и выразил надежду, что советская сторона предпримет активные усилия в этом направлении, тем более что такое развитие в современной идеологической обстановке очень важно и чрезвычайно актуально» (Отчет ст.н.с. Отдела стран Азии и Африки А.В. Гордона о научной командировке в ГДР 9–19 октября 1989 г. 25.Х.89). Из личного архива.
[Закрыть]. Вероятно, нечто подобное и предчувствовал Адо, отказавшись от поездки в Лейпциг. Когда я доложил, что от него требуется, он только усмехнулся. Оба мы прекрасно ощущали абсолютную несвоевременность антиревизионистских «пактов» в условиях Перестройки.
Кстати, то самое народное движение, которое мне довелось видеть тогда в Лейпциге – «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» – совсем не напоминало «бунт бессмысленный и беспощадный», жакерии, описанные Тэном и проанализированные Адо. По контрасту с архетипической яростью толпы впечатлял мерный шаг десятков тысяч людей. Шагающие в неудержимом марше дисциплинированные колонны! Я не знаю вожаков, наверное, то были такие же militants, как при выступлениях парижских секций. Однако был своеобразный вдохновитель – лидер советской Перестройки. Время от времени из почти беззвучно маршировавших колонн раздавалось как выдох «Гохби». Народное движение апеллировало за санкцией к советскому руководителю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.