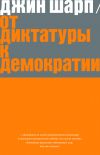Текст книги "Историки железного века"

Автор книги: Александр Гордон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
О том, что Адо на высшей точке взлета своего творчества оставался в русле советского марксизма, свидетельствует, на мой взгляд, участие в идеологической борьбе с «ревизионистами» и, особенно многозначительно, его критика эволюции Ричарда Кобба.
Профессор ведущего советского университета принял активное участие в развернувшейся в СССР в 70-х годах идеологической кампании против антикоммунизма и антимарксизма, выбрав свои мишени. То были Коббен, Фюре, Ле Руа Ладюри и менее видные историки соответствующего направления[1148]1148
Критика начиналась с библиографических заметок Адо в «Вопросах истории» (1968–1973). Затем последовали обобщения: Адо А.В. Современные споры о Великой французской революции // Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1977; Его же. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и ее современные критики // ННИ. 1981. № 3 (то же: Социальные движения и борьба идей. М., 1982. С. 41–70); Его же. Великая французская революция и ее современные критики // Буржуазные революции XVII–XIX вв. в современной зарубежной историографии. М., 1986.
[Закрыть]. Не следует считать это участие вынужденным в силу известного принципа партийности советской науки.
У выдающегося советского историка, сформировавшегося в марксистской школе и создавшего свой капитальный труд о крестьянских движениях на основе классово-формационного подхода, безусловно преданного революционной традиции, были и личные мотивы для вмешательства в идеологическую борьбу с «ревизионистами». «Отторжение»[1149]1149
Бовыкин Д.Ю, Анатолий Васильевич Адо. С. 75.
[Закрыть] – удачное слово, которым ученик Адо определил его отношение к критике последними основоположений «классической», марксистской, советской, наконец, историографии.
Притом советский историк стремился и умел быть добросовестным историографом. «Как правило, Адо не просто критиковал западных историков, с которыми не был согласен: он одновременно и представлял их читателю – подробно и взвешенно», – пишет Бовыкин. Соглашаясь с замечанием Т.С. Кондратьевой «он умел ценить своих противников», автор работы о взглядах и личности Адо уточняет: «Оппоненты… априорно вызывали у него уважение; единственным известным мне исключением был, пожалуй, только Р. Кобб»[1150]1150
Там же. С. 74–75.
[Закрыть].
Почему?
Далин все же находил в позиции Кобба какие-то «оправдательные» нюансы. Без сомнения, английский ученый как непревзойденный знаток департаментских архивов Франции вызывал у него определенную симпатию в противоположность Ревуненкову, которого он аттестовал как «не специалиста по истории Французской революции»[1151]1151
Далин В.М. Историки Франции XIX – ХХ веков. М., 1981. С. 80.
[Закрыть]. Между тем для последнего, решительно не соглашаясь с его утверждениями об антинародном характере якобинской диктатуры, Адо искал и находил взвешенные оценки, причем далеко не всем специалистам они представлялись убедительными.
В том-то и дело, Адо не желал серьезно полемизировать с Коббом – даже на таком критическом уровне, как разбирался с «буржуазными реинтерпретациями» Коббена и др. На памятном заседании, где Далин выступил со своим критическим докладом, перепечатанным в том же году «Французским ежегодником» (а затем в очерках «Историки Франции»), я просил Адо поддержать меня, доказывая, что принципиальных изменений в подходе Кобба не произошло. «Нет, что-то изменилось», – задумчиво повторял А.В.
А что же? Личное – нет. Кобб был мало симпатичен Адо и тогда, когда они встречались в Париже и даже общались в тесном кругу на квартире Собуля. Это сквозило в его сдержанных оценках в ответ на мои расспросы. Из этих оценок у меня сложился образ одинокого чудака, делящего время между архивной работой и поглощением спиртного. Но последнее свойство отнюдь не повлияло на Кучеренко, который, по свидетельству В.А. Погосяна, испытывал по отношению к Коббу, с которым встречался в Париже в 1964 г., чувство уважения, не утраченное впоследствии[1152]1152
См.: Погосян В.А. Геннадий Семенович Кучеренко, каким я его помню // ФЕ. 2010. С. 433–442.
[Закрыть]. Да и Анатолия Васильевича нельзя причислить к трезвенникам[1153]1153
«А.В., – говорил он мне на одном из банкетов. – Что же Вы коньяк не пьете? Это ведь для здоровья полезно».
[Закрыть].
Остается предположить, что дело было в политической ситуации, заострившей методологические расхождения. Ведь еще в 1966 г. Адо назвал недостатком моей кандидатской ограниченность критики Собуля и отсутствие критики в адрес Кобба, «а он наиболее ярко проводит ту мысль, что… установление революционного порядка управления было равнозначно подавлению народного движения… наиболее резко… противопоставляет “якобинцев” и “санкюлотов”»[1154]1154
Адо А.В. Некоторые соображения в связи с диссертацией А.В. Гордона…
[Закрыть].
С осуждением Кобба Адо выступил в конце идеологической кампании: лишь спустя восемь лет после доклада Далина – было время подумать! – Адо поддержал далинскую критику[1155]1155
См. рецензию А.В. Адо на книгу Далина «Историки Франции»: ННИ. 1982. № 5. С. 181. Более основательно свое отношение ко «второму Коббу» Адо изложил в статье «Буржуазная ревизия истории Французской революции XVIII века» (см.: Социальные движения и борьба идей. М., 1982. С. 53–54).
[Закрыть]. Другая любопытная деталь – в критических замечаниях о Коббе он неизменно ссылался на очерк Далина.
Однако не следует преувеличивать влияние коллег. Идея поступательного торжества марксизма в его ленинской интерпретации, отстаивавшаяся Манфредом и Далиным, была близка и Адо. Его тоже радовала эволюция Собуля, тем более, что он мог считать себя причастным к ней своими работами и благодаря тесному общению. «Собуль подверг критическому пересмотру тезис Лефевра о преимущественно антикапиталистической, а потому консервативной направленности “крестьянской революции” 1789–1790 гг., который стараются взять на вооружение буржуазные историки (курсив мой. – А.Г.)»[1156]1156
Адо А.В. Французская буржуазная революция… С. 59.
[Закрыть], – писал Адо, отмечая значение эволюции французского историка в борьбе против реинтерпретаций роли народного движения в революции.
Советский историк с удовлетворением констатировал, что высокую оценку роли крестьянства, в особенности уравнительного течения, в борьбе за «демократический революционный путь решения аграрной проблемы» в «условиях буржуазной революции» разделяют представители молодого поколения, «утвердившего себя в литературе (о Французской революции. – А.Г.) в 70-е годы». Назывались имена Э. Резенде, Ф. Готье, Х. Бурстина. Положительно оценивал Адо также работы М. Вовеля, Р. Робен[1157]1157
Положительно оценив подход Режин Робен («отталкиваясь от идей Грамши») к пониманию революции как одного из, хотя и важнейшего, рубежей переходной эпохи от феодализма к капитализму, Адо даже в разгар Перестройки счел необходимым отметить: «впоследствии Робен отошла от марксизма» (Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М., 1989. С. 18).
[Закрыть], Г.Р. Икни, К. Мазорика, Г. Лемаршана. Все это укрепляло воодушевление советского историка в его противостоянии «ревизионистскому» переосмыслению революции.
С таких триумфаторских позиций Адо оценил научную эволюцию Кобба. Вслед за Далиным, он констатировал перерастание «анархо-индивидуализма» оксфордского профессора в «глубоко отрицательное отношение к демократическому движению в революции конца XVIII века, к якобинцам и якобинству» и даже – в «отказ от научного социального анализа Великой французской революции как исторического явления»[1158]1158
Адо А.В. Рец. на: В.М. Далин. Историки Франции XIX – ХХ веков. М., 1981 // ННИ. 1982. № 5. С. 181.
[Закрыть].
Показательно, что советские историки заклеймили «отступничество» Кобба от «прогрессивной» историографии Запада, когда последняя в лице Собуля и его круга не усматривала в его работах casus belli, предмета для разрыва отношений. Кобб участвовал вместе с друзьями и учениками Собуля в праздновании его юбилея (1974 г.)[1159]1159
Мазорик К. Альбер Собуль, историк и гражданин // ФЕ. 2002.. С. 130. См. также: Rudé G. Albert Soboul: un témoignage personnel // AHRF. 1982. N. 250. P. 557 (на свидетельство Рюде о хороших отношениях Кобба с Собулем и с ним самим мое внимание обратил В.А. Погосян).
[Закрыть]. Можно ли сказать, что партийность на французский манер была менее обязывающей и, по крайней мере, более широкой?
«Наш друг французский прогрессивный историк Клод Виллар[1160]1160
В то время зам. директора Института Мориса Тореза – французский аналог Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
[Закрыть] совсем недавно почти в категорических выражениях потребовал, чтобы историки-марксисты вообще отказались от термина “буржуазный ученый”. Я не пошел бы так далеко… этот термин имеет право на существование»[1161]1161
Манфред А.З. Некоторые тенденции зарубежной историографии // Коммунист. 1977. № 10. С. 108.
[Закрыть], – писал Манфред, доказывая, вместе с тем, необходимость дифференцированного и осторожного его употребления. Для Кобба снисхождения не было.
«Хотя голос оксфордского историка звучит очень индивидуально, он по существу все же вливается в общий хор новейших буржуазных пересмотров истории революции, – уверял Адо. – … Ретроградность экономических устремлений городской массы, постоянный конфликт город – деревня на продовольственной почве – эти утверждения, обычные для многих буржуазных авторов, мы находим и у Кобба»[1162]1162
Адо А.В. Французская буржуазная революция… С. 51.
[Закрыть].
«Все же вливается»? Но ведь такую «ретроградность» подчеркивал и Собуль в классической монографии о парижских санкюлотах, а на противоречивость отношений между городом и деревней в связи с продовольственными реквизициями «революционных армий» Кобб указывал и тогда, когда считался «прогрессивным».
Нет, не кажется (да и не казалось) мне убедительным утверждение старшего товарища об «обуржуазивании» Кобба. Точнее был обозреватель приложения к «Таймс», который назвал «Полицию и народ» позднего Кобба «бунтом (a revolt)» не только против марксистской историографии, но и всех разновидностей историографического «истеблишмента». Кобб «заложил взрывчатку под мосты, по которым беспрепятственно шествовало к широким историческим интерпретациям целое поколение и правых, и левых»[1163]1163
People in revolution: thirty years of French history as Frenchmen lived them // Times literary supplement. L., 1970. 27 November.
[Закрыть].
Важнейшим из таких «мостов» я бы назвал «народное движение». Его живописали правые, начиная с Тэна, находившие в выступлениях «черни» мотив для осуждения Революции. В поддержке «народа» усматривали справедливость Революции историки из числа ее сторонников. Народное движение в облике «крестьянской революции» у Лефевра или «движения санкюлотов» у Собуля было тем предметом, в исследование которого внесла наибольший вклад левая («прогрессивная») историография ХХ века. На этот вклад не покусились даже «ревизионисты», лишь выведя за рамки Французской революции как революции буржуазной и «крестьянскую революцию», и «движение санкюлотов».
Кобб позволил себе усомниться в самой связи между категориями «народ» и «движение». Были у него предшественники? Да, но не из буржуазной историографии. Следует обратить внимание на Кропоткина, которого англичанин называл «самым проницательным историком Французской революции»[1164]1164
Ричард Кобб – Я.М. Захеру. 16 ноября 1959 г. Та же оценка см.: Cobb R. Les armées révolutionnaires. Instrument de la terreur dans les départements. Avril 1793 – floréal de l’An II. Vol. 1. Paris, 1961. P. 13. Несмотря на критику со стороны Захера Кобб не отказывался от высокой оценки Кропоткина (см.: AHRF. 1963. N 173. P. 398–399).
[Закрыть]. В своего рода «кропоткианстве» можно искать идейные истоки размежевания Кобба с советскими историками, а также с Собулем[1165]1165
Во время пребывания Собуля в Москве на Международном конгрессе историков (1970) известный отечественный кропоткинист Е.В. Старостин поинтересовался мнением французского историка. Собуль отрицал значение Кропоткина для современных исследований революции, назвав его труд «публицистикой» (из моей беседы с Евгением Васильевичем во время совместной работы над изданием «Великой французской революции» в конце 1970-х годов).
[Закрыть].
Исходную установку Кобб формулировал почти по Кропоткину «Французская революция и в своих городских, и в своих деревенских формах была прежде всего народным движением»[1166]1166
Cobb R. The people in the French revolution // Past and present. L., 1959. N 15. P. 60.
[Закрыть]. Между тем в исследовании «революционных армий» он обнаружил, что революционные выступления оказывались делом рук политически активных меньшинств.
Следующим шагом Кобба было переключение внимания с революционных militants (так Собуль назвал активистов выступлений парижских секций) на параллельное существование в народной среде иных меньшинств (контрреволюционных, криминальных). В конечном счете, Кобб ставил задачей прояснить, что из себя представляла народная масса, какими были ее образ жизни в революционную эпоху, устремления и склонности простых людей и в какой степени их выражали те или иные меньшинства. Поэтому английский историк был совершенно прав, когда утверждал, что, поставив под вопрос категорию «народное движение», он не изменил предмету «народная история»[1167]1167
Cobb R. La protestation populaire en France (1789–1820). Paris, 1975. P. 180–181 (фр. перевод английского издания: Police and people. Oxford, 1970). P. 10.
[Закрыть].
Заметим, что вопреки упрекам Далина и Адо Кобб отнюдь не отказывал в самом праве на существование фундаментальной для советских историков категории. «Выражение “народное движение”», – писал он, – уже само по себе есть концепция (un thèse)… Оно подразумевает значительную степень организованности и идейности (orientation), существование каких-то элементов признанной программы и главное – осознание участниками своей принадлежности к движению и своей коллективной идентичности». Проанализировав три десятилетия французской истории (1789–1820 гг.), Кобб заключал, что о существовании «народного движения такого порядка» можно говорить лишь применительно к временно́му промежутку в один год – с апреля 1793 г. по апрель 1794 г.[1168]1168
Ibid. P. 180–181.
[Закрыть].
С таких весьма максималистских позиций Кобб предлагал видоизменить исследовательский подход, разработанный Собулем (а заодно советскими историками). Вопрос, «почему народное движение потерпело поражение в ходе Французской революции», он находил некорректным, поскольку таковое, по его убеждению, «не имело ни малейшего шанса на успех». И вопрос вопросов, «как стало явью подлинно народное движение», потому что, полагал Кобб, «именно это самый удивительный факт истории Французской революции»[1169]1169
Ibid. P. 11.
[Закрыть].
Другим своим отличием от Собуля, Рюде, Тенессона Кобб называл перемещение акцента с целей и организационных структур народного движения на «тип ментальности и поведения». К такому повороту он обнаруживал склонность изначально. «Санкюлотерия не была классом», – утверждал Кобб, и это не совокупность слоев «городского общества XVIII века». «Это – продукт революции», и это «скорее политическая позиция, определенный моральный подход к политическим проблемам, чем социальная общность»[1170]1170
Cobb R. The people in the French revolution. Р. 67.
[Закрыть]. Критическое отношение Кобба к тому, что он называл «социологией», позже обострилось, направив его эволюцию в сторону исторической антропологии.
В основе разрыва Собуля с Фюре, по мнению Клода Мазорика, «лежало, прежде всего, недопонимание»[1171]1171
Мазорик К. Указ. соч. С. 132.
[Закрыть]. Я очень сомневаюсь, что можно объяснить недопониманием критику взглядов Фюре или поздних работ Кобба советскими историками. Далин и Адо хорошо понимали, что английский историк предлагает иную парадигму «народной истории» революции, но не были готовы ее допустить как альтернативу. И бабувистика Далина, и крестьянские исследования Адо были проникнуты отождествлением «народной истории» революции с революционной историей народа, иначе – с революционной традицией. Следуя этой логике, Адо исключил из первого и второго издания своей капитальной монографии контрреволюционные выступления французского крестьянства, притом что считал их не менее значительным явлением. Время для исследовательского постижения Вандеи тогда еще не пришло.
Трактуя «народную историю» как историю борьбы народа с его угнетателями, советские историки превратили изучение революции в иллюстрацию решающей роли масс в историческом процессе. Важнейший постулат исторического материализма выявлялся в категории «народного движения», которая, в свою очередь, приобретала не только методологическое, но и аксиологическое значение. В послевоенной[1172]1172
В отличие даже от работ 20-х годов, когда, например, Захер или Старосельский позволяли себе критику «экономической реакционности» требований городских низов.
[Закрыть] советской историографии Французской революции «народное движение» стало восприниматься как постоянно действовавший институт, наделенный неизменными и слабо дифференцированными в социальном отношении атрибуциями.
Этот институт изображался главным двигателем и самостоятельным, наделенным одушевленностью историческим субъектом. «Мощное народное движение властно ставило вопрос о дальнейшем развитии революции; оно также недвусмысленно указывало и путь, которым следовало бы идти (курсив мой. – А.Г.)»[1173]1173
Адо А.В. К вопросу о социальной природе якобинской диктатуры // ННИ. 1972. № 1. С. 151.
[Закрыть], – так определял Адо ситуацию, возникшую на рубеже 1792/93 г., и путь, приведший к революционной диктатуре.
Под влиянием «ревизионистской» критики советский историк в 80-х годах высказался за дополнение подхода к революции «снизу» изучением позиции «верхов» – дворянства и буржуазии. В отчете об историографической конференции 1983 г. читаем: «А.В. Адо, отметив научную ценность традиционного для советской и зарубежной марксистской науки интереса к народным движениям, левым идейно-политическим течениям (якобинизму, уравнительству, утопическому коммунизму и т. п.), подчеркнул необходимость исследования роли дворянства и буржуазии в революции»[1174]1174
Модель В.А., Стрельченко Н.В., Супоницкая И.М. Марксизм-ленинизм и развитие исторической науки в Западной Европе и Америке // ВИ. 1983. № 5. С. 115.
[Закрыть].
Между тем критику со стороны Кобба Адо так и не воспринял. И в переиздании своей монографии остался верен трактовке крестьянской истории революции как истории крестьянского (революционного) движения. Очень важно, думаю, что вступление Адо в полемику с Коббом – через 8 лет и на излете идеологической кампании – совпало с подготовкой второго издания монографии. Могу предположить, что побудительным фактором для Адо сделались размышления по поводу переиздания. В 80-х годах крестьянская революционность рассматривалась в мировой науке уже не так, как в 60-х, в пору дискуссии Мунье с Поршневым и выхода в свет первого издания книги Адо.
Я имею в виду не идеологическую сторону, заостренную в полемике с Коббом, а эпистемологическую, конкретно поворот от социальной истории к исторической антропологии, от классов к общностям, от структур к ментальностям. Пытался я обратить внимание Анатолия Васильевича в эту плоскость, приносил ему свои первые историографические работы по «peasant studies», бурно развивавшемуся тогда в англоязычной литературе междисциплинарному направлению исследований. А.В. остался равнодушен к крестьяноведению, хотя сомнения, видимо, были, судя по тому, что, делясь впечатлением от моей рецензии[1175]1175
Мою рецензию на второе издание А.В. очень ждал, и, как мне показалось, она его разочаровала, пожалуй, этим подспудным оспариванием классово-формационной парадигмы, которое он почувствовал.
[Закрыть], сказал: мне бы пришлось писать совершенно новую работу. Это правда.
Юбилей 200-летия Французской революции совпал у нас с Перестройкой, которая стала эпохальным явлением в том числе в научной жизни. Подготовка начиналась еще по прежним доктринальным канонам, а завершалась уже в свете «нового мышления»[1176]1176
Перипетии этого процесса я рассмотрел в монографии «Великая французская революция в советской историографии» Гл. 7.
[Закрыть]. Был, как следовало ожидать, поток статей, сборников и иных публикаций. Был задуманный в качестве компендиума достижений советской историографии мемориальный фолиант «Великая французская революция и Россия» на русском и французском языках, выпущенный издательством «Прогресс» прямо к юбилею (1989).
Но мне хочется остановиться на вкладе «школы Адо» в виде серии изданий, подготовленной историческим факультетом Московского университета по инициативе Адо и преимущественно силами его учеников[1177]1177
Кожокин Е.М. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до революции 1848 года. М., 1985; Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. М., 1986; Адо А.В. Крестьянство и Великая французская революция. М., 1987 (расширенное и переработанное издание монографии 1971 г.); Буржуазия и Великая французская революция / Гусейнов Э.Е., Кожокин Е.М., Ревякин А.В., Туган-Барановский Д.М. М., 1989; Посконин В.С., Смирнов В.П. Традиции Великой французской революции в общественно-политической жизни современной Франции. М., 1991.
[Закрыть], а также капитальной хрестоматии, наиболее полного издания документов Революции в СССР[1178]1178
Документы истории Великой французской революции. (1789–1799) / Отв. ред. А.В. Адо. Т. 1–2. М., 1990–1992. Сост.: А.В. Адо, Н.Н. Наумова, Л.А. Пименова, Е.И. Федосова, Г.С. Черткова. (Они же были переводчиками документов).
[Закрыть]. Среди монографий выделялось, естественно, второе издание труда Адо, переведенного спустя десятилетие – очевидная иллюстрация запаса историографической прочности! – на французский и немецкий языки[1179]1179
Ado A. Paysans en révolution: Terre, pouvoir et jacquerie. 1789–1794 / Préface de Michel Vovelle. Paris, 1996; Ado A.V. Die Bauern in der Französishen Revolution. 1789–1794. Leipzig, 1997.
[Закрыть].
Cерия монографий истфака МГУ была задумана в рамках нормативного классового подхода; однако результаты исследований вышли за пределы традиционных положений. Подвергнув основные части французского общества углубленному классовому анализу, исследователи констатировали, что ни одна из них не консолидировалась в революционную эпоху по типу экономических классов, специфичных для капитализма, и потому отношение этих социальных образований к революции не укладывается в привычную схему ее движущих сил.
Л.А. Пименова показала, что дворянство не было единым «классом феодалов», а представляло совокупность различных слоев и групп. От других частей общества дворяне отличались не столько экономически, отношением к собственности, сколько особыми правами, превратившимися к концу Старого порядка в одиозные для общественного мнения привилегии. Отметив революционизирование значительных групп дворянства в конце Старого порядка и политико-мобилизующую роль дворянской оппозиции королевской власти, автор оспорила «классическую» схему глубокой реакционности и изначальной контрреволюционности этого сословия[1180]1180
Пименова Л.А. Указ. соч. См. также: Лебедева Е.И. Собрания нотаблей кануна Великой французской революции и эволюция политических позиций дворянства // ФЕ. 1985. М., 1987; Берго И.Б. Парламенты и политическая борьба во Франции накануне Великой французской революции // ННИ. 1988. №. 6.
[Закрыть].
Из других работ явствовало, что и третье сословие не представляло единой политической силы. Существенными оказывались противоречия не только между буржуазией и крестьянством, буржуазией и городскими низами, но и внутри каждого из этих образований. Замещая схему классовых агентов исторического процесса как сил, действующих единообразно в строго определенном политическом направлении, обусловленном отношением к средствам производства, воссоздавалась картина отдельных социальных миров, части которых пришли в сложное взаимодействие. Представителей этих миров объединял, в первую очередь, образ жизни, а в защите своих интересов они руководствовались специфическим мировосприятием, в котором средневековые представления об общественном порядке сочетались с ожиданиями и устремлениями, порожденными «веком Просвещения».
Так происходили восполнение и коррекция утвердившейся схемы: контрреволюционное дворянство, оппортунистическая буржуазия, сначала революционная, а затем – в силу позиции своих важнейших групп – контрреволюционная, последовательно революционные низы. Хотя авторы по традиции согласовывали свои выводы с принятой схемой, они своими исследованиями создали предпосылки для более дифференцированного подхода.
Знаменательным явлением юбилейного периода стали многочисленные и разнообразные конференции. Большое количество материала, опубликованного в нашей стране и за рубежом в связи с юбилеем, само по себе требовало коллективного осмысления эволюции исторической мысли и формулирования индивидуальной исследовательской позиции. Однако решающим фактором, повлиявшим на историографический процесс, сделалась идеологическая обстановка Перестройки.
В официальной доктрине претерпела своеобразное, подготовленное самосознанием «шестидесятников» преломление концепция революции-прототипа. В выступлениях М.С. Горбачева и А.Н. Яковлева вновь зазвучала революционная фразеология, но это уже был не памятно-зловещий ряд «диктатура – террор – враг (народа)», а «права человека», «свобода, равенство и братство».
Тем не менее именно диктаторско-террористическая рецепция Французской революции оказалась отправной в ее восприятии в условиях Перестройки. Отвергая по этическим и гуманистическим мотивам этот идеологический конструкт, советская историография на последнем этапе своего существования отвергла по сути тот культ насилия, в который превратилась Французская революция в ее версии 30-х годов. Заодно, однако, под очевидным влиянием прежде всего отечественного («трагического») опыта утверждавшееся в изучении истории либеральное сознание проявляло себя «реакцией отторжения» (Адо)[1181]1181
Великая французская революция и современность: Материалы междунар. науч. конф. (23–24 ноября 1989 г.). М., 1990. С. 148.
[Закрыть] по отношению к якобинству, а также к революции в целом и революциям вообще.
Зарождалась та радикальная «смена вех», что в полную силу развернулась после 1991 г., и этот мощный идеологический процесс не мог не затронуть историографию. Начался, по слову Е.М. Кожокина, «период самоуничижения и нигилизма»[1182]1182
Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции (материалы «круглого стола» 19–20 сентября 1988 г.). М., 1989. С. 251–252.
[Закрыть]. Такой нигилизм в научной публицистике и особенно популярной литературе оборачивался всплесками суровой, порой уничтожительной критики в адрес советских историков Французской революции. Выстроилась схема основных пунктов критики: революция – якобинская диктатура – террор. В центре оказались два последних, по отношению к которым советские историки Революции обвинялись в «идеализации».
«Еще до войны, – говорил на «круглом столе» в ИВИ Н.Н. Болховитинов, – в советской историографии прочно утвердилась концепция, однозначно прославившая революционный террор, якобинскую диктатуру и ее лидеров». «Понятно, – допускал академик, – что в годы сталинизма практически не было возможности возражать против тезиса об обострении классовой борьбы, полного и абсолютного оправдания якобинского террора». Но, возмущался известный американист, «якобинская диктатура и ее лидеры продолжали оставаться… объектами восхваления» и после благодаря «школе московских франковедов» и ее лидеру А.З. Манфреду[1183]1183
Там же. С. 21–22.
[Закрыть].
Забавно выглядит сейчас, что либерально настроенный Николай Николаевич Болховитинов поддержал обвинения в адрес пресловутой «московской школы» В.Г. Ревуненкова, который в последних работах не скрывал своих сталинистских симпатий. Но тогда все это выглядело совсем не забавно. То, что не договаривал Болховитинов, уже зазвучало в прессе: «Не были ли безудержная идеализация личности и политики Робеспьера со стороны революционной историографии одним из факторов трагического развития идей революции в двадцатых – тридцатых годах?»[1184]1184
Сергеев В. Тигр в болоте // Знание – сила. 1988. № 8. С. 71, 74.
[Закрыть].
Исторические передержки, связанные с отождествлением различных ситуаций, были замечены. Опровергая версию «безжалостного тигра», «холодного тирана и интригана» наподобие Сталина, Адо напомнил канву термидорианского переворота: «Робеспьер знал своих врагов, ведал даже подробности заговора, но ничего не предпринимал». Историк объяснял это именно особенностями личности, отличавшей якобинского лидера нравственностью, «пониманием, какой кровавой трагедией, при его участии, обернулась революция»[1185]1185
Время предвосхищений // Знание – сила. 1989. № 7. С. 36.
[Закрыть].
Адо назвал антиякобинскую риторику в осуждении советской историографии эмоциональной «реакцией на преступления сталинизма»[1186]1186
См.: Великая французская революция и современность… С. 149. Эту же оценку см.: Адо А.В. Французская революция в советской историографии // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998. С. 317.
[Закрыть]. В новом варианте воспроизводилось злополучное проецирование идейных установок и моральных ценностей одной эпохи на иную. «Наше сознание, – говорил Адо, – как и все почти современное европейское сознание, порядком «дереволюционизировано», и нам трудно воспринять и ощутить… мышление революционеров, совершавших великую революцию, и людей – историков, которые непосредственно вышли из этой революции и писали о другой, тоже великой революции – Французской»[1187]1187
Актуальные проблемы… С. 235.
[Закрыть].
О необходимости историзма в оценке предшественников говорила и представитель молодого поколения Л.А. Пименова: «Советская историография Французской революции создавалась людьми, которые сами ощущали себя революционерами… Преимущественное внимание к якобинской диктатуре… было естественно и закономерно для людей, которые сознательно или неосознанно отождествляли себя с якобинцами»[1188]1188
Там же. С. 96.
[Закрыть].
Вспоминая те годы и перечитывая спустя почти три десятилетия сказанное Анатолием Васильевичем, отчетливо ощущаю сложность его положения. Что это было? Не боясь пафоса, уподоблю его позицию положению командира на капитанском мостике корабля, попавшего в шторм. По большому счету он остался единственным из советских историков Революции. Сергей Львович Сытин держался стойко, но с тем ригоризмом и элементом дидактики, которые уже не воспринимались более молодой аудиторией. Геннадий Семенович Кучеренко никогда, сколько помню, не ввязывался в острые дискуссии.
Я пребывал в смешанных чувствах. Обременительность классового подхода в советско-марксистской версии ощутил, еще завершая диссертацию «Установление якобинской диктатуры», и отказался от него, войдя на рубеже 70-х и 80-х в крестьяноведение. В диссертации же (1968) террор как принятый движитель установления диктатуры уступил место «дирижизму», вторжению власти в экономику, отвечавшему, как я проследил в документах, массовым требованиям регламентации («максимум») социально-экономических отношений. Однако подспудно я чувствовал, что все мои «инновации» не значимы и вопрос стоит в сущности о революционной традиции, от которой я не отказывался. А главное, занятый лихорадочным дописыванием монографии «Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность» (она вышла в 1989), я не успел еще сформулировать свою позицию. Умно и корректно в общем выступал Е.Б. Черняк, но он не был специалистом по Революции.
Вся острота ситуации, я это хорошо видел, тяжело переживалась Адо. Вполне настроенный в духе либерального этоса Перестройки, он не собирался отказываться от своих творческих позиций, от своего исследовательского опыта. Между тем его слова ждала аудитория, среди которой выделялись его же ученики. И речи Адо были продуманными и взвешенными. Пройдя сквозь сито идеологических пертурбаций трех десятилетий позднесоветской и постсоветской истории, я готов подписаться под многим, из того, что говорил на рубеже 80–90-х мой старший товарищ.
А.В. указывал на то, что большевистская вера в насилие была спроецирована советской историографией на Французскую революцию. А это обернулось недооценкой преемственности с обществом Старого порядка и акцентированием произошедшего разрыва с прошлым. «Мы преувеличивали, абсолютизировали реальные возможности самого акта насильственной революции, его способность коренным образом перестроить все общество, во всех его структурах сверху донизу»[1189]1189
Там же. С. 145.
[Закрыть], – самокритично за себя и за коллег-предшественников признавал наиболее авторитетный в 80– 90-х годах представитель советской историографии.
Одновременно Адо выразил опасение, как бы не произошла новая аберрация и принципы идеологической перестройки конца ХХ века не были спроецированы на реалии конца XVIII века. Это опасение выражалось им на юбилейных обсуждениях постоянно. «Имеем ли мы право судить о людях и событиях прошлого только с позиций нового мышления?» Вновь и вновь задавал этот вопрос он своим коллегам. «Кроме чувства настоящего, существует такая вещь, как историзм, – напоминал Адо. – Мы обязаны помнить о достигнутом тогда уровне цивилизованности, учитывать, насколько общество было связано выработанными в ту пору общественными и политическими структурами, могло ли, умело ли оно решать назревшие проблемы таким образом, чтобы это соответствовало нашим этическим критериям»[1190]1190
Адо А.В. Время предвосхищений // Знание – сила. 1989. № 7. С. 30.
[Закрыть].
Существуют два плана, постоянно подчеркивал Адо. Один – «революция и наша современность», когда выявляется, что «из наследия Французской революции сохраняет немеркнущую ценность» и что следует рассматривать как «присущее лишь той эпохе» и, в частности, «отнести к тем кровавым формам исторического творчества, которые мы не можем принять сегодня». Но есть и другой план – «научного исторического анализа острых и сложных проблем Французской революции в контексте ее эпохи, когда задача историка не столько дать нравственную или иную оценку, сколько объяснить и понять (курсив мой. – А.Г.)»[1191]1191
Великая французская революция и современность… С. 149–150.
[Закрыть].
Между тем смешение этих двух планов – морально-политического и научно-теоретического – происходило даже в ходе встречи специалистов за «круглым столом» в Институте всеобщей истории – наиболее содержательном мероприятии всего цикла юбилейных собраний в СССР[1192]1192
См.: Чудинов А.В. Назревшие проблемы изучения Великой французской революции (по материалам обсуждения в Институте всеобщей истории АН СССР) // ННИ. 1989. № 2. См. также: «Круглый стол» 1988 года // Его же. История Французской революции: Пути познания. М., 2017. С. 140–161.
[Закрыть]. Характерно, что там же такое смешение получило обоснование. Отвергая крайности как абсолютизации современного опыта («грубая конъюнктурность»), так и «циничного исторического релятивизма», Г.С. Черткова высказывалась за «парадоксальное сопряжение современного взгляда на вещи с пониманием его двойной исторической относительности». Только такое сопряжение, убеждала Галина Сергеевна, «ведет нас к подлинному историзму, включающему в себя наш гражданский опыт, но не подавляющему его и им не подавленному»[1193]1193
Актуальные проблемы… С. 89–90.
[Закрыть].
Восприятие реалий революционной эпохи XVIII века сквозь призму идеологической ситуации конца ХХ в. выдвинуло на первый план соотношение классового и цивилизационного подходов к Французской революции. «Общечеловеческие ценности» против «узкоклассового подхода» – таков был лейтмотив очень многих выступлений. Вдохновенно говорил Болховитинов: «Почему великие документы Французской или Американской революций надо рассматривать только как буржуазно ограниченные? Разве принципы французской Декларации прав человека и гражданина или американский “билль о правах” не выражали общечеловеческие интересы?» Напомнив программное содержание революционных актов, закладывавших основы правового государства, утверждавших демократические нормы политической жизни, провозглашавших свободу, равенство, ценность человеческой личности, ученый повторял свой риторический вопрос: «Почему же мы с такой настойчивостью доказывали и продолжаем доказывать буржуазную сущность и ограниченность этих документов?»[1194]1194
Там же. С. 34.
[Закрыть].
«Поскольку революция эта была буржуазной, на первый план выдвигался критерий “буржуазной ограниченности”», – говорил Адо, объясняя логику советской историографии «упрощенным, прямолинейным применением принципа классового подхода»[1195]1195
Великая французская революция и современность… С. 140.
[Закрыть]. Это был как бы полуответ, ибо полный ответ на поставленный Болховитиновым вопрос затрагивал принятую в советской и «классической» историографии Запада концепцию буржуазной революции и, в конце концов, полноценность классово-формационного подхода. Резко и последовательно выступая против «узкоклассового» подхода, Адо исходил вместе с тем из классово-формационной методологии.
«Размышляя о вкладе этой (Французской. – А.Г.) революции, о ее наследии, важно, – считал ученый, – различать те их составляющие, которые были вызваны к жизни историческими рамками буржуазного общества того времени, и то, что обретало надформационное, общедемократическое значение, вошло в развитие цивилизации»[1196]1196
Адо А.В. Французская революция в советской историографии… С. 313.
[Закрыть]. В сущности подобный дуализм уже стал достоянием марксистской традиции, только не сталинской 30–50-х годов, которую и осуждал Адо, а более ранней. Ленин, который в отличие от своего преемника, высоко ценил революционное наследие XVIII века, высказал эту оценку в колоритной фразе: «Для своего класса буржуазии она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему миру, прошел под знаком французской революции»[1197]1197
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.